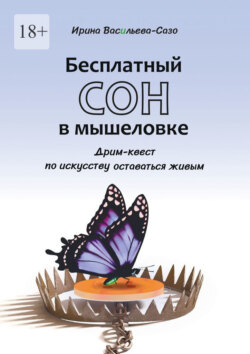Читать книгу Бесплатный сон в мышеловке. Дрим-квест по искусству оставаться живым - Ирина Васильева-Сазо - Страница 14
Глава четвертая
Последствия изгнания из рая и их психологическая интерпретация
Потеря объемного восприятия. Актуализация темы избыточной рационализации современного человека
ОглавлениеИзбыточная рациональность – первый «подарок» змея-искусителя перед изгнанием из рая.
Писать об избыточности рациональности непросто хотя бы потому, что мы к ней адаптировались и считаем ее нормальной. Более того, мы привыкли отождествлять себя с ней – со всем тем, что можно описать словами. А потому само понимание явлений зачастую сводится лишь к возможности уложить воспринимаемые явления в известные рациональные схемы. Становясь привычными, они воспринимаются достоверными.
И хотя это избыточно и неудобно, со временем мы так привыкаем к подобному неудобству и неравновесию между рациональными и нерациональными способами восприятия (о них позднее), что перестаем замечать избыточную рациональность, даже когда она ощущается телесно и чувственно как явный перекос.
Но в моменты переживания целостности, во время сна или транса, мы покидаем привычную территорию избыточной рациональности и обретаем сонастроенность с иными – многомерными – внутренними процессами, при этом лишаясь возможностей описания новых переживаний обычными словами.
Ведь мы попадаем на иную территорию – чувствительности, чувственности, ритмов, сложной пластики. И можем зачастую лишь заметить, что в нас что-то происходит – откликается, резонирует, перетекает и трансформируется, когда мы находимся «в поле». Находясь в потоке и резонируя или диссонируя с различными ритмами, которыми наполнен как сам человек, так и окружающая его Вселенная, наше состояние напоминает волны различной частоты и природы. Однако в такие моменты разум обычно теряется на «чужой территории», а потому способен зафиксировать и описать лишь отдельные фрагменты подобного состояния, которые удалось распознать из прежнего опыта, игнорируя при этом новые и неизвестные.
А между тем именно такое расширенное восприятие мира является особенно ценным. Ведь в такие мгновения мы становимся похожи на свет: нашу психику можно описать одновременно и как волну, и как частицу. Неслучайно Карлос Кастанеда использовал для таких состояний понятие «светящиеся существа».
Наша способность по-разному воспринимать мир левым и правым полушариями отчасти отражает это условное разделение на волну и частицу. Когда вступает в права правополушарное восприятие мира, мы восприимчивы и настроены на чувственные, эмоциональные, телесные и другие волны и ритмы. А левополушарность помогает нам воспринимать дискретно, выделять отдельные части, осознавать и концептуализировать.
Во время сна психика пытается компенсировать педалирование левополушарного способа дневного существования, навязанного социумом, и дает больше прав правополушарному.
Правополушарность отражает текучесть и непрерывность психических процессов. Вот почему подобные переживания так далеки от левополушарных, которые легко описать с помощью привычных дискретных понятий.
У человечества есть не так много слов, которыми мы можем описать всю палитру чувственных и других «волновых» переживаний. А то, что человек (пока) не может описать привычными словами, кажется ему недостоверным.
Исследователь духовного опыта Китая Владимир Вячеславович Малявин по этому поводу заметил: «Во сне, освобождающем нас от рационального самоконтроля, мы воистину открыты метаморфозам бытия и способны открывать для себя бесчисленные жизненные миры. Мир грез в китайском понимании есть непосредственное раскрытие творческой, или, как говорили в Китае, „небесной“ силы жизненных метаморфоз».
И чем больше мы погружаемся в стихию непрерывных волновых процессов, тем острее ощущаются неточности и нехватка слов и понятий – для их описания. Вот почему этот опыт так часто описывается через метафоры, аллегории, притчи и афоризмы.
Мы будем обращаться к волновым процессам, отраженным в сновидении на всех, но особенно на втором слое Символопластики, а еще – обращение к парадоксам, мифологии, афоризмам и прочему будет уместно и в этой книге.
По мнению Малявина, «Афоризм примечателен тем, что обрывает поток суждений, ставит предел слову (недаром само слово афоризм по-гречески выражало идею очерчивания границ). Афористическое высказывание как бы завязывает „цепь мыслей“ в узел: не нуждаясь в доказательствах, оно отсылает не к другому суждению, а к смыслу, схороненному в нем самом, хотя и лежащему за пределами наличного, общепринятого значения слов».
Для решения более сложных задач, когда для передачи ценного опыта другим людям требовалось сохранить не только сухую информацию об удивительных открытиях и догадках, но и другие ее аспекты, например, текучесть, непрерывность психических процессов и живую спонтанность, только афористичности бывало недостаточно.
Для этой цели древние эллины обращались к движениям и танцам в мистериях, а даосы прибегали к пластическим формам выражения сложных даосских идей в практиках тайцзицюань через серию сплетенных в причудливый танец движений, плавно перетекающих одно в другое и наполненных глубоким смыслом.
Не менее важным вариантом как у тех, так и у других было обращение к сновидениям.
Почему так важно осознавать рациоцентризм
Из-за малоценности чувственного опыта и ненадежности языка мы не вполне осознаем, кто мы такие и что нам на самом деле нужно. Не всегда знаем, как мы устроены, как мы воспринимаем, на основе чего принимаем решения, и, главное, как могли бы воспринимать мир по-другому, то есть более полно.
Мы слишком доверчивы и легковерны в том, что мир и мы сами – это то, как мы привыкли о нем думать. Каков мир или мы на самом деле более глубоко узнаем лишь разобравшись с этим: кто из любопытства, присущего человеческой природе, а кто от нужды, например, после психотравмирующих событий.
Именно благодаря лучшему пониманию себя у нас появляется шанс разрешить себе быть более чувствительными и чувствующими, больше доверять себе, своим чувствам и ощущениям. Таким образом мы разрешаем себе быть более живыми.
Мы можем вдруг осознать, что чувства – это тонкие ориентиры и столь недостающая нам энергия для свершений, а вовсе не атрибут впадающих в неконтролируемую истерику граждан, как кажется нередко некоторым моим клиентам. А наше тело – это вовсе не «будущий труп», по образному выражению одного психолога, а чувствующая и чувствительная часть нашего «Я». Наше тело – это во многом мы сами. Карл Юнг называл его «выражаемой частью нашей души».
Большинство людей слишком сконцентрированы на внешних сторонах жизни: повседневных заботах, стремлении к успеху, поэтому тело и чувства часто остаются без внимания и не имеют права голоса в принятии решений. Как будто наши истинные нужды и впрямь жестко прописаны в сфере рационального, а мы являемся исключительно тем, что мы думаем. Но это не так. Мы напрасно игнорируем наших истинных помощников, забывая спросить у них совета.
Пример из жизни. Как телесные знаки помогают принять решение.
Я хочу привести пример, рассказанный моим коллегой о том, как важно давать право голоса чувствам и телу.
Мой коллега, использующий в работе телесные практики, познакомился с девушкой. Она показалась ему симпатичной, и он решил поближе познакомиться с ее семьей. Больше всех его очаровал глава семейства – добродушный, с отменным чувством юмора, с кем можно было выпить рюмочку собственноручно приготовленной наливки за неспешными философскими беседами.
Это очарование стало причиной того, что он всерьез задумал жениться на своей избраннице. Он стал представлять, как счастливо они все заживут, будут вместе ездить на дачу и наслаждаться там запахами и звуками потрескивающих дров в камине.
И остановило его вот что. Когда он представлял счастливое будущее, дав волю своему воображению, он видел картинку, как они втроем едут в автомобиле на дачу, и в этой фантазии девушка неожиданно вываливалась из автомобиля. А если он пытался ее усилием воли в этой картинке удержать в автомобиле, то вываливался он сам.
И в этот момент он понял, что неоправданно распространил свое очарование от отца девушки на нее саму. А чувства к девушке были совсем иными.
Вот почему не стоит забывать, что наша психика многомерна. И когда мы включаем в восприятие не только наши мысли и рациональные конструкты, но и эмоции, образы, телесные ощущения, а особенно их динамику, тонкие взаимодействия и взаимовлияния, у нас появляется шанс увидеть мир реалистично – многомерным и прекрасным.
Рациональная часть не всегда способна описать более сложный объект, частью которого она сама является.
Поскольку у современного человека сложился довольно бедный язык, недостаточный для того, чтобы давать названия множеству единиц психических процессов – ощущений, состояний, тонких эмоциональных оттенков, – то многие явления, не будучи обозначенными словами, исчезают из поля рассмотрения и субъективно перестают существовать.
И пока нет того развитого языка, который включает их как равноправных участников процессов, у нас в распоряжении не так уж много способов быть с ними в контакте.
Один из наиболее доступных способов быть с ними в контакте – сновидение.
Сновидение является свободной территорией, в нем нет диктата избыточной рациональности. На этой территории нет диктата «рациоцентричности». Во сне мы перестаем видеть мир через узкую амбразуру жестко фиксированной рациональности.
Нам легче сонастроиться не только на физиологические (дыхание, сердцебиение, перистальтика, ритмы мозговой активности), но и на глубокие психические ритмы: на сложно разворачивающееся перетекание и трансформацию образов, телесные ощущения, ритмику возникновения, достижение пика и затухания и эмоциональных процессов.
Вот почему важным принципом Символопластики станет отказ от интерпретаций увиденного в сновидении. Ведь интерпретируя содержание, мы еще больше совершаем крен в сторону рациональности, вместо того чтобы сонастроиться на ритмы, энергетические, чувственные и другие «волновые» составляющие сновидения.