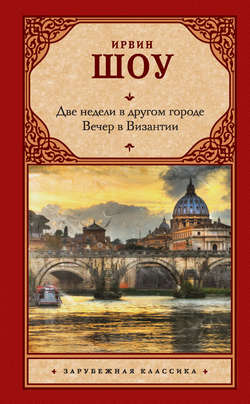Читать книгу Две недели в другом городе. Вечер в Византии - Ирвин Шоу - Страница 10
Две недели в другом городе
Глава 9
ОглавлениеСвоим убранством интерьер ночного клуба напоминал дворец эпохи Возрождения; на стенах висели гобелены; свечи, стоящие в золоченых канделябрах, бросали неяркий свет на столики. Заведение занимало последний этаж здания, построенного в шестнадцатом веке на берегу Тибра. На первом этаже находился бар с негромпианистом, на втором – ресторан со струнным ансамблем из трех музыкантов. В ночной клуб можно было пройти через второй бар, размещенный на третьем этаже. У стойки Джек заметил молодых итальянцев с напомаженными волосами, которых он уже видел в гостинице. Бодрые, развращенные, веселые, даже в столь поздний час не ведающие усталости, они добавляли яркие краски в палитру римской ночи.
Джек сидел за столиком в углу зала, слушая игру музыкантов, с удовольствием допивая третью порцию виски, испытывая приятную отстраненность от окружающих его людей. Одной из дам, укутанных в меха, оказалась синьора Барзелли, исполнявшая главную роль в фильме, который снимал сейчас Делани. Она сидела рядом с Делани на другом конце стола, потягивая шампанское и нежно, методично поглаживая бедро режиссера; на ее прекрасном, благородном, смуглом лице застыло скучающее выражение; казалось, после окончания рабочего дня она не желала брать на себя труд говорить по-английски и понимать этот язык. Возле нее находилась вторая женщина в норковой шубке, тоненькая крашеная блондинка лет сорока пяти, на которой было девичье платье с кружевами; она тоже пила шампанское. Ее звали миссис Холт. Она была немного пьяна. Время от времени поглядывая на людей, танцующих в разноцветных лучах прожекторов, искусно разбросанных по залу, она вытирала слезу огромным кружевным платком.
Напротив блондинки сидел Тачино, продюсер картины, маленький человек с глазами неаполитанца; он был так красив, что мог играть главные роли в своих фильмах, если бы сумел подрасти дюйма на четыре. Он увлеченно беседовал с Делани, не подозревая, что происходит под столом. Возле Джека сидел другой итальянец – приземистый крепыш Тассети с лицом печального гангстера; он был у Тачино не то телохранителем, не то секретарем, не то администратором. Иногда Тассети поворачивался в кресле и окидывал зал настороженным взглядом, выискивая среди полумрака ночного клуба убийц, кредиторов или нежелательных претендентов на роли. Он не говорил по-английски, но, похоже, его забавляло окружение; иногда он обращался к Джеку с несколькими словами на ломаном французском.
Человек в ковбойской шляпе тоже находился здесь. Он оказался мужем миссис Холт, приехавшим из Оклахомы. Мистер Холт часто повторял весьма дружелюбным тоном: «Италия – просто чудо». Когда его жена вытирала слезы, он с нежностью улыбался и подбадривал ее, поигрывая пальцами поднятой руки. У выглядевшего лет на пятьдесят Холта было изборожденное морщинами, худое, обветренное лицо; он напоминал управляющего ранчо. Он поведал Джеку о том, что картина Делани снимается на его средства. Холт собирался основать компанию, чтобы снять в Европе совместно с Делани и Тачино еще три фильма. Выяснилось, что Холт владеет нефтепромыслами в Техасе, на побережье Персидского залива и в Оклахоме. Он говорил медленно, почти застенчиво, с вежливостью фермера, и как только уровень жидкости в бокалах Джека или Тассети немного опускался, Холт тотчас подливал туда виски из бутылки, оставленной для них на столе официантом.
В другой ситуации Джек давно бы сбежал с подобного мероприятия, где люди говорили о сексе, вложениях капитала, интриговали и накачивались спиртным. Но сегодня, после того, что произошло с ним этим вечером, он механически улыбался мистеру Холту, произносил: «Oui, vous avez raison»[25] или, отвечая Тассети, говорил: «Non, c’est exact»[26], наслаждался этрусской красотой Барзелли, избавленный от необходимости беседовать с ней, поглядывал на хорошеньких женщин в нарядных вечерних туалетах, проплывавших в полумраке площадки для танцев, – все это возвращало Джеку спокойствие, уверенность в себе. Здесь не было плачущего юноши, одержимого жаждой мести и проткнувшего простыню ножом. После третьего бокала виски, слившись с нежной ночью, напоенной ароматом Ренессанса, Джек был готов просидеть здесь безучастным зрителем хоть до рассвета. Если он и испытывал к кому-то жалость, то разве что к Кларе, жене Делани, скучавшей в одиночестве арендованной барочной спальни; ее супружеские права беззастенчиво ущемлялись опытной крестьянской рукой, умело гладившей бедро Делани.
Когда Джек услышал в трубке гостиничного телефона голос Делани, он решил прибегнуть к помощи режиссера, чтобы избавиться от Брезача. Морис, как большинство людей, пользующихся влиянием в Голливуде, был мастером по части публичных скандалов; он мог дать Джеку дельный совет. Но сейчас, убаюканный музыкой, размягченный алкоголем, Джек решил, что справится с ситуацией самостоятельно. Брезач превратился в смутное, нереальное видение, гротескную фигуру; плачущий, нелепо вооруженный, он наверняка исчезнет так же внезапно, как появился. Благодаря воздействию виски и кубинских мелодий Джеку было трудно представить, что всего час назад его жизни угрожала опасность. Утро все поставит на свои места. Завтра, подумал он, Вероника, возможно, пожалеет о своей поспешности и вернется в квартиру, где проживала с юношей, попросит прощения, и на этом история завершится. Сейчас Джек относился к такой перспективе без эмоций. «Мне не двадцать пять, – сказал он себе, – я не умру от ревности. Ни от своей собственной, ни от чужой».
– Знаете, я не сам до этого дошел, – говорил ему Холт. – Я плачу дорогому нью-йоркскому адвокату сотню тысяч в год не для того, чтобы пренебрегать его советами. Я прислушиваюсь к ним. Он показал мне, как вкладывать по полмиллиона долларов в год на протяжении пяти лет без риска остаться в убытке даже в случае неудачи. Правительство платит десять тысяч в год человеку, пытающемуся отобрать у нас часть наших доходов, в то время как мы отдаем сто тысяч тому, кто помогает нам сохранить их. Так какая голова лучше справится со своей задачей – стоящая десять или сто тысяч?
– Да, конечно, – сказал Джек.
«Кажется, это виски обходится мне слишком дорого», – подумал он.
– Если вы с женой хотите жить в Европе, говорит этот хитрец, – приятным тягучим баритоном продолжил мистер Холт, – надо найти такое место, где это не будет стоить вам ни цента. Разумно, верно?
– Конечно, – повторил Джек.
– Мы с Мамой не собираемся оставаться здесь весь год. Шесть, от силы семь месяцев, если с погодой повезет. В наше время самое главное – избегать лишних трат. И уважать закон. Еда, питье, путешествия, слуги, развлечения – все за счет старого доброго дядюшки Сэма. А теперь ответьте мне: есть ли занятие более законное, чем съемка фильма в Риме с таким кристально честным итальянским продюсером, как мистер Тачино? Он – незаурядный человек.
Холт улыбнулся, сверкнув идеальными вставными зубами, и кивнул головой в сторону Тачино.
– Вы знали, что в 1945 году он торговал с тележки на улицах Неаполя излишками, оставшимися у американской армии?
– Нет, не знал, – ответил Джек.
– Обувь, одеяла, фляги, сухие пайки, – словом, Тачино был вроде старьевщика. Но он умел смотреть вперед. Я ценю это качество, – заявил Холт, торжественностью тона напоминая президента фирмы, выступающего с годовым отчетом. – Люблю предприимчивых людей, сделавших себя своими собственными руками. Легко нахожу с ними общий язык. Какой бы национальности, мистер Эндрюс, они ни были. Мистер Тачино – итальянец, но вы посмотрите, чего он добился. Что у него общего с теми графами-дегенератами, которых можно встретить в этих краях?
Холт бросил неприязненный взгляд на площадку для танцев; презрительно изогнутые губы говорили о том, что среди танцующих мужчин, по его мнению, немало графов-дегенератов.
– Самое притягательное в кинобизнесе, – пылко произнес Холт, – возможность общения с интересными людьми.
– Верно, – согласился Джек. – Иногда здесь встречаются забавные типы.
– Возьмем, к примеру, мистера Делани. Где еще можно встретить столь интересного человека?
Холт наградил режиссера той улыбкой, которой раньше выразил свое уважение к Тачино. Делани все еще беседовал с Тачино, не замечая восхищенного взгляда, устремленного на него с другого края стола; ласковые пальцы исполнительницы главной роли, унизанные кольцами, по-прежнему касались бедра режиссера. Джек тоже посмотрел на Делани, но не столь восхищенно, как Холт. Десять лет назад Делани не сидел бы здесь, радуясь, как глупец, этим расчетливым тайным ласкам. Десять лет назад он бы рассерженно схватил эту руку, шлепнул ею об стол, чтобы привлечь внимание людей, и велел женщине вести себя прилично.
– А эта прелестная девушка… – Холт почтительно наклонил голову в сторону Барзелли. – Когда вы видите кинозвезд на экране, вам и в голову не придет, что они могут быть такими простыми, добрыми людьми. И благодарными.
Холт постучал костяшками по столу, желая подчеркнуть сказанное. Как многие люди, обладающие большими возможностями, он весьма высоко ценил чувство благодарности.
– Это просто трогательно, какое чувство благодарности испытывает она к мистеру Делани. Мисс Барзелли сказала мне, что Делани – первый режиссер, который понял ее. Она даже готова сняться в трех его следующих картинах бесплатно, только ради удовольствия работать с ним.
«Как же, – подумал Джек, глядя на вялое, скучающее лицо Барзелли, – даром. Подожди, когда ее агент явится с контрактом».
– Мама от нее просто без ума, – сказал Холт.
– Кто-кто? – спросил Джек, решив, что он что-то прослушал. – Извините.
– Мама, – повторил американец. – Миссис Холт.
– А, – сказал Джек и, желая увести беседу подальше от кино, спросил Холта: – У вас есть дети?
– Нет. – Холт вздохнул.
Миссис Холт одновременно прикладывала платок к глазам и пила шестой бокал шампанского. Мистер Холт, смешно вытянув губы, помахал ей пальцами, как няня, забавляющая лежащего в коляске младенца.
– Нет, – снова повторил он, – у нас нет детей. Здесь для Мамы идеальное место. Я имею в виду Рим. Она все дни проводит в музеях. Уже посетила все церкви. Моя жена – католичка. У нее очень аристократическая натура. До замужества она преподавала игру на фортепиано в Талсе. У нас дома два больших рояля. Мы здесь живем в палаццо – по-итальянски это значит «дворец», – но пианино там сломано. Во время войны дом занимали немцы.
«Вероятно, мне следует встать, вернуться в отель и поискать Брезача. Он хоть и держал в руке нож, но разговаривать с ним было интереснее».
– Мама очень хочет, чтобы я основал компанию с господами Тачино и Делани. Для производства трех картин. – Холт смаковал терминологию волшебного мира. – К тому же ей нравится жить за границей в недорогом палаццо. У нее есть брат – знаете, какими иногда бывают братья. – Холт виновато улыбнулся. – Он ее моложе. Неплохой, в сущности, парень, только никак не может найти применение своим талантам. Я взял его в свою фирму, но через два года мои партнеры взбунтовались. Сейчас мы хотим сделать из него помощника продюсера, это такой человек, который…
– Я знаю, – перебил его Джек.
– Сейчас он обходится мне ежегодно в двадцать – двадцать пять тысяч, – продолжал Холт. – Но став помощником продюсера, он будет получать пятьдесят тысяч в год, не стоя мне ни цента. Мама будет счастлива, – с нежностью в голосе добавил Холт.
Джек внезапно как бы увидел нового Холта – сильного, способного, трудолюбивого нефтедобытчика, работягу, игрока, босса, возвращавшегося из своей конторы в Оклахоме, где идет отчаянная схватка, где рушатся и переходят из рук в руки империи, домой, к жене-алкоголичке, бренчащей на одном из двух больших роялей, возле которого стоит на полу бутылка виски, к ее непутевому братцу, потерпевшему очередную неудачу и просящему очередные десять тысяч (клянусь, это в последний раз…). Нежный поцелуй, спасительная чековая книжка. Вся решимость и твердость оставлены за порогом; подпись на чеке служит страстным признанием в любви к несчастной гибнущей женщине, на которой он женился.
Джек забыл всю пустую болтовню, которую ему пришлось слушать ранее; разглядывая морщинистое фермерское лицо с живыми добрыми глазами, он сочувственно улыбнулся Холту.
На лице Холта появилось новое, как бы отраженное выражение; он словно уловил перемену, происшедшую в душе Джека, и неожиданно слегка похлопал Эндрюса по тыльной стороне руки, благодаря его за понимание. Его ладонь была твердой и мозолистой. «Я его недооценил, – подумал Джек, – за банальностью фраз и простоватой внешностью управляющего ранчо скрывается умный и чуткий человек. Чтобы добраться до Персидского залива, надо иметь голову на плечах».
– Мы все благодарны вам, мистер Эндрюс, – торжественным тоном произнес Холт, – за то, что вы согласились приехать сюда и помочь нам выбраться из того затруднительного положения, в которое поставил нас мистер Стайлз.
– Приглашение в Рим оказалось для меня приятным сюрпризом, – признался Джек.
– Мистер Делани поведал мне историю вашей жизни, – продолжал Холт, – и я рад, что имею сегодня возможность поделиться с вами некоторыми своими мыслями. Я знаю, что вы работаете в государственном аппарате.
– В НАТО, – уточнил Джек.
– Ну, это то же самое. – Холт отказывался различать организации, которые содержатся общественной казной.
Он улыбнулся, сверкнув вставными зубами.
– Надеюсь, что ваше чувство долга не заставит вас сообщить властям все, что я говорил сегодня о налогах.
– Ваше отношение к налогам, мистер Холт, я унесу с собой в могилу, – торжественно заявил Джек.
Холт непринужденно рассмеялся.
– Было бы хорошо, если бы все чиновники в правительстве обладали вашим чувством юмора, Джек. – Он бросил на Эндрюса неуверенный взгляд. – Вы позволите называть вас Джеком? Знаете, у нас в Оклахоме, среди нефтедобытчиков…
– Разумеется.
– Меня все называют Сэмом, – почти застенчиво сказал Холт, он словно просил об одолжении.
– Да, Сэм.
– Ессо, – произнес Тассети, с сердитым видом посмотрев на танцующих; он вытянул губы, точно собирался плюнуть. – La plus grande puttain de Roma. La principessa.
Джек тоже взглянул на площадку для танцев. Двадцатилетняя светловолосая девушка с конским хвостом, прыгавшим по ее обнаженным плечам, танцевала с невысоким толстяком лет тридцати. На ней было белое платье.
– Что он сказал? – спросил Холт. – Что сказал итальянец?
– Это самая известная в Риме проститутка, – перевел Джек. – Принцесса.
– Да? – сухо произнес Холт.
Выждав из вежливости мгновение, он повернулся и поглядел на девушку.
– Она очень мила, – сказал он. – Прелестная девушка.
– Elle fasse tutti, – добавил Тассети. – Ell couche avec son fratello.
– Что он говорит? – снова спросил Холт.
Джек заколебался. Сейчас ты в Риме, Сэм, подумал он, терпи и привыкай.
– Она делает все, – бесстрастно поведал Джек. – Она спит со своим братом.
Холт окаменел. Краска медленно поднялась от его шеи к щекам, достигла лба.
– Я полагаю, люди не должны распространять такие сплетни, – с трудом выговорил он. – Уверен, это всего лишь беспочвенные слухи. – Холт с тревогой посмотрел на жену. – Слава богу, Мама не слышала. Это испортило бы ей вечер. Извините меня, Джек.
Поднявшись, он обошел стол, придвинул свободное кресло, сел возле жены, точно желая защитить ее от чего-то, и, улыбнувшись, взял миссис Холт за руку. Спустя минуту, когда принцесса и ее кавалер покинули площадку, Холт повел жену танцевать. Джек с удивлением отметил, что танцуют они умело: Холт с легкостью и мастерством исполнял сложные движения румбы. Должно быть, они тратят немало времени на уроки танцев, подумал Джек. Чтобы оторвать ее от бутылки, он готов, похоже, на все.
– Ессо, – грустно сказал Тассети, указывая на седого мужчину с лицом кардинала, который танцевал с девушкой в красном платье, – le plus grand voleur de Roma[27].
С дальнего конца стола, где сидели Делани и Барзелли, донесся взрыв хохота. Тачино только что кончил рассказывать какую-то историю. Итальянец сидел, посмеиваясь, а Делани сказал:
– Иди сюда, Джек, послушай это.
Джек встал, радуясь предлогу уйти от Тассети, награждавшего посетителей клуба нелестными титулами. Делани освободил для Джека место на краю стола и произнес:
– Марко рассказывал нам о своем отце. Марко, повтори для Джека.
– Allora[28], – радостно улыбаясь, сказал Тачино, бодрый и полный энергии, словно школьник; он постоянно жестикулировал и говорил по-английски бегло, но с комичным итальянским акцентом. – Allora, моего отца зовут Себастьяно. Ему не то семьдесят три, не то семьдесят шесть, волосы у него белые как снег, а спина абсолютно прямая. Он всю жизнь гоняется за девчонками, просто помешан на них, понимаете, он южанин; отец уже пятьдесят лет сводит мою мать с ума. В его последний день рождения она заявила: «В этом году, Себастьяно, я, наверно, брошу тебя навсегда, мне надоели твои похождения». Она заставила его поклясться при священнике, что больше никаких девчонок не будет, после чего мы вручили ему подарки. Я купил отцу «фиат» и «лейку»: он фотографирует собор Святого Петра. Но его похождения не прекратились. Каждый день он появляется у меня в студии, чтобы выпить с сыном чашку кофе и показать новые снимки. Этот файв о’клок стал традицией. Каждый день сотрудники студии ждут, когда появится старик. Проходя через ворота и зная, что на него смотрят, он поднимает над головой палец – вот так.
Тачино поднял руку над головой, вытянув вверх указательный палец.
– Знаете, что это значит? Нет? А сотрудники знают и всегда смеются. Каждый день снизу в мой кабинет доносится смех, и я знаю, что через пару минут отец появится на пороге. Его жест означает следующее: сегодня он имел одну девушку один раз. Мои служащие его обожают, они смеются вместе с ним и говорят: «Старый Себастьяно – молодчина, он доживет до ста лет». И вот однажды, – Тачино резко сутулит спину, опускает плечи, глаза его гаснут, он превращается в немощного старца, стоящего на краю могилы, – мой папа прибывает ко мне в студию, но смеха не слышно. Вид у него такой печальный, словно он только что похоронил своего лучшего друга, которого, несомненно, ждет ад. Я молчу. Мы, как всегда, пьем кофе. Он не показывает мне фотографии. Потом медленно покидает кабинет. Проходит месяц, папа ежедневно появляется в студии, он двигается еле-еле, смеха у ворот не слышно, мои люди смотрят на него с грустью, они говорят: «Бедный Себастьяно, теперь он не доживет до ста лет, дай ему Бог дотянуть до весны». Мама помолодела на десять, двадцать лет. Она набрала вес, стала хохотать как девчонка и играть в бридж, купила себе три новые шляпы с цветами. Мне жаль папу, он потерял прежнюю осанку, почти не ездит на «фиате». Я думаю: «Папа совсем плох, конец близок». Я пытаюсь заставить его сходить к доктору, но он говорит мне: «Закрой свой поганый рот. Не хватало еще, чтобы мои дети начали учить меня, как я должен жить». За последние тридцать лет я впервые услышал от отца резкое слово. Я заткнулся. Погрустнел, не раскрываю рта. И вот сегодня, в пять часов, я слышу громкий хохот, потом аплодисменты; папу встречали, как героя войны. Я выглянул в окно – он шел через ворота, прямой как палка, волосы стоят торчком, словно накрахмаленные, на лице – улыбка от уха до уха, рука поднята. Пальцы расставлены в виде буквы V. – На лице Тачино появилась нежная, добрая улыбка. – Сегодня он показал два пальца.
Делани и Эндрюс усмехнулись. «В конце концов, – подумал Джек, – речь идет не о моем отце». Но Барзелли, которая уже слышала эту историю пять минут назад, откинулась на спинку кресла и громко, раскатисто, по-крестьянски расхохоталась. Ее вульгарный, мощный смех напоминал мужской, хотя вырывался он из тонкого горла и идеально женственного рта. Высокомерная, красивая, самоуверенная итальянка была своей в мире средиземноморских мужчин и разделяла радость их побед. Старая дама с тремя новыми шляпами, ежедневным бриджем и нескончаемыми жалобами не вызывала у нее сочувствия.
Джек посмотрел на часы и встал:
– Пожалуй, мне пора, если мы собираемся продолжить работу завтра в семь тридцать утра.
Делани небрежно махнул рукой:
– Не спеши, Джек. Бог с ним, с утром, начнем в десять.
Джек заметил, как сузились глаза Тачино, когда Делани с легкостью перенес начало работы. Они немедленно напомнили о том, что Делани тратит деньги и время продюсера; Джек подумал, что, если в дальнейшем между Тачино и Делани возникнут трения, итальянец использует эпизод как рычаг для оказания давления.
Джек пожал руку мисс Барзелли, которая посмотрела на него без интереса. Он не был ни продюсером, ни режиссером, от него не зависели условия ее контрактов или количество крупных планов в фильме; познакомившись с Джеком в его номере, она поняла, что он никогда не станет ухаживать за ней. Завтра она вряд ли вспомнит его имя.
Он подошел к другому краю стола, чтобы попрощаться с Тассети. Итальянец изогнулся в кресле, с отвращением глядя на компанию, расположившуюся в противоположном углу зала. Пожимая руку Джека, он указал на гостя, сидевшего за дальним столиком, и произнес, понизив голос: «Ессо, le plus grand pederaste de Roma»[29].
Джек усмехнулся, думая: «Все пороки, процветающие в Риме – проституция, воровство, извращения, – представлены мне сегодня один за другим. У Тассети выдался удачный день, он, должно быть, счастлив».
Джек приблизился к площадке для танцев и помахал рукой Холтам, которые, касаясь друг друга щеками, двигались в такт с музыкой. Остановившись, они подошли к Эндрюсу.
– Джек, – сказал Холт, – вы не могли бы уделить мне пару минут? Хочу поговорить с вами.
– Конечно, – ответил Джек.
– Спокойной ночи, Джек, – произнесла миссис Холт; язык ее слегка заплетался. На лице женщины появилась блуждающая улыбка. – Сэм только что говорил мне, как вы ему нравитесь, какой вы добрый.
– Спасибо, миссис Холт.
– Берта, – умоляющим тоном промолвила миссис Холт. – Пожалуйста, зовите меня Бертой. – По ее лицу скользнула кокетливая гримаска. – Когда меня называют миссис Холт, я кажусь себе старухой.
– Хорошо… Берта.
– Arrivederci, Джек, – произнесла она и, держа мужа под руку, поплыла к столу; Холт усадил ее в кресло, обращаясь с ней так, словно она была только что выкопанной из земли драгоценной амфорой. Затем Холт вернулся к Джеку. Его дыхание после быстрого танца было легким, ровным.
– Если позволите, – церемонно сказал Холт, – я провожу вас до двери.
Выходя из комнаты, Джек оглянулся назад и успел заметить, как рука Барзелли снова скользнула под стол.
Джек и мистер Холт спустились по лестнице вниз, мимо закрытого ресторана на втором этаже, мимо картины с обнаженной женщиной, висевшей в холле, мимо бара с негром-пианистом, негромко игравшим для американской пары, которая о чем-то спорила в углу.
– Знаете, – сказал Холт, когда гардеробщица подала Джеку пальто, – я бы немного подышал свежим воздухом. Вы не хотите прогуляться?
– С удовольствием, – ответил Джек.
Теперь, уже направляясь к себе в отель, Джек почувствовал, что не спешит оказаться в пустых (или не пустых) комнатах один на один с бессонницей.
Холт взял пальто и шляпу, аккуратно надел ее на свою лысеющую голову; они шагнули в ночь. У подъезда, кутаясь в пальто, что-то оживленно обсуждали таксисты; полная женщина с корзиной фиалок поджидала в темноте влюбленных. На противоположной стороне улицы стоял фиакр с зажженным керосиновым фонарем; лошадь, накрытая попоной, дремала стоя.
Джек и Холт свернули за угол и зашагали по набережной. Сейчас спавший Рим принадлежал им.
– Берта предпочитает возвращаться домой лишь после того, как уйдут музыканты. – Холт улыбнулся, демонстрируя свою терпимость. – Вы бы удивились, если бы узнали, сколько раз в году я встречаю рассвет.
Он посмотрел на Тибр.
– Вода почти не движется, верно? Бурлящий Тибр меж берегов несется, – внезапно продекламировал Холт. – Думаю, я мог бы переплыть эту реку даже в доспехах. Наверно, Шекспир никогда не видел ее воочию.
Он застенчиво улыбнулся, испугавшись своего смелого экскурса в область литературы.
– Странные люди эти итальянцы, – продолжал Холт. – Живут в Риме так, словно он ничем не отличается от прочих городов. Словно здесь никогда ничего не происходило.
Джек шел молча, разглядывая большое темное здание Дворца правосудия, думая о своей спальне, ожидая, когда Холт начнет разговор, ради которого он вышел с Джеком на улицу.
Холт смущенно прочистил горло.
– В клубе, – махнул он рукой в сторону оставшегося за их спинами здания, – мы говорили о том, что вы работаете в государственном аппарате.
Джек не счел нужным снова поправлять его.
– Вероятно, у вас есть знакомые в здешнем посольстве?
– Кое-кого знаю.
– В течение последнего месяца я был там дюжину раз. Меня прекрасно встречали. Со мной говорили предельно вежливо и любезно, но… Всегда лучше действовать через знакомых, правда?
– Наверно, – уклончиво ответил Джек, гадая, что за неприятности могут быть у Холта по линии госдепартамента.
– Понимаете, мы с Мамой хотим взять ребенка на воспитание. – Голос Холта прозвучал робко, виновато, словно он признавался в том, что они с Мамой замышляют нечто криминальное. – Вы не представляете себе, с какими трудностями мы столкнулись.
– Взять ребенка на воспитание? – удивился Джек. – Здесь?
– Я уже говорил вам в клубе, – скованно произнес Холт, – мне чужды националистические предрассудки. Я родился и вырос в Оклахоме, но…
Он замолчал.
– Я хочу сказать, – теперь в его голосе появился вызов, – итальянские дети ничем не хуже американских.
– Разумеется, – охотно согласился Джек. – Но разве не проще взять ребенка дома, в Штатах?
Холт смущенно покашлял; взявшись обеими руками за поля шляпы, передвинул ее на четверть дюйма, чтобы она сидела на голове более ровно.
– Дома свои сложности. Джек, я чувствую, что могу говорить с вами откровенно. Я ощутил это, еще сидя за столом. Вы способны меня понять. Мистер Делани сказал мне, что у вас двое детей…
– Трое, – машинально поправил его Джек.
– Трое, – повторил Холт. – Извините. Вы знаете, что это такое. Женщина испытывает потребность иметь детей. В ее жизни образуется некая пустота, если у нее их нет… Да вам наверняка это известно. Она пытается заполнить вакуум чем-то иным…
Его монолог оборвался, и перед глазами Джека возникла бутылка, стоящая возле рояля.
– По каким-то причинам это счастье обошло нас стороной, – продолжал Холт. – Доктора говорят, что мы оба – совершенно нормальные, здоровые люди. Просто почему-то нам не везет. Подобная ситуация не столь редка, как можно думать. Посмотрите вокруг – в мире полно бедных, голодных, заброшенных детей.
В голосе Холта звучала горечь и боль, американца возмущала безответственная плодовитость бедноты.
– И вы наверняка не представляете себе, сколько домов мертвы и обречены оставаться мертвыми всегда. Вся наука с ее вакцинами, пенициллином, водородными бомбами и ракетами бессильна что-либо изменить. Что только мы не пробовали…
Холт посмотрел на темную воду, зажатую бетонными берегами и пахнущую деревней, перегноем, прелой травой.
– В конце концов, вы взрослый человек, – глухо сказал он, – у вас есть дети; я вас не шокирую. Мы прибегали к химиотерапии, следили за биоритмами, измеряли температуру в шесть часов утра…
Он смолк; у него, похоже, перехватило дыхание. Затем продолжил своим спокойным, ровным оклахомским баритоном:
– Мы пытались произвести искусственное осеменение в кабинете врача. Безрезультатно. Несчастная Берта.
Его голос выдавал двадцатилетнюю любовь и жалость.
– Вы видели ее только час или два и вряд ли заметили, но… – Отбросив сомнения, он решительно продолжил: – Если бы она не была женщиной, ее следовало бы назвать алкоголиком. Даже закоренелым алкоголиком.
– Да, я этого не заметил, – согласился Джек.
– Конечно, Берта – настоящая леди, она может пить с утра до вечера, и все же из ее уст не вырвется слово, которое нельзя произносить в приличных домах, но – я буду с вами откровенен, Джек, – она с каждым годом опускается все ниже и ниже. Если бы у нее был ребенок – хотя бы один…
– И все же я не понимаю, – удивленным тоном произнес Джек, – почему нельзя взять ребенка на воспитание в Штатах.
Холт громко вздохнул. Шагов десять прошел молча.
– Берта – католичка, – сказал он наконец. – Я, кажется, уже говорил вам об этом.
– Да.
– А я родился и вырос в семье баптистов. И сейчас я, наверно, все еще баптист. В Америке администрация детских домов придает подобным вещам большое значение. Принцип такой – детей католиков отдают католикам, протестантов – протестантам, даже евреи… – Холт замолчал, испугавшись, не сказал ли он что-то не то. – Не подумайте, будто я что-то имею против евреев. Я ничего против них не имею, – устало вымолвил он. – Наверно, эта политика правильна для большинства случаев. Вероятно, если бы я принял католическую веру… Берта никогда не просила меня об этом, – поспешно добавил он. – Мы даже не обсуждали такую возможность, никто из нас не намекал на нее. Но, должен признаться, я не раз испытывал соблазн подойти к Берте и сказать: «Мама, отведи меня к ближайшему католическому священнику».
Они миновали собор с запертыми на ночь старыми бронзовыми дверьми; похоже, служители храма не были готовы ответить сейчас на их вопросы, отпустить грехи или принять новообращенных в лоно католицизма. Холт задумчиво посмотрел на глухие, массивные двери и скульптуру святого, стоящую в нише возле портала.
– Влияние церкви огромно, – прошептал Холт. Он тряхнул головой, как бы пытаясь навсегда освободиться от религиозности. – Не такой уж я истовый баптист. Годами не бываю в церкви, разве что на похоронах или свадьбах. Но я не католик. Я никому не могу сказать, что я католик или стану им. Человек не должен идти на такой подлог, верно, Джек? Ни при каких обстоятельствах.
Рим – неподходящее место для такой постановки вопроса, подумал Джек, вспоминая всех низвергнутых здесь, снова восстановленных в правах, уничтоженных, вознесенных богов и ставки в этой игре.
– Да, верно. – Джек знал – Холт ждет от него именно такого ответа. – И все же время от времени я слышал о парах, где муж и жена исповедовали разную веру и брали детей на воспитание…
– Это случается, – согласился Холт. – Иногда. Но мой случай – особый.
– Почему?
– Разве Делани вам не говорил? – недоверчиво спросил Холт.
– Нет.
– Я думаю, это не слишком интересная тема. – Холт рассмеялся вполголоса. – Разве что для меня одного. Для меня это чертовски интересная тема.
Холт застегнул пальто, словно ему стало холодно.
– У меня судимость, Джек, – тихо сказал он. – Я отсидел срок в Джолиете, штат Иллинойс, за ограбление.
– О боже, – непроизвольно вырвалось у Джека.
– Вот именно, «о боже».
– Извините, – произнес Джек.
– Вам не за что просить прощения. Когда мне было двадцать лет, я ограбил владельца скобяной лавки, забрал из кассы сто восемьдесят долларов и в дверях натолкнулся на полицейского. Он хотел в свободное от службы время купить молоток и фунт гвоздей, но вместо этого схватил меня. Я и раньше проворачивал такие дела, – тихо признался Холт. – В моем послужном списке уже значилась пара зарегистрированных проступков; полиции было известно далеко не все. Так вот, – ожившим голосом продолжил он, – сейчас я пытаюсь усыновить маленького мальчика в Легхорне. Дома все говорили мне, что сделать это несложно. – Он горестно усмехнулся. – Вы, наверно, тоже так полагаете, да? Перенаселенность, дома, разрушенные в годы войны, разговоры о лишних пяти миллионах, о вынужденной эмиграции.
Он покачал головой, удивляясь своей былой наивности.
– Вы бы ужаснулись – я не преувеличиваю, именно ужаснулись, – если бы узнали, на какие унижения приходится идти ради того, чтобы поместить несчастного голодающего маленького итальянца в дом с бассейном и семью слугами, а впоследствии отправить парня в Гарвард.
Холт остановился, обвел настороженным взглядом вокруг, словно заблудился в спящем городе.
– Пожалуй, мне пора возвращаться. Берта будет волноваться.
– Если я могу вам чем-то помочь, – начал Джек.
– Я не хочу отнимать ваше время. Мне известно, что у вас тут важная работа, вы – занятой человек. Но если вы случайно окажетесь в посольстве и встретите там друга, у которого хорошие отношения с итальянскими властями… – Он посмотрел на часы. – Уже поздно. Может, на этой неделе мы пообедаем втроем – вы, я и Берта, и тогда я расскажу вам, у кого я уже был, какие шаги предпринял…
– Обязательно, – сказал Джек.
– Вы славный человек, Джек. Я рад, что этот разговор состоялся. Признаюсь, поначалу вы мне не слишком понравились. Но сейчас я знаю, что вы мне очень нравитесь, – искренне сказал он. – Очень.
Повернувшись, он зашагал по улице в сторону клуба – уголовник-миллионер, отсидевший шесть лет в Джолиете, штат Иллинойс, воспитавший в себе терпимое отношение к итальянцам, администраторам детских приютов, католикам, евреям, протестантам, старьевщикам, владелец ковбойской шляпы и нефтяных скважин, живущий в скромном римском palazzo. Честный и беспомощный, он шел мимо мрачной, запертой церкви к своей жене, которую, будь она мужчиной, следовало бы назвать алкоголиком и которую (по мнению Холта) способны оторвать от бутылки лишь детские пальчики.
Джек смотрел на рослого, плечистого мужчину в широкополой шляпе, вынужденного скрывать свои доходы и прибегать к искусственному осеменению; американец шагал, освещенный уличными фонарями, вдоль реки, которую он, по его словам, мог переплыть, вопреки свидетельствам литературных источников, даже в доспехах.
«Дома, в Париже, – с усмешкой сказал про себя Джек, – мне приходится думать лишь о пустяках – например, сбросят русские бомбу до конца года или нет».
Провожая взглядом Холта, который вскоре превратился в безликую точку, затерявшуюся среди камня, фонарных столбов и мертвых деревьев, Джек понял, почему Делани счел необходимым познакомить его с американцем. Делани в чем-то зависел от Холта – возможно, контракт на три картины был способен восстановить его престиж и финансовое положение на ближайшие десять лет. В свою очередь, Делани был готов оказать Холту любую ответную услугу. Если посредничество Делани приведет к тому, что Джек окажет содействие Холтам в их борьбе с италоамериканской бюрократией и усыновлении вожделенного легхорнского сироты, режиссер сможет рассчитывать на благодарность нефтедобытчика. Джек усмехнулся. «Знакомый прием. Деспьер и его статья. Делани никогда не остановится. Его мозг работает круглосуточно. Наверно, мне следует потребовать прибавки к жалованью. Эндрюс, актер на любые роли, обращаться в случае неприятностей – деловых, творческих, связанных с алкоголизмом».
И вдруг улыбка сползла с его лица. Делани хитрил всегда, это правда, но играл он по-крупному; ставки были значительными. В молодости он не опускался до мелкого обмена услугами. Какую бы самоуверенность ни источал сегодня Делани, на карту была поставлена его жизнь, и он, зная об этом, использовал в борьбе любые подручные средства, способные спасти его. «И если он считает, – подумал Джек, – что в моих силах помочь ему выплыть, я сделаю все от меня зависящее как сейчас, так и в дальнейшем».
Понимая это, Джек сознавал, что не только просьба Делани привела его в этот город, не ради одного Мориса он находился тут. Джек прибыл сюда и ради себя самого. Морис был частью времени, которое Джек считал лучшим в своей жизни, частью тех незабываемых предвоенных лет, когда он любил Делани так, как сын может любить отца, брат – брата, солдат – солдата, воюющего на его стороне; судьба каждого из них зависела от силы, мужества и таланта партнера. Выручая Делани, он спасал чистейшие воспоминания своей молодости. Если Делани потерпит крах, он, Джек, тоже испытает горечь поражения. «Я спасу Мориса, – подумал он, – любой ценой. Еще не знаю как, но спасу».
Эти две недели, похоже, будут насыщенными, сказал себе Джек, возвращаясь в отель мимо закрытых окон, запертых церквей, фонтанов, бьющих посреди безлюдных площадей, разрушенных храмов и обломков стен, укрывавших две тысячи лет назад горожан от врагов.
«Желаю хорошо провести время, cheri», – вспомнил он слова, произнесенные женой в аэропорту.
Возле отеля он замер в нерешительности. Двое полицейских шагали по тротуару мимо входа в здание. Глядя на них, Джек подумал, как будет по-итальянски: «Друзья, несколько часов назад один молодой человек угрожал убить меня. Пожалуйста, поднимитесь в мой номер и проверьте, не прячется ли он под кроватью?»
Полицейские удалились. «Не переночевать ли в другом месте, где мне удастся поспать без помех, без риска снова увидеть Брезача?» – мелькнула мысль в голове Джека. А утром он решит, как избавиться от парня раз и навсегда.
Идея была соблазнительной. Но Джек возмущенно покачал головой, сердясь на себя за трусость. Он вошел в отель и взял ключ. Записки не было.
Джек без колебания вошел в свой номер. Уходя, он не погасил свет.
В гостиной никого не было. Он заглянул в спальню и ванную. Вернувшись в гостиную, запер дверь, выключил лампы; снова переступил порог спальни, начал раздеваться. Лег в постель. Она оказалась ледяной, Джек поежился. «Если бы Делани не позвонил, где бы я был сейчас?» – подумал он.
Джек согревался, лежа под одеялом на порванной простыне.
– О Гимен, Гименей, – тихо произнес он в темноте, потом закрыл глаза и стал ждать, когда придет сон.
25
Да, вы правы (фр.).
26
Нет, это точно (фр.).
27
Самый известный римский вор (фр.).
28
Итак (ит.).
29
Это самый известный гомосексуалист Рима (фр.).