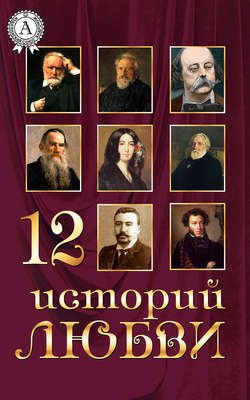Читать книгу 12 историй о любви - Коллектив авторов - Страница 22
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери
Часть I
Книга четвертая
V. Продолжение главы о Клоде Фролло
ОглавлениеВ 1482 году Квазимодо было около 20 лет от роду, а Клоду Фролло – 36; первый вырос, второй состарился.
Клод Фролло не был уже скромным учеником школы Торки, нежным покровителем ребенка, молодым и мечтательным философом, приобревшим много научных познаний, но мало знакомым с жизнью. Это был серьезный, строгий, даже угрюмый священник, духовный отец многочисленной паствы; он назывался теперь уже г-м архидиаконом Иосией, он был вторым викарием епископа, заведовал двумя благочиниями – Монлерийским и Шатофорским, и 174-мя сельскими приходами. Это был человек внушительной и строгой наружности, перед которым дрожали не только маленькие певчие в курточках и в стихарях, но и взрослые певчие и причетники, когда он медленно проходил под стрельчатыми сводами хора, величественный, задумчивый, со скрещенными на груди руками и с так низко опущенной на грудь головой, что из всего лица его был виден только его высокий лысый лоб.
Впрочем, Клод Фролло, повышаясь в духовной иерархии, не отказался ни от науки, ни от воспитания своего младшего брата, – от этих двух серьезных целей его жизни. Но с течением времени к этим, прежде столь приятным для него занятиям, примешалось некоторое чувство горечи: от времени, – говорит Петр Дьякон, – горкнет и самое лучшее сало. Маленький Жан Фролло, прозванный Дю-Мулен, вследствие мельницы, на которой он получил воспитание, вырос далеко не в том направлении, которое было бы желательно Клоду. Старший брат рассчитывал на то, что из него выйдет мальчик послушный, прилежный, благочестивый, степенный; а между тем младший брат, подобно тем деревцам, которые, несмотря на все усилия садовника, поворачиваются всегда к солнцу, рос и пускал роскошные ветви только в смысле лености, шалостей и разврата. Это был настоящий чертенок, крайне беспорядочный, что заставляло Клода морщить брови, но в то же время очень забавный и веселый, что заставляло улыбаться старшего брата. Клод отдал его в ту самую школу Торки, в которой он сам начал учиться и сосредоточиваться, и для него составляло немалое огорчение, что то самое святилище, которое когда-то гордилось именем Фролло, было теперь опозорено им. Он часто делал по этому поводу Жану очень пространные и очень строгие внушения, которые тот терпеливо выслушивал, так как этот маленький негодяй, в сущности, имел очень доброе сердце, – что часто встречается и в комедиях, и в жизни; но, выслушав нотацию своего брата, он тотчас же снова принимался за свои шалости и бесчинства. То он занимался травлей только что поступившего в школу новичка, драгоценное предание, сохранившееся и до наших дней; то он стоял во главе толпы таких же сорванцов, разнесших кабачок, избивших кабатчика и выпустивших все вино из бочек; и на другой день субинспектор школы приносил Клоду написанное по-латыни свидетельство, в котором против фамилии Жана значилось: «драка; первоначальная причина – излишне выпитое вино». Наконец, об этом, только еще 16-ти летнем малом ходили слухи, что бесчинства его не ограничивались кабаками, а часто производились и в других, еще более неприличных местах.
Огорченный всем этим и обманувшийся в самой чистой привязанности своей, Клод еще усерднее принялся за науку, отдался любви к этой сестре, которая, по крайней мере, не смеется в нос и всегда платит вам, хотя, правда, порой и чересчур мелкой монетой, за вашу заботливость о ней. Таким образом, он становился все более и более учен и в то же время, – весьма естественное последствие учености, – все более и более строг, как священник, и печален, как человек. Для каждого из нас существуют известные параллели в уме нашем, характере и нравах, которые развиваются без перерыва и прерываются только во время крупных жизненных переворотов.
Клод Фролло, пройдя с самых юных лет весь цикл всех положительных, доступных человеку знаний, по необходимости, должен был, если не желал остановиться там, где останавливаются умы ленивые, идти далее и искать иной пищи для ненасытной деятельности своего ума. Древнее изображение змеи, самой себе кусающей хвост, как нельзя более применимо к науке, и Клод Фролло, по-видимому, познал это по собственному опыту. Иные серьезные люди уверяли, что, истощив все возможное человеческого знания, он осмелился проникнуть в область невозможного. Он последовательно отведал, – говорили о нем, – от всех яблок дерева познания и кончил тем, что, от голода ли, или от пресыщения, откусил и запрещенного плода. Он поочередно принимал участие, как видели наши читатели, и в конференциях сорбоннских богословов, и в диспутах докторов канонического права в школе св. Мартына, и в сходках докторов возле кропильницы собора Парижской Богоматери; он проглотил все дозволенные и одобренные яства, которые изготовлялись в то время всеми четырьмя факультетами парижского университета, и они успели надоесть ему еще прежде, чем был удовлетворен его голод. Тогда он стал рыться глубже этой законченной, материальной, ограниченной науки; он не побоялся даже рискнуть спасением души своей и уселся за один стол с алхимиками, астрологами и герметиками, за которым в средние века почетное место занимали Аверроэс, Гильом Парижский и Николай Фламель, и за которым в глубокой древности, при свете подсвечника о семи рожках, сидели Соломон, Зороастр, Пифагор. Так, по крайней мере, предполагали; основательно или нет – это другой вопрос.
Верно то, что архидиакон часто посещал кладбище «младенцев, избиенных Иродом»; правда, здесь были похоронены отец и мать его, вместе с другими жертвами моровой язвы 1466 года; но он, по-видимому, менее усердно молился у их могильного креста, чем возле находившихся тут же, по соседству, могил Николая Фламеля и Клода Пернеля. Его также не раз видели проходившим по улице Ломбардцев и как бы украдкой проскальзывавшим в небольшой домик, стоявший на углу улиц Писцов и Мариво. Этот дом выстроил Николай Фламель, который и умерь в нем около 1417 года; с тех пор дом стоял заброшенный, начинал уже разрушаться, до того алхимики и герметики всех стран попортили его стены, выцарапывая на них свои имена. Некоторые соседи уверяли даже, будто раз подглядели в замочную скважину, как диакон Клод взрывал и переворачивал землю в двух подвалах, стены которых сам Николай Фламель исчертил разными иероглифами и стихами. Полагали, что Фламель зарыл в этих погребах добытый им философский камень, и в течение целых двух столетий алхимики, начиная с Магистри и кончая патером Пачифико, не переставали рыться и копаться в этом доме до тех пор, пока он весь не превратился в мусор и щебень.
Верно также и то, что архидиакон почувствовал какую-то странную страсть к символическим дверям собора Парижской Богоматери, к этой чернокнижнической странице, исписанной камнями парижским епископом Гильомом, который, надо полагать, обречен на все муки ада за то, что сочинил такую недостойную заглавную страницу к священной поэме, которую беспрерывно распевает остальная часть здания. Об архидиаконе Клоде ходила также молва, что он досконально изучил колоссальную статую св. Христофора и ту другую, громадную, загадочную статую, которая стояла в то время у входа на паперть, и которую народ в насмешку называл «господином Серко». Но особенно часто всякий желающий мог его видеть сидящим по целым часам перед папертью и рассматривавшим резьбу главных входных дверей, то как будто изучавшим фигуры глупых дев, с их опрокинутыми книзу светильниками, то фигуры мудрых дев, которые держали свои светильники прямо перед собою; в другой раз он как будто следил взглядом за направлением взоров изображенного над левою створкой дверей ворона, устремленных, казалось, на какую-то таинственную точку в церкви, без сомнения, именно на то место, где скрывался философский камень, если только он не был зарыт в подвале Николая Фламеля. Заметим здесь, кстати, что, по какому-то странному капризу случая, в здание собора Парижской Богоматери, так сказать, влюбились одновременно, хотя и весьма различною любовью, два существа, столь мало похожие друг на друга, как Клод и Квазимодо: один, какой-то получеловек, дикарь, существо почти совсем лишенное разума, за его красоту, его стройность, за гармоничность всех его частей; другой, человек ученый и страстный, за его внутренний смысл, за его мифы, за его символизм, словом, за загадку, которую оно вечно представляет уму.
Архидиакон устроил себе в той из двух башен собора, которая выходит на Гревскую площадь, рядом с помещением для колоколов, небольшую келийку, в которую, как уверяли, без его позволения не мог войти никто, даже сам епископ. Эта келийка была когда-то построена на самой вышке колокольни, рядом с вороньими гнездами, епископом Гуго Безансонским (1326–1332), считавшимся в свое время великим колдуном. Никому не было известно, что заключалось в этой келье; но часто видели, с ближайшей площади, как по ночам в маленьком оконце, проделанном в башне, появлялся, исчезал и снова появлялся, с небольшими промежутками, какой-то странный, красноватый, точно мигающий свет, производимый как будто раздуванием мехов и происходивший, очевидно, от очага, а не от свечки. Этот мерцавший сверху свет производил на находившихся внизу довольно странное впечатление, и соседние кумушки шептали друг другу: «Вон, архидиакон снова пошел раздувать свой огонь; это какая-то дьявольская жаровня».
В конце концов, во всем этом, по всей вероятности, не было ни малейшего колдовства; но все же было настолько дыма, чтобы заставить предполагать огонь, а ученый архидиакон и без того уже пользовался не особенно лестной репутацией; между тем, всякое чернокнижие, всякая магия, даже самого невинного свойства, не имели более беспощадного доносчика, чем Клод Фролло. Но, тем не менее, ученые мужи соборного капитула, следовавшие, быть может, в этом отношении примеру того вора, который первый пускается кричать: «караул, лови, держи вора!» – считали архидиакона человеком, знакомым со всеми ходами ада, погрузившимся в дебри кабалистики и занимающимся тайком чародейством. Точно также смотрел на это дело и простой народ, в глазах которого Квазимодо был воплощенным дьяволом, а Клод Фролло – колдуном; для всех было очевидно, что звонарь должен был служить архидиакону в течение определённого времени, по истечении которого он возьмет себе в уплату его душу. И поэтому, вообще, архидиакон, несмотря на свой строгий образ жизни, не пользовался хорошей репутаций у людей благочестивых, и любая старуха-ханжа верхним чутьем чувствовала в нем колдуна.
С течением времени душа Клода Фролло все более и более черствела и сохла; так, по крайней мере, мог заключить всякий, который только видел это лицо, на котором душа никогда не отражалась иначе, как сквозь густой туман. Отчего лоб его полысел раньше времени, голова его постоянно свешена была на грудь, грудь его беспрерывно испускала глубокие стоны? Какая затаенная мысль вызывала улыбку на устах его, между тем, как обе наморщившиеся брови его сближались, точно два быка, собирающиеся ринуться друг на друга? Почему оставшиеся еще на голове его волосы уже успели поседеть? Какой внутренний огонь заставлял по временам вспыхивать его взор таким ярким блеском, что глаз его становился похожим на дыру, пробуравленную в доменной печи?
Все эти признаки сильной внутренней озабоченности особенно усилились как раз к той эпохе, к которой относится наш рассказ. Не раз случалось какому-нибудь маленькому певчему в испуге убегать от него, заставши его одного в церкви, до того взгляд его был странен и страшен. Не раз во время обедни сосед его по скамейке слышал, как он примешивал к общему хоровому пению какие-то непонятные слова. Не раз поломойка, нанятая для мытья полов в церкви, не без страха замечала высунувшиеся из-под рясы судорожно сжатые пальцы и кулаки архидиакона. Но вместе с тем он становился все более и более строгим и никогда еще не вел более примерного образа жизни. По самому сану своему, как и по характеру, он всегда держался вдали от женщин; теперь, казалось, он ненавидел их более, чем когда- либо. При одном только шелесте шелковой юбки он поспешно накидывал на голову капюшон своей рясы. Он до того был строг и сдержан по отношению к женщинам, что когда как-то в декабре 1481 года принцесса де-Божё, дочь короля, пожелала посетить состоявший при соборе монастырь, он решительно воспротивился тому, напомнив епископу устав 1334 года, возбраняющий доступ в монастырь «всем женщинам, без различия сословий и возраста», и епископ нашелся вынужденным привести ему на память послание легата Одо, сделавшего исключение «ради некоторых женщин знатного рода, недопущение которых могло бы произвести скандал». Но архидиакон продолжал протестовать, утверждая, что послание легата, изданное в 1207 году, было на 127 лет старее устава 1334 года и что последующими распоряжениями отменяются предыдущие. Он лично так-таки и отказался представиться принцессе.
Кроме того, с некоторых пор в нем стало замечаться еще какое-то особое, так сказать, специальное нерасположение к цыганкам. Он исходатайствовал у епископа специальное распоряжение, которым цыганкам воспрещалось плясать и ударять в бубны на площади перед церковной папертью, и в то же время он стал рыться в заплесневевших консисторских актах, собирая данные относительно всех случаев сожжения или повешения колдунов и колдуний по обвинению их в порче людей с помощью козлов, коз и свиней.