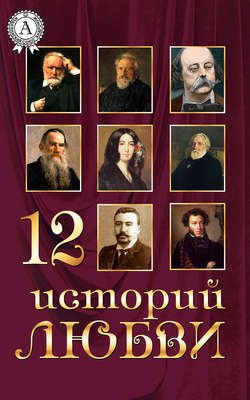Читать книгу 12 историй о любви - Коллектив авторов - Страница 29
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери
Часть I
Книга шестая
IV. Слеза за каплю воды
ОглавлениеСлова эти были как бы соединительной чертой между двумя сценами, которые до сих пор разыгрывались, так сказать, параллельно, на одной и той же площади – одна близ Крысиной норы, другая, которую мы сейчас опишем, на лестнице, ведущей к позорному столбу Свидетельницей первой были только три женщины, с которыми читатели только что познакомились, зрительницей второй была вся толпа, которая, как мы видели выше, собралась на Гревской площади вокруг позорного столба и виселицы.
Эта толпа, ожидавшая, при виде четырех полицейских сержантов, ставших с девяти часов утра у четырех углов лобного места, какой бы то ни было казни, если и не повешения, то, по меньшей мере, наказания плетьми, обрезания ушей, словом, чего-нибудь в этом роде, в непродолжительном времени до того возросла, что четыре сержанта, на которых ротозеи напирали со всех сторон, не раз нашли нужным осаживать ее при помощи кулаков и лошадиных крупов. Впрочем, толпа эта, привыкшая ко всем приготовлениям, предшествовавшим подобного рода зрелищам, не выказывала слишком большого нетерпения. Она забавлялась разглядыванием лобного места, очень простого, в сущности, сооружения, состоявшего из каменного куба футов десяти в вышину и пустого внутри. Очень крутая лестница, сложенная из необтесанных камней, вела на верхнюю площадку этого куба, на которой можно было различить прикрепленное в горизонтальном положении колесо, сделанное из цельного дуба. Подвергаемого наказанию привязывали к этому колесу, предварительно поставив его на колени и скрутив ему руки назад. Деревянный стержень, приводившийся в движение воротом, устроенным внутри этой небольшой постройки, придавал колесу вращательное движение, причем оно оставалось, однако, в горизонтальном положении, и таким образом лицо наказуемого поочередно было видно со всех пунктов площади. Это-то и называлось «поворачивать преступника.
Как видно, Гревское лобное место представлялось гораздо менее интересным, чем лобное место возле Ратуши. Тут не было ни крыши из железных стропил, ни восьмигранного фонаря, ни изящных колонн, оканчивавшихся под самой крышей акантовыми листьями и цветами, ни причудливых и безобразных желобов, ни плотничной резьбы, ни искусно высеченных камней. Здесь приходилось ограничиваться четырьмя голыми стенами, сложенными из песчаника, двумя аспидными досками и стоявшею рядом с ними жалкою, тощею и голою каменной виселицей. Словом, для любителей готической архитектуры здесь была бы скудная пожива. Нужно, впрочем, заметить, что нетребовательные средневековые ротозеи мало смыслили в архитектуре и еще менее заботились о красоте лобного места.
Наконец, привезли осужденного, привязанного к заду телеги. Когда его ввели на помост, когда его можно было разглядеть со всех пунктов площади, привязанным веревками и ремнями к колесу, по всей площади раздавались крики, смех и свистки. Все узнали Квазимодо.
И действительно, это был он. Странное коловращение судьбы! Сегодня ему пришлось быть выставленным у позорного столба на той самой площади, на которой его не далее как вчера приветствовала восторженными криками толпа, на которой он фигурировал в виде шутовского папы, имея в своей свите Египетского герцога, Тунского короля и императора Галлилеи. Во всяком случае, верно только то, что во всей этой толпе не было ни одного человека, не исключая и его самого, вчерашнего триумфатора и сегодняшнего наказуемого, который мог бы составить себе ясное понятие о том, как и почему все это так случилось. Дело в том, что при этом зрелище не было философа Гренгуара.
Наконец, Мишель Нуаре, герольд его величества короля, заставил толпу замолчать и громким голосом прочел состоявшийся в это утро приговор. Затем он встал позади телеги, вместе с своей, одетой в полицейские мундиры, свитой.
Квазимодо оставался совершенно безучастен ко всему, происходившему вокруг него, и не шевелил бровью. Всякое сопротивление с его стороны сделалось невозможным, в виду «крепости и прочности уз», как говорилось в то время на канцелярском языке, другими словами, – потому, что он так крепко был скручен веревками и ремнями, что они врезывались в его тело. Эта традиция сохранилась, впрочем, еще и до наших дней, и колодники сохранили полнейшее право гражданства среди нас, цивилизованного, гуманного, кроткого народа (не говоря уже о галерах и о гильотине).
Он беспрекословно давал вести, толкать, нести, усаживать, связывать и перевязывать себя. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме удивления дикаря или идиота. Все знали, что он глух, но теперь можно было подумать, что он и слеп. Его поставили на колена на круглую доску, – он не сопротивлялся. С него сняли его камзол и рубашку и обнажили его до пояса, он не сопротивлялся. Его привязали к колесу с помощью целой сложной системы ремней и пряжек, он все-таки не сопротивлялся; он только тяжело дышал, точно теленок, голова которого свесилась с телеги мясника и болтается.
– Экий болван! – сказал Жан Фролло-де-Мулен другу своему Робену Пусспену (ибо, само собой разумеется, что оба школяра сочли своим непременным долгом присутствовать и при этой экзекуции), – он ничего не понимает, точно майский жук, посаженный в коробку.
Толпа разразилась громким смехом, увидев обнаженный горб Квазимодо, его верблюжью грудь, его волосатые и грубые плечи. Еще не успел улечься смех, как какой-то человек, одетый в мундир муниципальных чиновников, небольшого роста, но крепкого сложения, взошел на плаху и стал возле осужденного. Имя его тотчас же стало переходить из уст в уста; это был Пьерро Тортерю, присяжный палач при парижском суде.
Он начал с того, что поставил в один из углов выкрашенные черной краской песочные часы, верхний сосуд которых был наполнен красноватым песком, сыпавшимся отдельными песчинками в нижний сосуд. Затем он снял свой камзол и взял в правую руку тонкое кнутовище, к которому были прибиты гвоздями несколько длинных ремней, белых, блестящих, узловатых, заплетенных, с железными наконечниками. Левой рукой он небрежно засучил правый рукав своей рубашки выше локтя.
Тем временем Жан Фролло кричал, поднимая свою белокурую, курчавую голову над головами толпы (для того, чтобы лучше видеть, он вскарабкался на плечи своего друга Пусспена):
– Приходите, господа и госпожи! Сейчас будут наказывать плетьми господина Квазимодо, звонаря моего брата, г. архидиакона, замечательный образец восточной архитектуры, у которого спина представляет купол, а ноги – кривые колонны!
И толпа разразилась хохотом, в особенности дети и молодые девушки.
Наконец, палач топнул ногою, и колесо завертелось; Квазимодо закачался под своими ремнями. Тупое удивление, выразившееся вдруг на его безобразном лице, еще более усилило хохот толпы.
Вдруг, в то самое время, когда колесо в своем вращательном движении подставило палачу горбатую спину Квазимодо, г. Пьерро поднял правую руку, тонкие ремни зашипели в воздухе, как змеи, и затем опустились на спину несчастного. Квазимодо весь вздрогнул, как бы внезапно пробужденный. Теперь он начинал понимать. Он съежился под стягивавшими его ремнями; безобразные черты лица его сделались еще более безобразными от выражения удивления и боли, но он не испустил ни единого крика. Он только стал мотать головою, точно бык, которого ужалил слепень.
За первым ударом последовал второй, затем третий, и еще, и еще, без конца. Колесо продолжало вертеться, удары продолжали сыпаться. Вскоре на спине несчастного выступила кровь, которая стекала ручьями на смуглые плечи горбуна, а тонкие ремни, свистя по воздуху, разносили брызги ее в толпу.
Квазимодо снова сделался, по крайней мере, с виду, совершенно безучастным ко всему, что с ним творилось. Он сначала пытался было потихоньку, не делая особенно резких движений, разорвать скручивавшие его ремни. По крайней мере, многие могли заметить, как единственный его глаз заблестел, мускулы его сжались, члены его съежились, а веревки и ремни вытянулись. Это было отчаянное усилие; однако, ремни оказались достаточно крепкими; они только затрещали, но не порвались. Тогда на лице обессиленного Квазимодо выражение удивления уступило место выражению глубокого и горького отчаяния. Он закрыл единственный свой глаз, опустил голову на грудь и притворился мертвым.
С этих пор он уже не шевелился, и ничто не могло вызвать с его стороны ни малейшего движения, ни его кровь, не перестававшая литься, ни удары, становившиеся все более и более сильными, ни гнев истязателя, который приходил в азарт и как бы пьянел от вида крови, ни страшный свист ремней, более пронзительный и более резкий, чем свист насекомого.
Наконец, судебный пристав, присутствовавший с самого начала экзекуции верхом на черной лошади возле самой лестницы, ведущей на плаху, протянул свою палочку из черного дерева по направлению к песочным часам. Палач опустил свою руку; колесо остановилось; глаз Квазимодо медленно раскрылся.
Наказание плетьми было окончено. Два помощника палача обмыли окровавленные плечи наказанного, смазали их какою-то мазью, которая тотчас же стянула все рубцы, и накинули ему на спину какой-то кусок желтой материи, выкроенный в виде ризы. Тем временем Пьерро Тортерю давал стекать на мостовую каплям крови с ремней плети.
Но этим еще не все окончилось для Квазимодо. Ему оставалось еще простоять целый час у позорного столба согласно мудрой приписке, сделанной Флорианом Барбедиенном к резолюции Робера д’Эстутевилля – вероятно, в подтверждение старинной физиологически-психической игры слов Иоанна Куменского: «Surdus absurdus» (глух – глуп). Поэтому палач перевернул песочные часы и оставил горбуна привязанным к колесу для того, чтобы правосудие совершилось до конца.
Простой народ, особенно в средние века, является в обществе тем же, чем ребенок является в семействе. До тех пор, пока он остается в первобытном состоянии нравственного и умственного несовершеннолетия, о нем можно сказать то же, что сказал поэт о ребенке: «Этот возраст не знает сострадания».
Мы упоминали уже выше о том, что Квазимодо пользовался всеобщею ненавистью, правда, не совсем неосновательною. Во всей этой толпе едва ли был хотя один человек, который не относился бы со злобой и презрением к гадкому звонарю-горбуну. Поэтому Велика была всеобщая радость, когда его увидали выставленным к позорному столбу; жестокое наказание, которому он только что подвергся, и жалкое положение, в котором он оставался после него, не только не возбудили в массе жалости, но сделали ее ненависть еще более злобною и придали ей комический оттенок.
В виду этого нет ничего удивительного в том, что, по совершении «публичной кары», как и ныне еще говорят на своем жаргоне присяжные юристы, наступила очередь проявления в тысячи видах частной мести. И здесь, как и во всяких подобного рода случаях, преобладали женщины: почти все они не любили его, одни за его злость, другие за его безобразие. Особенно неистовствовали последние.
– У-у! антихристова рожа! – говорила одна.
– Ему бы только и делать, что ездить верхом на метле – кричала другая.
– Вот теперь-то он еще красивее, чем вчера, – хихикала третья. – Жаль, что вчерашний день не был сегодняшним. Вот то вышел бы настоящий шутовской папа!
– Да что, – с сожалением замечала какая-то старуха, – ведь это только позорный столб. То ли дело добрая виселица!
– Когда тебя зароют с твоим большим колоколом на сто футов под землею, проклятый звонарь?
– И подумаешь, что этакий-то дьявол благовестил к «Достойной!»
– У-у, проклятый глухарь, горбун, кривой, чучело!
– Если какая-нибудь женщина пожелает выкинуть, то ей достаточно посмотреть на него: это будет подействительнее всяких лекарств и снадобий.
А оба школяра, Жан Фролло и Робен Пусспен, распевали во всю глотку старую простонародную песенку:
«Для висельника петля, для чучела – соломы связка».
И со всех сторон на беднягу сыпались насмешки, брань, ругательства, а порою и камни.
Хотя Квазимодо был глух, но за то он хорошо видел единственным своим глазом, а народная ярость выражалась на лицах не менее ясно, чем на словах. К тому же сыпавшиеся на него камни служили достаточно ясной иллюстрацией к раздававшимся отовсюду взрывам хохота.
Он сначала крепился. Но мало-помалу это терпение, устоявшее против плети палача, лопнуло и не выдержало тысячи уколов мелких мошек. Так Астурийский бык остается равнодушен к уколам копья пикадора, но приходит в ярость от лая собак и от махания флагами.
Сначала он медленно обвел толпу угрожающим взглядом. Но так как он был крепко накрепко привязан к колесу, то взгляд его был бессилен для того, чтобы прогнать надоедавших ему мух, бередивших его рану. Тогда он начал корчиться и ворочаться с такою силою, что доски старого колеса трещали и скрипели. Все это еще более усиливало смех и крики толпы. Тогда несчастный, убедившись в том, что ему все равно не разорвать свои оковы, снова успокоился; только по временам из глубины его груди вырывался вздох ярости. Лицо его не было красно и на нем нельзя было прочесть выражения стыда: он был слишком далек от цивилизации и слишком близок к первобытному состоянию, чтобы понимать, что такое стыд. К тому же, разве мыслимо чувство стыда при таком уродстве? Но за то гнев, ненависть, отчаяние медленно опускали на это безобразное лицо тучу все более и более мрачную, все более и более насыщенную электричеством, которое сверкало тысячью искр из глаза этого циклопа.
Эта туча, впрочем, рассеялась на минуту, когда он увидел пробиравшегося сквозь толпу верхом на муле священника. Как только бедняга еще издали заметил этого священника и этого мула, лицо его прояснилось: вместо прежнего выражения бессильной ярости, на нем появилась какая-то странная улыбка, кроткая, приветливая, даже нежная. По мере того, как священник приближался, улыбка эта становилась все более и более счастливою, радостною, блаженною. Несчастный как бы приветствовал прибытие спасителя. Однако, когда мул настолько приблизился к лобному месту, что всадник мог узнать наказуемого, священник опустил глаза, быстро повернул мула назад и погнал его, как бы желая избавиться от умоляющих взоров привязанного к колесу человека, очевидно, опасаясь, как бы бедняга, находившийся в таком унизительном положении, не вздумал узнать его и поклониться ему.
Это духовное лицо был архидиакон Клод Фролло.
Черная туча снова надвинулась на лицо Квазимодо. На устах его некоторое время продолжала еще играть улыбка, но теперь это была уже улыбка горькая, печальная, полная глубокого отчаяния.
А время все шло да шло. Уже, по крайней мере, целых полтора часа его мучили, терзали, осмеивали, чуть не забрасывали каменьями.
Вдруг он снова заворочался на своем колесе с такою силою отчаяния, что задрожал весь помост, и, прервав, наконец, молчание, которое он упорно хранил до сих пор, он закричал хриплым и сердитым голосом, который походил скорее на лай собаки, чем на человеческий голос, и который покрыл собою стоявший вокруг него гул:
– Пить!
Этот отчаянный возглас не только не возбудил сострадания толпы, но послужил, напротив новым источником смеха для добрых парижан, окружавших эшафот, которые, нужно в том сознаться, в массе, в табуне, так сказать, были в то время не менее жестоки и не менее грубы, чем та ужасная шайка разбойников и мазуриков, с которою мы уже имели случай познакомить читателя, и которая принадлежала к подонкам общества. Вокруг несчастного не раздалось ни одного голоса, кроме голосов тех, которые глумились над его жаждой. Правда, что в эту минуту он был столько же смешон и отвратителен, сколько и достоин сожаления, с его красным, обливающимся потом, лицом, с его дико-сверкающим глазом, с его ртом, вокруг которого выступила пена ярости, с его наполовину высунувшимся языком. К этому нужно прибавить еще и то, что если бы в этой толпе и нашлась какая-нибудь сострадательная душа, которая попыталась бы дать напиться этому жалкому, мучимому жаждой существу, то предрассудков и позора, окружавших лобное место, было бы достаточно для того, чтобы заставить милосердного самарянина отказаться от своего намерения.
По прошествии нескольких минут Квазимодо снова обвел толпу отчаянным взором и повторил еще более раздирающим голосом:
– Пить!
Новый взрыв хохота.
– Пей вот это! – крикнул Робен Пусспен, бросив ему в самое лицо губку, поднятую им в грязной уличной луже. – На тебе, проклятый глухарь! Я еще твой должник!
Какая-то женщина швырнула ему камнем в самую голову, проговорив:
– А вот тебе за то, что ты будишь нас по ночам своим проклятым трезвоном!
– Ну, что, брат, – ревел какой-то калека, стараясь достать его своей клюкой, – будешь ты еще ниспосылать нам порчу с вышки твоей колокольни?
– На вот тебе черепок, напейся, – крикнул один из толпы, бросив ему в самую голову разбитый кувшин. – Это ты, проклятый урод, виноват в том, что жена моя, увидав твою богомерзкую рожу, разрешилась от бремени ребенком о двух головах.
– А кошка моя окотилась котенком о шести лапах, – визжала старуха, бросая в него черепицей.
– Пить! – в третий раз повторил Квазимодо, задыхаясь.
В это самое время он увидел, что толпа расступилась и что от нее отделилась молодая девушка в каком-то странном костюме, с тамбурином в руке; за нею бежала белая козочка с позолоченными рогами.
Глаз Квазимодо засверкал. Это была та самая цыганка, которую он пытался похитить прошлою ночью; он смутно сознавал, что за эту самую выходку его теперь наказывают, – предположение, впрочем, совершенно неосновательное, так как его наказывали только за то, что он имел несчастие быть глухим и попасться в руки глухому судье. Он поэтому нимало не сомневался в том, что и она направляется к нему, чтобы сорвать на нем злобу и также нанести ему удар и со своей стороны.
Действительно, она быстрым и легким шагом поднялась по лестнице. Он задыхался от злобы и досады. Он в эту минуту желал бы проломить помост и если бы глаз его обладал блеском молнии, то цыганка, без сомнения, была бы испепелена прежде, чем она успела бы взобраться на помост.
Она приблизилась, не произнеся ни слова, к Квазимодо, тщетно старавшемуся отвернуться от нее, и, отвязав от своего пояса фляжку с водой, поднесла ее к запекшимся губам несчастного.
Тогда на этом глазу, до сих пор сухом и воспаленном, выступила крупная слеза, которая медленно скатилась по этому безобразному, а теперь еще искаженному злобой и отчаянием лицу. Это, быть может, была первая слеза, которую пролило это жалкое существо. Он даже совсем забыл о своей жажде. Цыганка сделала гримасу, выражавшую нетерпение, и приложила к его зубастому, как у щуки, рту горлышко фляжки.
Квазимодо стал жадно тянуть в себя воду и выпил почти всю фляжку, – до того сильна была его жажда.
Напившись, он вытянул свои безобразные губы, без сомнения, для того, чтобы поцеловать красивую ручку, которая только что утолила его жажду. Но молодая девушка, быть может, помня ночное покушение его и, относясь к нему с недоверием, отдернула свою руку с испуганным жестом ребенка, который боится, как бы его не укусил зверь, которого он гладит. Тогда бедняга устремил на нее взор, полный упрека и невыразимой горести.
Эта красивая, свежая, чистая, прелестная и в то же время столь слабая молодая девушка, так сострадательно поспешившая на помощь к этому уродливому и злому, но несчастному существу, представила бы всюду прелестное зрелище. У позорного же столба это зрелище становилось величественным. Даже вся эта толпа стала рукоплескать и испускать одобрительные возгласы.
В это самое время затворница увидела сквозь оконце своей норы стоявшую на помосте цыганку и закричала ей диким голосом:
– Будь проклята, дочь Египта, будь проклята, проклята, проклята!..