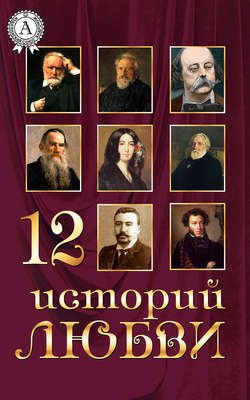Читать книгу 12 историй о любви - Коллектив авторов - Страница 26
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери
Часть I
Книга шестая
I. Беспристрастный взгляд на старинное судейское сословие
ОглавлениеВ 1482 году существовал на свете очень счастливый человек, а именно кавалер Робер д’Эстетувилль, владетель Бейна, барон Иври и Сент-Андри в Марках, советник и каммергер короля и член парижского муниципального совета. Лет 17 перед тем, а именно 7-го ноября 1465 года, т. е. в самый год появления кометы[22], он получил от короля прибыльную должность парижского старшины, считавшуюся скорее почетною, чем служебною, «должность, которая, – как говорит Иоанн Леменус, – соединяет с немалою властью, по отношению к политике, немалые политические прерогативы и права». В 1482 году нечто диковинное представлял собою дворянин, грамоты которого относились к эпохе свадьбы дочери короля Людовика IX с кавалером Бурбонским и который получал должность из рук короля. В тот самый день, когда Робер д’Эстетувилль заменил Жака де-Вилье в парижском городском совете, Жан Дове заменил Эли де-Торрети в звании старшего председателя суда, Жан Жувенель-дез-Юрсен сменил Пьера де-Морвиллье в должности канцлера Франции, а Реньо де Дорман занял, вместо Пьера Пюи, место управляющего королевским двором. А между тем, сколько лиц уже перебывали в звании президента, канцлера и управляющего двором, между тем, как Робер д’Эстутевилль все еще оставался председателем парижского муниципального совета. Эта должность была отдана ему «на хранение», как говорилось в грамотах, и, надо отдать ему справедливость, он охранял ее хорошо. Он уцепился за нее, он сжился с нею, он до того отожествился с нею, что ему удалось устоять даже против той мании к переменам, которая овладела Людовиком XI во вторую половину его царствования. Король этот отличался подозрительным, хлопотливым и беспокойным характером, и он надеялся частыми переменами и смещениями поддержать неприкосновенность своей власти. Мало того, кавалеру д’Эстутевиллю удалось добиться того, что преемником его в должности уже заранее был назначен сын его, и уже целых два года имя шталмейстера Жака д’Эстутевилля значилось рядом с его именем в списке членов парижского муниципального совета. Без сомнения, редкая и великая милость! Правда и то, что Робер д’Эстутевилль был храбрый воин, что он честно сражался за короля против «лиги добра» и что он преподнес королеве, в день ее въезда в Париж в 14.. году, великолепного, сделанного из сахара, оленя. Кроме того, он пользовался расположением Тристана Пустынника, начальника королевской стражи и любимца короля. Из всего этого не трудно понять, что сир Робер вел очень приятную и веселую жизнь. Во-первых, он получал очень хорошее жалованье, к которому присоединялись еще, свешиваясь, точно крупные гроздья на виноградной лозе, доходы от гражданских и уголовных дел, подлежавших его разбирательству, не считая также доходов от пошлинных застав у Мантского и Корбейльского мостов, от соляных магазинов и от дровяных дворов. Прибавьте ко всему этому еще удовольствие – фигурировать в городских процессиях впереди всех советников, одетых в красно-каштановые мантии, в своем великолепном воинском одеянии, которое вы и поныне можете видеть изваянным на его гробнице, в Вальмонтском аббатстве, в Нормандии, и его чеканенный шишак, хранящийся в Монтлери. А чего стоило удовольствие иметь под своим начальством всю городскую и тюремную стражу города, всех служащих при тюрьмах, обоих секретарей Шатле, 16 комиссаров шестнадцати городских кварталов, главного смотрителя тюрем, четырех присяжных сержантов, 120 конных городских стражников, 120 пеших стражников, начальника ночного дозора с его помощниками и его командой? А разве пустяки – право судить и казнить, право колесовать, вешать и четвертовать, не считая менее строгих наказаний («наказаний, налагаемых первой инстанцией», как говорилось в грамотах), предоставленного ему во всем Парижском графстве, состоявшем из семи округов? Можно ли представить себе что-либо более приятное произнесения приговоров, как то делал ежедневно Робер д’Эстутевилль под широкими и низкими аркадами Шатле Филиппа-Августа, с тем, чтобы затем вечером отправляться отдыхать от трудов праведных в красивый дом в улице Галилея, в ограде Пале-Рояля, полученный им в приданое за своей женой, Амбруаз де-Лоре, между тем, как осужденный им в это же утро бедняга проводил ночь в тюремной каморке, имевшей 11 футов в длину, 7 футов в ширину и 11 футов вышины?
Но Робер д’Эстутевилль исправлял должность не только парижского судьи, но заседал и в главном королевском суде. Не было ни одной столько-нибудь высокопоставленной головы, которая не прошла бы через его руки, прежде чем попасть в руки палача. Не кто иной, как он, отправился в Сент-Антуанскую Бастилию, чтобы отвести оттуда на рыночную площадь графа Немурского, или на Гревскую площадь коннетабля Сен-Поля, который протестовал и барахтался, к великой радости г. д’Эстутевилля, питавшего к коннетаблю глубокую ненависть. Всего этого, конечно, более чем достаточно для того, чтобы обеспечить человеку счастливую и спокойную жизнь и чтобы заслужить почетной страницы в той самой истории парижских бургомистров, из которой мы узнаем, что у Удара-де-Вильнева был свой дом в улице Мясников, что Гильом-де-Хангаст купил целых два дома, один побольше, другой поменьше, что Гильом Тибу завещал монахиням св. Женевьевы дома свои в улице Клопен, что Гюг Обрио жил в доме под вывеской Дикобраза, и разные другие тому подобные подробности.
И, однако, несмотря на столько обстоятельств, способных обеспечить веселую и счастливую жизнь, Робер д’Эстутевилль проснулся 7-го января в самом скверном и мрачном расположении духа. Отчего это происходило – он сам не был бы в состоянии объяснить. Небо ли было слишком пасмурно? Жала ли его довольно объемистый живот пряжка его старого монлерийского пояса? Прошли ли по улице мимо его окон бесстыдники, не отнесшиеся к нему с должным почтением и горланившие, несмотря на то, что он сидел у окна, свои неприличные песни? Было ли это смутное предчувствие того, что в будущем году новый король Карл VIII сократит доходы его на целых 370 франков 16 с половиною су? Читатель волен выбрать любое из этих предположений. Что касается нас, то мы склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе.
К тому же дело происходило на другой день после праздника, т. е. наступил день весьма скучный для всех, а в особенности для городских властей, которым приходилось выметать, в прямом смысле, весь сор, который, обыкновенно, покрывал парижские улицы на следующий день после праздника. К тому же в этот день у него было заседание в суде. А в то время, – как, впрочем, и теперь, – не трудно было заметить, что дни заседаний совпадают обыкновенно у судей с днем дурного расположения духа, что мудрая природа устроила, по-видимому, в тех видах, чтобы им было на ком излить свою досаду именем короля, закона и справедливости.
Заседание открылось, однако, без него. Помощники его по уголовным и гражданским делам и по частным жалобам, по обыкновению, уже приступили к делу, и, начиная с восьми часов утра, несколько десятков горожан и горожанок, скученные и спертые в одной из зал Шатлэ между толстой, дубовой загородкой и стеною, благоговейно следили за умилительным и разнообразным зрелищем того, как Флориан Барбедьенн, член королевского суда, товарищ главного судьи, творил суд и расправу, правда, кое-как и наугад.
Комната была небольшая, низкая, со сводами. В глубине ее стоял стол, с вырезанными на нем лилиями; перед ним стояло большое кресло из резного дуба, предназначенное для г. д’Эстутевилля и оказавшееся в настоящее время незанятым, а влево от него – стул для помощника судьи, Флориана Барбедьенна. Несколько ниже сидел секретарь, что-то царапавший на бумаге. В глубине комнаты, против самого стола, сидела публика; а возле двери и возле стола немало городских стражей, в своих камзолах из фиолетового камлота, с белыми крестами. Два сержанта гражданской милиции, одетые в полосатые, красные с синим куртки, стояли на часах перед низкой, запертой дверью, которая виднелась позади судейского стола. Одно единственное узкое, стрельчатое окно, пробитое в толстой стене, освещало слабым январским светом две забавные фигуры – какого-то высеченного из камня чертика, служившего подставкой лампе, и судью, сидевшего в глубине залы за столом с лилиями.
Действительно, представьте себе сидящим за судейским столом, между двумя связками бумаг, опершись на локти, с ногами, запутавшимися в шлейф длинной, темно-коричневой мантии, с головой, ушедшей в воротник из белого барашка, из-за которого выглядывали только пара густых бровей, пара красных, толстых, отвислых щек, пара моргающих глаз человека, – и вы будете иметь довольно ясное понятие о Флориане Барбедьенне, члене суда Шатлэ.
Прибавьте ко всему этому еще, что Флориан Барбедьенн был глух, что, конечно, является легким недостатком со стороны члена суда. Это, однако же, нисколько не мешало Флориану творить суд очень развязно и безапелляционно. Да, действительно, для судьи важно только то, чтобы он делал вид, будто слушает; а почтенный член суда тем лучше удовлетворял этому существенному во всяком хорошем делопроизводстве условию, что внимание его не развлекалось никаким посторонним шумом.
Впрочем, в числе присутствующих он нашел себе неумолимого контролера всех своих жестов и действий в лице нашего друга Жанна Фролло-дю-Мулен, вчерашнего шалуна-школьника, этого шалуна, которого, наверное, можно было встретить где угодно, только не на школьной скамье.
– Посмотри-ка, – говорил он потихоньку своему товарищу Робену Пусспену, хихикавшему подле него, между тем, как Жан делал различные замечания по поводу разыгравшихся перед глазами их сцен, – посмотри-ка, вон, Жанна дю-Бюиссон, красивая дочка лентяя с Нового моста! – А этот старый дурак осуждает ее! Что ж, у него нет ни глаз, ни ушей, что ли? Пятнадцать су и четыре полушки за то, что она два раза пропела на улице «Отче наш!» Строгонько! Суров закон для певца! А это кто же такой? А, Робен Шьеф-де-Вилль, кольчужных дел мастер! А ведь он только что принят в цех! Ну, что ж, пусть он хоть в тюрьме вспрыснет свое принятие в цех! Гляди, гляди! Два дворянина среди этих мазуриков! Эгле-де-Суэн, Гютен-де-Майльи! Два рыцаря, ей Богу! А-а! они играли в кости! А отчего же нет здесь нашего ректора, этого отъявленного игрока? Сто парижских ливров штрафа в королевскую казну! Черт его побери, этого Барбедьенна, как он лупит! Да, впрочем, ведь он глух и сам не слышит ударов! Однако пусть я буду моим братом архидиаконом, если это помешает мне играть, – играть и днем, и ночью, и жить, и умереть за игрою, проиграть сначала мою рубашку, а потом и мою душу! – Пресвятая Дева, сколько барышень! Ну-ка, ну-ка, выступайте, голубушки! Амбруаза Лекюйер, Изабелла Ла-Пайнетт, Герарда Жиронен! Все мои знакомые, ей Богу! Штраф, штраф! Поделом! Будет вам носить позолоченные кушаки! Десять парижских су! Ну, что взяли, кокетки? – У-у! старая судейская рожа! У-у! олух Флориан! У-у! болван Барбедьенн! Как он расселся у стола! Он жрет и истца, он жрет и ответчика, он жрет все, что попадется ему под руку! Он жует, давится, переполняет свое брюхо! Штрафы, пошлины, судебные издержки, пени, колодки, тюрьма, – все это для него точно рождественские пряники или ивановский марципан! Ну, вот! Еще женщина! Тибо ла-Тибод, ни более, ни менее! И ее привлекли в суд за то, что она осмелилась выйти из улицы Глатиньи! А это что за парень? Э! да ведь это Жифруа Мабонн, стрелок из лука! А-а! Он богохульствовал! К штрафу Тибода! К штрафу Жифруа! К штрафу их обоих! Старый глухарь! Он, должно быть, перепутал оба эти дела. Держу пари десять против одного, что он приговорит к наказанию девушку за богохульство и жандарма за ночную прогулку. Гляди-ка, гляди-ка, Робен! Кого это они собираются ввести! Эк, сколько нагнали сержантов! Клянусь Юпитером, тут вся стая гончих. Должно быть, поймали красного зверя! Кабана! А и то, кабан, Робен, да еще какой матерый! Ах, черт возьми! да ведь это наш вчерашний герой, наш шутовской папа, наш звонарь, наш горбун, наш кривой, наш гримасник! Это Квазимодо!
И действительно, это был он. Это был Квазимодо, связанный, скрученный, под сильной охраной. Вместе с окружавшими его стражниками вошел в залу суда сам начальник ночного дозора, с вышитым на груди мундира гербом Франции, а на спине – гербом города Парижа. Впрочем, во всей личности Квазимодо, за исключением разве уродства его, не было ничего такого, что могло бы объяснить употребление по отношению к нему таких чрезвычайных мер охраны. Он был мрачен, молчалив и спокоен, и только по временам единственный глаз его бросал сердитый и угрюмый взгляд на связывавшие его оковы. Тем же взглядом он взглянул и вокруг себя, но, вместе с тем, взгляд этот имел такое угрюмое и сонное выражение, что женщины показывали друг другу пальцами на Квазимодо только для того, чтобы посмеяться над его уродством.
Тем временем судья Флориан внимательно пересмотрел поданное ему секретарем дело о Квазимодо и затем на минуту как будто задумался. Благодаря этой предосторожности, к которой он всегда прибегал прежде, чем приступить к допросу, ему всегда были известны заранее имена и звания подсудимых и то, в чем они обвиняются, что давало ему возможность давать заранее приготовленные реплики на ответы обвиняемых и выпутываться из всех трудностей допроса, не обнаруживая слишком ясно глухоты своей. Лежавшее перед ним дело было для него то же, чем бывает собака-вожак для слепца. Если порой и случалось, что глухота его обнаруживалась каким-нибудь несообразным вопросом или неуместным замечанием, то одни видели в этом доказательство его глубокомыслия, а другие – его глупости; но ни в том, ни в другом случае чести суда не наносился ни малейший ущерб, ибо понятно, что для судьи лучше быть глупым или глубокомысленным, чем глухим. Итак, он тщательно заботился о том, чтобы скрывать свою глухоту от всех, и это ему обыкновенно так хорошо удавалось, что он, наконец, стал себя обманывать на этот счет, что, впрочем, даже вовсе и не так трудно, как обыкновенно полагают, известно, что все горбатые
имеют привычку ходить с высоко поднятой кверху головою, все косноязычные любят ораторствовать, все глухие говорят очень тихо. Что касается его, то он считал себя разве только немного тугим на ухо. Это была единственная уступка, которую он делал по этому пункту общественному мнению в минуты откровенности и чистосердечности.
Итак, усвоив себе, как следует, дело Квазимодо, он откинул голову назад, прищурил глаза, для большей величественности и беспристрастия, так что он сделался одновременно не только глухим, но и слепым, т. е. представлял своей персоной два самых существенных условия для образцового судьи.
Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу:
– Ваше имя?
Но тут случилось нечто непредвиденное законодателем, именно, что глухой станет допрашивать глухого.
Квазимодо, которого ничто не предупредило, что к нему обращаются с вопросом, продолжал пристально смотреть на судью и ничего не ответил. Глухой судья, которому ничто не указывало на глухоту обвиняемого, полагая, что тот уже ответил, как обыкновенно делают все подсудимые, продолжал с своим механическим и глупым апломбом:
– Хорошо. Сколько вам лет?
Квазимодо, понятно, не ответил и на этот вопрос. Судья, уверенный в том, что ответ последовал, продолжал:
– Ваше звание?
Все то же молчание. Слушатели начали переглядываться и перешептываться.
– Довольно, – сказал невозмутимый судья, предположив, что обвиняемый ответил и на третий вопрос. – Вы обвиняетесь в следующем: во 1-х, в нарушении общественной тишины ночью; во 2-х, в соединенных с соблазном поступках относительно находящейся не в здравом уме женщины, in praejudicium meretricis; в 3-х, в оказании открытого сопротивления страже его королевского величества. Объяснитесь по всем этим обвинениям. Г. секретарь, записали ли вы то, что показал до сих пор подсудимый?
При этом злосчастном вопросе секретарь не мог удержаться от смеха, а вслед за ним и публика разразилась таким громким, всеобщим, заразительным смехом, что и глухой судья, и глухой подсудимый не могли не заметить его. Квазимодо оглянулся, презрительно пожав горбатыми своими плечами, между тем, как судья Флориан, не менее удивленный, предполагая, что этот взрыв хохота со стороны аудитории был вызван каким-нибудь непочтительным ответом подсудимого, и, находя подтверждение этому своему предположению в замеченном им пожатии плечами, счел уместным рассердиться и сделать подсудимому строгое замечание.
– Ты, негодяй, ответил на мой вопрос так, что тебя бы следовало за это высечь! Знаешь ли, с кем ты говоришь?
Это новая выходка судьи, понятно, еще более рассмешила всех присутствующих. Она показалась всем до того странной и рогатой, что даже полицейские стражи покатились от смеха как бы по команде. Один только Квазимодо сохранил серьезный вид по той простой причине, что он не понимал ничего из того, что происходило вокруг него. Судья, сердясь все более и более, счел нужным продолжать тем же тоном, в надежде напугать подсудимого и этим способом косвенным образом подействовать и на аудиторию и заставить ее держать себя приличнее.
– Ах ты, негодяй, разбойник! Так ты осмеливаешься обращаться к суду, установленному его величеством королем для пресечения всяческих проступков и преступлений и для охранения всеобщей безопасности! Да знаешь ли ты, что меня зовут Флориан Барбедиенн, что я помощник г. судьи и, кроме того, комиссар, следователь, контролер, и что власть моя распространяется не только на Париж, но и на весь околоток его?
Понятно, что глухой может говорить с глухим без конца. Бог весть, где и когда остановился бы судья Флориан, пустившись в перечисление своих титулов и должностей, если бы в это время не отворилась дверь позади судейского стола, и в залу не вошел парижский старшина самолично. Однако приход его не мог остановить потока красноречия расходившегося судьи. Повернувшись к новоприбывшему в пол-оборота и несколько понизив тон, которым он только что громил Квазимодо, он обратился к нему со словами:
– Г. старшина, я прошу вас наложить на этого подсудимого то наказание, которое вы признаете нужным, за возмутительное неуважение к суду.
И он снова уселся на свое место, весь запыхавшись, вытирая пот, крупными каплями выступивший на лбу его и падавший, на подобие слез, на разложенные перед ним бумаги.
Между тем Робер, д’Эстутевилль нахмурил брови и сделал по направлению к Квазимодо жест до того повелительный и внушительный, что глухой отчасти его понял. Затем он спросил его строгим голосом:
– Почему тебя привели сюда, бездельник?
Бедняга, полагая, что его спрашивают, как его зовут, решился, наконец, нарушить молчание, которое он хранил обыкновенно, и ответил своим хриплым, горловым голосом:
– Квазимодо.
Ответ этот до того мало соответствовал вопросу, что снова раздался всеобщий хохот, а г. д’Эстутевилль воскликнул, покраснев от злости:
– Что же, ты и надо мной смеешься, негодяй!
– Звонарь в соборе Богоматери, – ответил Квазимодо, полагая, что его спрашивают о его звании.
– Звонарь! – перебил его старшина, который, как мы уже объясняли выше, «встал в это утро в достаточно дурном расположении духа, для того, чтобы нужно было еще увеличивать его раздражение подобными ответами. – А, Звонарь! Вот я велю отзвонить на твоей спине прутьями трезвон на каждом из парижских перекрестков! Слышишь ли, негодяй?
– Если вы желаете знать мой возраст, то я скажу вам, что около Мартынова дня мне минет, кажется, двадцать лет.
На этот раз терпение вопрошающего окончательно лопнуло.
– А-а! Ты смеешься над судом, мерзавец! Сержант, отведите этого бездельника на Гревскую площадь и в течение часа допрашивайте его под розгами. Я ему задам, бездельнику! И когда вы будете вести его на площадь, то пусть герольд, в сопровождении четырех трубачей, выкрикивает на площадях всех семи парижских кварталов, что этого негодяя ведут наказывать за явное неуважение к суду.
Секретарь тотчас же принялся заносить в свой реестр этот строгий, но справедливый приговор.
– Вот так праведный суд, черт возьми! – крикнул из своего угла Жан Фролло-дю-Мулен.
Старшина снова повернулся к Квазимодо и сверкнул на него глазами.
– Мне кажется, – произнес он, – что этот бездельник позволил себе воскликнуть: «Черт возьми!» Г. секретарь, прибавьте еще двенадцать су штрафа за произнесение в суде неприличных слов, с тем, что половина этого штрафа пойдет в пользу церкви св. Евстафия. Я особенно забочусь об интересах этой церкви.
В несколько минут приговор был написан. Содержание его было коротко и ясно. Существовавшая в те времена в Париже и в его округе практика не подверглась еще реформе, произведенной в ней впоследствии президентом Тибо Балье и королевским прокурором Рожером Бармом. Она не была загромождена в то время бесчисленными параграфами и статьями судопроизводства, которые ввели в нее оба эти юриста в начале XVI столетия. Все было в ней ясно, просто, несложно. Юриспруденция шла в то время прямо к цели и в конце каждой тропинки, не вившейся извилинами и не покрытой кустарником, виднелись виселица, колесо и позорный столб. Тогда люди знали, по крайней мере, на что они идут.
Секретарь подал председателю написанный им приговор. Тот приложил к нему свою печать и вышел из залы, чтобы председательствовать в других отделениях суда, в таком расположении духа, при котором не мудрено было переполнить в один день все парижские тюрьмы. Жан Фролло и Робен Пусспен посмеивались себе в кулак. Квазимодо смотрел на все, происходившее вокруг него, равнодушным и удивленным взором.
Однако, секретарь, в то время, когда Флориан Барбедьенн, в свою очередь, прочитывал приговор, прежде чем подписать его, почувствовал некоторое сострадание к несчастному осужденному, и, в надежде добиться смягчения произнесенного над ним приговора, нагнулся как можно ближе к уху Флориана и сказал ему, указывая на Квазимодо:
– Человек этот глух.
Он надеялся, что этот общий и осужденному, и судье органический недостаток возбудит участие со стороны первого к последнему. Но, во-первых, как мы уже говорили, Флориан более всего стремился к тому, чтобы никто не замечал его глухоты, во вторых, он был до того туг на ухо, что не расслышал ни слова из того, что сказал ему секретарь. Однако, желая сделать вид, будто он расслышал, он ответил:
– А-а! Это другое дело. Я этого не знал. Так пусть он за это простоит лишний час у позорного столба. – И затем он подписал измененное в таком смысле решение.
– Молодец! – воскликнул Робен Пусспен, питавший злобу против Квазимодо, – в другой раз он не будет поступать так грубо с публикой.
22
Эта комета, по поводу которой папа Калликст, дядя Борджии, предписал служить молебствия, появилась вновь в 1835 г.