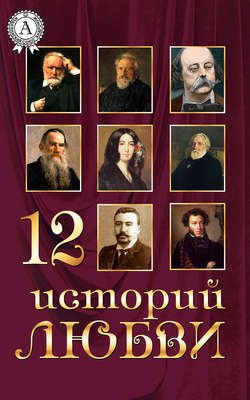Читать книгу 12 историй о любви - Коллектив авторов - Страница 51
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери
Часть II
Книга десятая
I. У Гренгуара на улице Бернардинов является несколько счастливых мыслей сряду
ОглавлениеС тех пор, как Гренгуар увидел, какой оборот принимает все это дело, и что тут положительно не обойдется без веревки, повешения и других подобного рода неприятностей для главных действующих лиц этой драмы, он счел наиболее благоразумным держаться, по возможности, в стороне от всего этого дела. Бродяги, – среди которых он остался жить, находя, что, в конце концов, это все же самое приличное общество в Париже, – продолжали, однако, интересоваться судьбой Эсмеральды. Он находил это, впрочем, вполне естественным со стороны людей, которые, подобно ей, не имели перед собой иной перспективы, кроме господ Шармолю и Тортерю, и которые не носились, подобно ему, в заоблачном пространстве на крыльях Пегаса. Он узнал из их разговоров, что его супруга, с которою он был обвенчан при помощи разбитого горшка, нашла себе убежище в соборе Парижской Богоматери, и он этому очень обрадовался. Но у него не явилось даже ни малейшего желания пойти проведать ее там. По временам он вспоминал лишь о козочке, – и только. Время его проходило в том, что он днем проделывал разные штуки и фокусы, чтобы заработать себе несколько грошей, а по ночам работал над памфлетом, направленным против парижского епископа, ибо он не мог забыть того, что его однажды забрызгали колеса епископской мельницы, и он сгорал желанием отмстить ему за то. Он занимался также составлением комментариев к сочинениям Бодри Леружа, епископа Нойонского и Тунесского: «Об обтесывании камней», что очень развило в нем архитектурные вкусы и совершенно вытеснило из его сердца страсть к алхимии; это, впрочем, вполне естественно, так как зодчество и алхимия тесно связаны между собою. Гренгуар просто перешел от любви к идее к любви к форме, в которой выражается эта идея.
Однажды он остановился невдалеке от церкви Сен-Жермен-Л’Оксеруа, на углу дома, называвшегося «Архиерейским судилищем» и находившегося насупротив другого дома, называвшегося «Королевским судилищем». К «Архиерейскому судилищу» примыкала красивая часовня XVI века, небольшая паперть которой выходила на улицу. Гренгуар с любовью разглядывал наружные ее архитектурные формы. Он находился в одном?;из тех моментов эгоистического, исключительного, забывающего все окружающее наслаждения, в котором художник видит в мире одно только искусство, а в искусстве – целый мир. Вдруг он почувствовал, что чья-то тяжелая рука опустилась на плечи его. Он обернулся: перед ним стоял бывший его учитель, бывший его друг – архидиакон.
Он обомлел. Он давно уже не видел архидиакона, а Клод был один из тех импонирующих своею личностью людей, встреча с которыми всегда нарушает внутреннее равновесие философа-скептика.
Архидиакон в течение нескольких мгновений хранил молчание, и в это время Гренгуар успел разглядеть его. Он нашел Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро, с впалыми глазами, с почти побелевшими волосами. Первым нарушил молчание священник, спросивший Гренгуара спокойным, но холодным голосом:
– Как вы поживаете, Пьер?
– Как я поживаю? – переспросил Гренгуар. – Да так себе, ни шатко, ни валко; вообще же недурно. Я умерен во всем. Вы знаете, дорогой учитель, что, если верить Гиппократу, весь секрет здоровья заключается в том, чтобы быть умеренным во всем – ч еде, в питье, в любви, во сне.
– Значит, у вас нет никаких забот, Пьер? – продолжал Клод, пристально глядя на Гренгуара.
– Нет, никаких, – ответил тот.
– А чем же вы теперь занимаетесь?
– Да вот вы сами видите, дорогой учитель. Я рассматриваю, как обтесаны эти камни и каким образом выведен этот барельеф.
Священник улыбнулся, но той горькой улыбкой, при которой приподнимается только один угол губ.
– И это доставляет вам удовольствие? – спросил он.
– Да это настоящий рай! – воскликнул Гренгуар. И наклонившись над резьбой с выражением лица, свойственным показателям редкостей, он продолжал: – Разве вы, например, не находите, что вон этот барельеф, сюжет которого взят из Овидиевых метаморфоз, исполнен чрезвычайно искусно, изящно и грациозно? Взгляните-ка на эту колонку! Видели ли вы когда-нибудь капитель, окруженную более нежными и более изящно-выточенными листьями? А вот три кругло-выпуклые фигурки работы Жана Мальевена. Это еще не самые лучшие произведения этого великого гения. Однако, наивность и кротость лиц, веселость групп и драпировок и эта нежность, сквозящая даже сквозь все их недостатки, придают фигуркам этим грациозный и деликатный, быть может, даже слишком деликатный вид. Неужели вы не находите это восхитительным?
– Да, конечно, – ответил священник.
– А если бы вы взглянули еще на внутренность часовни! – продолжал поэт в своем болтливом восторге. – Всюду резьба! Настоящий кочан капусты! А ниша выдержана в самом строгом стиле и так оригинальна, что я нигде не видел ничего подобного!
– Значит, вы вполне счастливы? – прервал его Клод.
– Да, могу сказать по совести! – ответил Гренгуар с жаром. – Сначала я любил женщин, затем животных. Но теперь я люблю только камни. Они доставляют не менее удовольствия, чем женщины и животные, но они не так вероломны.
– Вы это находите? – спросил Клод, приложив руку ко лбу. Это был обычный его жест.
– Взгляните! – продолжал Гренгуар, – как здесь хорошо! – И он взял за руку священника, который дал ему увлечь его за собою, и повел его по лестнице «Архиерейского судилища». – Вот, например, эта лестница. Каждый раз, когда я вижу ее, я бываю счастлив. Эти ступеньки – все, что есть в Париже самого простого и в то же время самого редкого. Все скошены снизу. Красота и простота этой лестницы заключается в ступеньках ее, имеющих приблизительно один фут ширины каждая и переплетающихся, входящих одна в другую, цепляющихся одна за другую, точно губами. Все это придает лестнице прочность и в то же время как нельзя более красиво.
– И с вас этого достаточно? Вы ничего более не желаете?
– Нет.
И вы ни о чем не сожалеете?
– Я не чувствую ни сожалений, ни желаний. Я отлично устроил свою жизнь.
– Человек устраивает, а судьба расстраивает, – заметил Клод.
– Я философ-скептик, – ответил Гренгуар, – и у меня все устраивается.
А чем же вы существуете?
– Я по временам сочиняю трагедии и эпопеи. Но главные мои доходы я извлекаю из искусства, которое вы уже имели случай заметить во мне, дорогой учитель. Я ношу на зубах пирамиды из стульев.
– Ну, это несколько неподходящее занятие для философа, заметил Клод.
– Что ж, и это ведь применение одного из законов равновесия, – ответил Гренгуар. – Когда человек задался известной идеей, он всюду найдет ей применение.
– Да, это, пожалуй, верно, – заметил архидиакон; и, помолчав немного, он продолжал: – однако, вы влачите довольно жалкое существование.
– Жалкое, пожалуй, но не несчастное.
В это время до слуха обоих собеседников долетел конский топот, и они увидели скакавший по улице взвод королевских стрелков, с пиками наперевес. Впереди их несся красивый офицер. Кавалькада эта была блестящая, и конский топот гулко отдавался по улице.
– Что это вы так уставились на этого офицера? – спросил Гренгуар у архидиакона.
– Да он мне кажется знакомым.
– А как его имя?
– Кажется, его зовут Феб де-Шатопер, – ответил Клод.
– Феб! Довольно странное имя! Впрочем, в истории известен также некто Феб, граф Фуасский. Кстати, мне пришла на ум одна молодая девушка, у которой Феб не сходит с уст.
– Пойдемте-ка со мною, – проговорил священник, – мне нужно кое-что сообщить вам.
С тех пор, как мимо них пронеслась эта кавалькада, некоторое волнение сказывалось под холодною с первого взгляда оболочкою Клода. Он пошел вперед, а Гренгуар, привыкший повиноваться ему, – как и все, что раз пришло в соприкосновение с этим человеком, производившим на всех такое обаяние, – последовал за ним. Они молча дошли до Бернардинской улицы, которая была довольно пустынна. Здесь Клод остановился.
– Что вы желали сообщить мне, дорогой учитель? – спросил Гренгуар.
– Не находите ли вы, – проговорил архидиакон задумчивым голосом, – что одежда тех всадников, которых мы только что видели, красивее, чем ваша и моя?
Не знаю, как для того, – ответил Гренгуар, пожав плечами, – но я предпочитаю мою красно-желтую куртку всей этой железной и стальной чешуе. Что за удовольствие издавать при каждом шаге шум и грохот, точно воз, нагруженный полосовым железом и едущий по тряской мостовой?
– Значит вы, Гренгуар, никогда не относились с чувством зависти к этим молодчикам в красивых мундирах?
– Зависти? Но с какой же стати, г. архидиакон? Чему мне завидовать? Их мундирам, их вооружению, их дисциплине? Нет, я предпочитаю философию и независимость, хотя бы и облеченные в лохмотья. Я предпочитаю быть мушиной головой, чем львиным хвостом.
– Это, однако, странно, – задумчиво проговорил священник. – Ведь блестящий мундир, однако, недурная вещь!
Гренгуар, заметив, что он снова впал в задумчивость, отстал от него и стал любоваться воротами одного из соседних домов. Затем он снова подошел к нему, потирая себе руки.
– Если бы вы были менее заняты блестящими мундирами господ военных, г. архидиакон, – сказал он, – то я предложил бы вам пойти и хорошенько разглядеть эти ворота. Я всегда утверждал, что ворота г. Обри – одни из самых красивых ворот в мире.
– Пьер Гренгуар, – перебил его Клод, – что вы сделали с той молоденькой плясуньей-цыганкой?
– С Эсмеральдой? Однако, какие скачки вы делаете в вашем разговоре.
– Ведь она, кажется, была женою вашей?
– Да, пожалуй, если считать действительным венчание при помощи разбитого кувшина. Мы были обвенчаны с нею на целых четыре года. – А кстати, – продолжал Гренгуар, взглянув на архидиакона довольно насмешливо: – вы, значит, все еще не забыли о ней?
– А вы, – разве вы о ней уже успели забыть?
– Да, отчасти… Мне приходится думать о стольких вещах!.. Ах, как мила была ее козочка!
– Кажется, ведь эта цыганка спасла вам жизнь?
– Пожалуй, что и так!
– Ну, так что же с нею сталось? Что вы с нею сделали?
– Не могу сказать вам, наверное. Кажется, они ее повесили.
– Вы так полагаете?
– Я в этом не уверен. Когда я увидел, что дело доходит до виселицы, я поспешил стушеваться.
– И вы больше ничего о ней не знаете?
– Нет, постойте-ка, я как-то слышал, что она успела укрыться в соборе и что она находится там в безопасности. Я этому очень рад. Только я не мог добиться, спаслась ли и козочка вместе с нею. Вот и все, что мне известно о ней.
– Ну, так я вам сообщу еще кое-что, – воскликнул Клод, и его голос, до сих пор тихий, медленный и почти глухой, сделался громогласен. – Она, действительно, укрылась в соборе Богоматери, но через три дня правосудие извлечет ее оттуда и она будет повешена на Гревской площади. На этот счет уже состоялось постановление суда.
– Это, однако, досадно, – проговорил Гренгуар. Священник, после минутной своей вспышки, снова сделался холоден и спокоен.
– Но кому же, черт побери, – продолжал наш поэт, – понадобилось хлопотать об издании такого постановления суда? Неужели ж эту бедняжку не могли оставить в покое? И кому какое дело до того, что эта девушка поселилась под кружалами собора, рядом с ласточкиными гнездами?
– Видно, бывают же такие злые люди на свете, – ответил архидиакон.
– Однако, все же это очень некрасиво, – заметил Гренгуар.
– Так она, значит, спасла вам жизнь? – продолжал архидиакон, немного помолчав.
– Да, когда я попал к теперешним моим друзьям, бродягам. Еще чуть-чуточку – и меня повесили бы. В настоящее время они бы сами очень сожалели об этом.
– Неужели же вы ничего не хотите сделать для нее?
– Нет, отчего же, с удовольствием, г. Клод. Но только я боюсь, как-бы не ввязаться в неприятное дело.
– Ну, так что же?
– Как что же? Но вы, значит, забываете, дорогой учитель, что я начал два больших труда.
Клод ударил себе рукою по лбу. Несмотря на то, что он старался казаться спокойным, какое-нибудь резкое движение обнаруживало по временам его внутреннее беспокойство.
– Как бы ее спасти! – воскликнул он.
– Дорогой учитель, – обратился к нему Гренгуар: – я вам скажу на это только: «Il padent», что по-арабски означает: – «Бог – наша надежда».
– Как бы ее спасти! – задумчиво повторил Клод.
– Послушайте-ка, г. архидиакон, – воскликнул Гренгуар, в свою очередь, хватив себя рукою по лбу. – У меня немало воображения. Я что-нибудь да придумаю. Что если бы испросить для нее королевской милости?
– Милости! У короля Людовика XII!
– А отчего бы и нет?
– Да легче вырвать у тигра его кость, чем добиться помилования от Людовика XI!
Гренгуар принялся придумывать новые комбинации.
– Ну, так вот что, – сказал он. – Хотите, я напишу дамам-патронессам прошение, в котором я объявлю, что девушка эта беременна?
– Беременна! А вам это почему известно? – спросил Клод, сверкнув глазами.
Взгляд его испугал Сренгуара, и он поспешил прибавить:
– О, мне, конечно, об этом неизвестно. Ведь наш брак с нею был, в полном смысле слова, брак фиктивный. Я тут не причем. Но все же этим путем можно бы добиться отсрочки.
– Все это глупости, вздор! Об этом нечего и толковать!
– Напрасно вы сердитесь, – пробормотал Гренгуар. – Ведь отсрочка никому вреда не принесет.
– Однако, ей во что бы то ни стало необходимо скрыться оттуда, – проговорил Клод, не слушая его. – Постановление парламента должно быть приведено в исполнение в течение трех дней. Да и не было бы вовсе этого постановления, если бы не Квазимодо… Что за странные вкусы бывают у этих женщин! – И затем он продолжал, возвысив голос: – сколько я ни раздумываю, Пьер, я вижу для нее только одно средство спасения.
– Какое же это средство? Я, со своей стороны, не вижу никакого.
– Послушайте, Пьер, и не забывайте при этом, что вы обязаны ей жизнью. Я вам откровенно выскажу мою мысль. Церковь стерегут днем и ночью, и из нее выпускают только тех, которые на глазах у страж вошли в нее. Значит, вы войдете в нее, я провожу вас к ней, вы обменяетесь с нею платьями, она наденет ваш сюртук, а вы – ее юбку.
– Покуда все это не дурно, – заметил философ. – А дальше?
– А дальше? – Дальше она выйдет из церкви в вашем платье, а вы останетесь гам в ее платье. Быть может, вас за это повесят, но, по крайней мере, она будет спасена.
Гренгуар с очень серьезным видом почесал у себя за ухом и проговорил:
– Да, да, признаться сказать, подобная мысль никогда не пришла бы мне в голову.
При этом неожиданном предложении Клода, открытое и добродушное лицо бедного поэта вдруг омрачилось, точно веселый итальянский пейзаж, когда ясное небо вдруг омрачится темною, грозовою тучею.
– Ну, Гренгуар, что же вы скажете об этом средстве?
– Я скажу только, что меня повесят – не «может быть», а повесят «непременно».
– Ну, так что же? В чем же тут помеха?
– Как в чем помеха! – воскликнул Гренгуар.
– Ведь она же спасла вам жизнь. Вы, значит, просто уплатите ей старый долг свой.
– Но я, вообще, не имею дурной привычки платить долги мои.
– Пьер, вы во что бы то ни стало должны это сделать! – сказал Клод повелительным голосом.
– Послушайте, г. архидиакон, – ответил перепуганный поэт. – Вы настаиваете на этой идее, но вы в этом отношении не правы. Я никак не возьму в толк, почему бы мне идти на виселицу вместо другого?
– Но что же может так привязывать вас к жизни?
– Ах, на то есть очень много причин.
– Ну, так объясните их мне, по крайней мере. Какие это причины?
– Какие? Извольте! Воздух, небо, утро, вечер, лунный свет, друзья мои бродяги, каляканье с нашими женщинами и девушками, прекрасные парижские здания, архитектуру которых я изучаю, три больших задуманных мною сочинения, из которых одно будет направлено против епископа и против его мельниц, – да и, вообще, мало ли что еще! Анаксагор говорил, что он создан для того, чтобы любоваться солнцем. И, наконец, я имею счастье проводить целые дни, с раннего утра до позднего вечера, с очень гениальным человеком, т. е. с самим собою, а это вещь очень приятная.
Экая пустая башка! – пробормотал сквозь зубы Клод, и затем прибавил громко. – Ну, а эту жизнь, которая, по вашим словам, так прекрасна, кто вам сохранил ее? Кому вы обязаны тем, что дышите этим воздухом, видите это небо и можете забавлять ваш воробьиный ум разными пустяками и вздором? Где бы вы были теперь, если бы не было Эсмеральды? Вы, значит, желаете, чтоб она, спасшая вам жизнь, умерла!
Чтоб умерло это красивое, кроткое, очаровательное, светлое, божественное создание, между тем, как какой-нибудь полумудрец, полубезумец, какое-то жалкое подобие чего-то, какое-то прозябающее существо, воображающее себе, будто оно движется и мыслит, будет продолжать жить украденной у нее жизнью, столь же бесполезною, как свечка при ярком солнечном свете! Ну, Гренгуар, нужно же быть сострадательным! Будьте и в свою очередь великодушны! Ведь она же подала тому пример!
Клод говорил горячо и страстно. Гренгуар выслушал эту тираду сначала с нерешительным видом, затем он расчувствовался и состроил такую рожу, которая, ни дать, ни взять, напоминала собою рожицу новорожденного, у которого сделалась резь в животе.
– Вы так красно говорите, – сказал он, наконец, вытирая навернувшиеся на глазах его слезы. – Хорошо, я об этом подумаю. Однако странная же пришла вам в голову мысль! – И, в конце концов, – продолжал он, помолчав немного, – кто знает! быть может, они и не повесят меня! Ведь не всегда же ведут к венцу того, кто сватается! Быть может, найдя меня в этой каморке, в таком потешном одеянии, в юбке и в чепчике, они расхохочутся. – Да и то сказать! Если бы даже они и повесили меня, то ведь и смерть от веревки – это такая же смерть, как и всякая другая! Или, впрочем, нет, – это вовсе не такая смерть, как другие виды смерти. Это смерть – достойная мудреца, болтавшегося на свете всю свою жизнь, это смерть – ни рыба, ни мясо, как две капли воды, похожая на ум настоящего скептика, смерть, проникнутая в одно и то же время духом стоицизма и нерешительности, захватывающая человека между небом и землей и заставляющая его долго болтаться в таком положении. Словом, это смерть, достойная философа, и, быть может, именно такая смерть и была предопределена мне. А ведь, что ни говори, приятно умирать так же, как прожил.
– Ну, так значит решено? – перебил Клод его разглагольствования.
– Да и что такое смерть, если хорошенько раскинуть умом? – восторженно продолжал Гренгуар. – Один неприятный момент, один скачек, переход от жалкого бытия к небытию. Когда кто-то спросил у философа Серсида, охотно ли он умирает, последний ответил: – А отчего бы и нет? Ведь я после смерти моей увижу всех великих людей: Пифагора в числе философов, Гекатея в числе историков, Гомера в числе поэтов, Олимпа в числе музыкантов».
– Ну, так решено! – проговорил архидиакон, протягивая ему руку. – Вы, значит, завтра придете?
Этот жест возвратил зафилософствовавшегося Гренгуара к сознанию действительности.
– Ах, нет! – воскликнул он голосом человека, только что пробудившегося от глубокого сна. – Быть повешенным – это уже слишком глупо! Это вовсе не входит в мои виды.
– Ну, так прощай же, – проговорил архидиакон сквозь зубы: – мы еще повидаемся с тобою.
– Нет, черт возьми! – сказал про себя Гренгуар, расслышавший эти сказанные вполголоса слова, – я вовсе не желаю ведаться с этим дьяволом. – И, догнав Клода, он обратился к нему со словами: – Послушайте, г. архидиакон, зачем же ссориться старым друзьям? Вы принимаете участие в судьбе этой девушки, т. е. жены моей, хотел я сказать. И прекрасно! Вы придумали способ благополучно удалить ее из собора, но этот способ крайне неприятен для меня, Гренгуара. Поэтому я желал бы придумать другой, менее неприятный для меня способ, с помощью которого можно бы достигнуть той же цели. И вот у меня сейчас блеснула в голове очень счастливая мысль. – Что бы вы сказали на то, если бы я предложил вам гениальную мысль, с помощью которой ее можно было бы извлечь из этой западни, не просовывая моей собственной головы в петлю? Разве это не удовлетворило бы вас вполне? Неужели же для того, чтобы доставить вам удовольствие, я должен непременно дать повесить себя?
Клод от нетерпения обрывал пуговицы с своего подрясника. Наконец, он воскликнул:
– Что за ненужный поток слов! Какое же вы придумали средство?
– Да, да, – говорил Гренгуар про себя, прикасаясь указательным пальцем правой руки к кончику своего носа в знак глубокомыслия: – это так! Бродяги – славные ребята, и к тому же они любят Эсмеральду. Они все готовы будут принять в этом участие! – Нет ничего легче! – Стоит только произвести какой-нибудь беспорядок и в суматохе похитить ее! – Завтра же вечером! – Они будут очень рады!
– Да говори же, какое это средство! – воскликнул Клод, выйдя из терпения и тряся его за руку.
– Оставьте меня в покое! – сказал Гренгуар, принимая величественную позу. – Ведь вы видите, что на меня находит вдохновение! – И, подумав еще с минуту, он вдруг захлопал в ладоши и воскликнул: – Превосходно! Успех несомненен!
– Да какое же это средство? – крикнул священник, окончательно рассердившись.
– Постойте, я вам скажу это на ухо, – ответил Гренгуар с сияющим от радости лицом. – Я придумал отличную контрмину, которая нас всех выведет из затруднения. Однако нужно отдать мне справедливость в том, что я не дурак!
Тут он сам себя прервал и спросил:
– А что, козочка ее при ней?
– Да, черт ее побери!
– Дело в том, что они готовы были бы повесить и козочку вместе с Эсмеральдой.
– А мне то какое дело до этого?
– Да, да, они готовы повесить и ее. Ведь повесили же они свинью в прошлом месяце. Палачу это даже очень выгодно, ибо он потом съедает животное. Повесить мою Джали, мою миленькую козочку….
– Будь ты проклят! – воскликнул взбешенный Клод. – Ты сам палач! Какое же средство спасения ты придумал, шут гороховый? Что ж, из тебя клещами вытаскивать твою мысль, что ли?
– Потише, г. архидиакон, потише, не горячитесь! Вот в чем дело.
И Гренгуар, нагнувшись к уху Клода, стал ему что-то нашептывать, с беспокойством оглядываясь по временам направо и налево, хотя на улице не было ни души. Когда он кончил, Клод взял его за руку и холодно сказал ему:
– Хорошо! Значит, завтра?..
Завтра! поддакнул Гренгуар; и между тем, как архидиакон удалялся по одному направлению, он пошел по другому, говоря про себя вполголоса: – однако, хорошую же вы штуку придумали, г. Пьер Гренгуар! Ну что ж! Отчего же маленькому человеку и не рискнуть крупного предприятия? Ведь таскал же Битон на своих плечах целого большого быка! Ведь перелетают же ласточки, малиновки и другие мелкие пташки через океан!