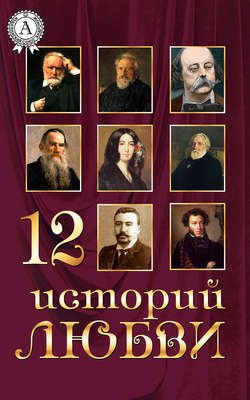Читать книгу 12 историй о любви - Коллектив авторов - Страница 58
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери
Часть II
Книга одиннадцатая
I. Башмачок
ОглавлениеВ то время, когда разбойники повели атаку на церковь, Эсмеральда спала. Но вскоре ее разбудили все усиливавшийся вокруг церкви шум и беспокойное блеяние ее козочки, проснувшейся раньше ее. Она села на своем ложе, стала вслушиваться, оглядываться и затем, испуганная шумом и необычным в эту пору светом факелов, выбежала из своей комнатки, чтобы посмотреть, что такое делается. Общий вид площади, двигавшиеся по ней люди, беспорядочность этого ночного приступа, эта безобразная толпа, казавшаяся с высоты стаей прыгавших в потемках лягушек, кваканье этой кишевшей толпы, эти красноватые факелы, бегавшие и сталкивавшиеся среди ночной тьмы, подобно тем блудящим огням, которые появляются на покрытой туманом поверхности болота, – вся эта сцена показалась ей каким-то таинственным боем, завязавшимся между нечистыми духами и каменными статуями церкви. Проникнутая с детства массой предрассудков, свойственных цыганскому племени, она подумала в первую минуту, что ей довелось присутствовать приточных похождениях духов тьмы, и она в испуге снова забилась под свое одеяло, в надежде избавиться от этого ужасного кошмара.
Однако, мало-помалу, первый страх ее прошел, а по увеличивавшемуся постоянно шуму и по некоторым другим реальным признакам она догадалась, что в этом деле замешаны не призраки, а живые люди. Тогда ужас ее, не увеличившись, принял, однако, другою форму. Она подумала о возможности народного бунта, имевшего целью извлечь ее из ее убежища. Мысль о смерти, которую она уже видела так близко перед собою, какая-то смутная надежда, Феб, образ которого приходил ей на ум, когда она думала о своем будущем, безотрадное сознание своей слабости, мысль о невозможности бежать, о своей беспомощности, о том, что у нее нет поддержки, о своем одиночестве, – все эти мысли и тысячи других пришли ей на ум. Она бросилась на колена, уткнулась головою в кровать, закинула руки за голову, вся дрожа от страха, и, хотя она, как цыганка, и была идолопоклонницей и язычницей, она, рыдая, принялась молиться Богу и просить заступничества у Богородицы, в храме которой она нашла себе убежище; ибо у человека, даже самого маловерующего, всегда бывают такие минуты, когда он проникается религией того храма, в котором он в данное время находится.
В таком положении она оставалась довольно долго, правда, более дрожа, чем молясь, трепеща от все более и более приближавшегося дуновения этой разъяренной толпы, не понимая, истинной причины этой ярости, не зная того, что затевается, что делается, чего толпа желает, но смутно предчувствуя ужасный для себя исход.
Среди этой тревоги и волнения она вдруг услышала подле себя шаги. Она обернулась: в ее каморку только что вошли два человека, из которых один держал в руке фонарь. Она испустила слабый крик.
– Не бойтесь, – произнес голос, показавшийся ей знакомым: – это я.
– Вы? Да кто же такой вы? – спросила она.
– Пьер Гренгуар.
Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и действительно узнала поэта. Но подле него она заметила какую-то черную, укутанную и молчаливую фигуру, наводившую на нее ужас.
– Да, – сказал Гренгуар с упреком, – Джали узнала меня раньше вас.
Действительно, козочка, не дожидаясь, пока Гренгуар назвал себя, стала нежно тереться своей головкой об его колена, осыпая поэта ласками, но в то же время и покрывая его одежду белою шерстью, ибо она линяла. Гренгуар тоже стал ласкать ее.
– А кто это с вами? – спросила его Эсмеральда вполголоса.
– Не беспокойтесь, – ответил Гренгуар, – это один из друзей моих.
И затем наш философ, поставив свой фонарь на пол, присел на корточки и воскликнул радостным голосом, обнимая Джали:
– О, какое миленькое животное! Оно, конечно, не отличается ростом, но за то умно и учено не хуже иного профессора! Ну, посмотрим-ка, Джали, не забыла ли ты своих штук? Как ходит Жак Шармолю?..
Но укутанный в черную мантию человек не дал Гренгуару докончить свою фразу: он подошел к нему и сильно толкнул его в плечо. Гренгуар приподнялся.
– Да, правда, – сказал он, – я и забыл, что нам нужно торопиться. Однако это все же не причина так сильно толкать людей. Милое дитя мое, вашей жизни, а равно и жизни Джали угрожает опасность. Вас снова желают повесить. Мы – друзья ваши, и мы пришли сюда для того, чтобы спасти вас. Следуйте за нами.
– Неужели это правда? – воскликнула она в испуге.
– Да, совершенная правда. Торопитесь!
– Я согласна, – пробормотала она. – Но почему же ваш друг молчит?
– Да вот видите ли, – ответил Гренгуар, – его отец и его мать были очень странные люди и сделали его молчаливым.
Ей пришлось удовольствоваться этим, не слишком-то удовлетворительным, объяснением. Гренгуар взял ее за руку, товарищ его поднял с полу фонарь и пошел вперед. Молодая девушка совершенно обезумела от страха и беспрекословно позволяла вести себя. Козочка следовала за ними вприпрыжку, радуясь тому, что снова увидела Гренгуара, и постоянно заставляя его спотыкаться, просовывая свои рога между ног его.
– И такова наша жизнь, – говорил наш философ, едва удерживаясь на ногах, – лучшие друзья наши часто доводят нас до падения.
Они быстро спустились с лестницы колокольни, прошли через церковь, темную и пустынную, в которой, однако, слышен был доносившийся извне гул, что составляло странный контраст, и вышли на монастырский двор через красные двери. Монастырь был пуст, так как монахи, перепуганные нападением, убежали в квартиру епископа, чтобы молиться гам сообща; двор также был пуст, и только несколько трусливых монастырских слуг забились в темные углы его. Гренгуар и его спутники направились к воротам, выходившим на набережную реки. Одетый в черный плащ человек отпер их имевшимся при нем ключом. За этими воротами был мыс, составлявший восточную оконечность острова, принадлежавший капитулу собора и окруженный стеною Старого города. Местность эта была совершенно пустынна, и даже с Папертной площадки едва долетал сюда шум. Свежий ветер шелестел листьями дерева, росшего на самой крайней оконечности мыса. Однако, они были еще очень близко от опасного места: ближайшие к ним здания все же были собор и архиепископский дворец. В последнем, очевидно, происходила сильная суета. На темном фасаде его видны были огоньки, перебегавшие от одного окна к другому, подобно тому, как на темной куче сожженной бумаги долго еще перебегают искры самыми причудливыми зигзагами; а в некотором отдалении громадные колокольни собора, возвышаясь над главным корпусом его, выделялись на красноватом зареве, которым залита была площадь, и напоминали собою две высокие трубы гигантской кузницы. Остальной Париж был виден точно сквозь дымку. Рембрандт любил иногда освещать таким образом фон своих картин.
Человек с фонарем шел прямо к оконечности мыса. Там, возле самой воды, виднелся частокол, переплетенный дранками, за которые цеплялась кое-где виноградная лоза. За этой живою изгородью, в бросаемой ею тени, скрыта была небольшая лодка. Закутанный в черный плащ человек знаком пригласил Гренгуара и молодую девушку сесть в нее; козочка прыгнула вслед за ними, и, наконец, в лодку вошел таинственный незнакомец. Затем он отчалил лодку, отпихнулся от берега длинным багром, и, взяв со дна ее два весла, сел на носу и стал из всех сил грести. Течение Сены в этом месте очень сильно и ему не без труда удалось выплыть на середину реки.
Первою заботою Гренгуара, как только он вошел в лодку, было устроить на своих коленах козочку. Он уселся на корме, а молодая девушка, которой незнакомец внушал невольный страх, села возле поэта и крепко прижалась к нему.
Когда наш философ почувствовал, что лодка отчалила от берега, он захлопал в ладоши, поцеловал Джали в голову и воскликнул:
– О, теперь мы все спасены! – И затем он прибавил с глубокомысленным видом: – Иногда счастье, иногда хитрость способствуют осуществлению великих предприятий.
Лодка медленно подвигалась к правому берегу. Молодая девушка с невольным страхом смотрела на незнакомца. Он тщательно закрыл свой глухой фонарь, и поэтому, при совершенной темноте, он, сидя на носу, производил впечатление привидения. Его башлык, опущенный на лицо, не позволял разглядеть его черты», и каждый раз, как он, гребя, размахивал своими руками, облеченными в широкие рукава, последние казались какими-то гигантскими крыльями летучей мыши. Вместе с тем, он до сих пор не произнес ни единого слова, не испустил ни единого звука. Не было слышно ничего, кроме плеска весел и журчания воды под килем лодки.
Клянусь Богом! – вдруг воскликнул Гренгуар, – мы радуемся на манер улиток. Мы немы, как рыбы или как пифагорейцы. Однако, друзья мои, мне на радостях хотелось бы поболтать. Человеческий голос в человеческом ухе звучит как музыка. Эти слова принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, и это золотые слова. Ведь Дидим Александрийский – философ недюжинный. – Одно слово, красавица моя, произнесите, ради Бога, хоть одно слово! Кстати, вы когда-то делали какую-то презабавную и премиленькую гримасу: что, вы все еще умеете ее делать? А известно ли вам, моя милая, что парламент может лишить известное место права убежища и что, следовательно, вы подвергались опасности в вашей каморке в соборе? Да, да, есть такая-то птичка, называют ее трохил, – которая свивает гнездышко свое в пасти крокодила. Ах, вот снова восходит луна! Как бы нас не заметили! Мы делаем доброе дело, спасая эту барышню, а между тем нам не миновать виселицы, если нас поймают. Увы, всякая вещь имеет два конца! Меня наказывают за то, за что тебя венчают лаврами. Цезаря хвалят за то же, за что бранят Катилину. Не так ли, милостивый государь? Что вы скажете на эту философию? Я философ по природе, точно так же, как пчела – геометр по природе. Однако никто мне не отвечает. Что это вы оба так не в духе? Мне приходится говорить одному. Это то, что мы, драматурги, называем монологом. Да, ведь я уже говорил вам, что я только что беседовал с самим королем Людовиком XI. Однако, как они там шумят возле собора! Это злой, невзрачный старик, весь укутанный в мех. Он мне все еще не заплатил за мое свадебное стихотворение, а в довершение всего он едва не велел повесить меня сегодня вечером, что меня окончательно уже лишило бы возможности когда-нибудь получить плату. Он таки скупенек, нужно отдать ему справедливость. Ему не мешало бы прочесть сочинение Сальвина, из Кельна, «против скупости». Вообще, это король, не умеющий ценить таланта и к тому же еще жестокий. Это просто какая-то губка, высасывающая из народа деньги. Он от того то и так худощав, что селезенка его пухнет насчет других его членов. За то все и жалуются на тяжелые времена и ропщут против короля. Под управлением этого набожного и яко бы тихого короля, виселицы ломятся под тяжестью висельников, плахи не обсыхают от крови, тюрьмы переполнены. Этот король одною рукою берет, а другою вешает. У него только и есть два развлечения: налоги да виселица. Сильных мира сего он обирает, а маленьких людишек вешает. Вообще, это нехороший монарх; я его не люблю. А вы, милостивый государь?
Человек, укутанный в черный плащ, не перебивал болтуна. Он продолжал грести изо всех сил в водовороте, образуемом рекою между оконечностью острова, занимаемого Старым городом, и островом св. Людовика.
– А кстати, сударь, – вдруг переменил Гренгуар тему разговора, – в то время, как мы пробирались по площади, заметило ли ваше преподобие этого бедного мальчугана, которому этот глухой черт собирался размозжить голову о перила балюстрады? Я близорук и не мог узнать его. Не известно ли вам, кто был этот несчастный?
Незнакомец не ответил ни слова, но руки его вдруг опустились, он перестал грести, голова его опустилась на грудь, и Эсмеральда ясно расслышала, как он тяжело вздохнул. Она вздрогнула, потому что этот вздох показался ей знакомым. Лодка, предоставленная самой себе, неслась некоторое время по течению реки. Но гребец снова выпрямился, схватился за весла, и опять поплыл вверх по течению реки. Он обогнул мыс и направил лодку к Сенной пристани.
А-а! – продолжал болтать Гренгуар, – вот квартира Барбо. Посмотрите-ка, сударь, на эту группу черных крыш, образующих такую странную ломаную линию, вон там, под этими низкими, жилковатыми и грязными облаками, над которыми луна светит, точно яичный желток. Это очень красивый дом. При нем есть часовня с маленьким сводом, разукрашенным очень хорошей резьбой. А над нею вы можете отличить колокольню, изящно прорезывающуюся на воздухе. При этом доме есть также прехорошенький сад с прудом, птичником, лабиринтом, площадкой для игры шарами, зверинцем и множеством тенистых аллей, очень удобных для влюбленных парочек. В этом саду есть также дерево, которое прозвали «сластолюбивым», потому что под сенью его предавались любовным наслаждениям одна знаменитая принцесса и один коннетабль, человек умный, но развратный. – Увы! Наш брат философ то же по отношению к коннетаблю, что грядка капусты или редьки по отношению к Луврскому саду. А, впрочем, и то сказать: человеческая жизнь как для нас грешных, так и для сильных мира сего представляет ничто иное, как сплетение хорошего и дурного. Горе всегда следует за радостью, как спондей за дактилем. – Нет, сударь, я должен вам рассказать историю того дома Барбо. Оканчивается она очень трагическим образом. Дело происходило в 1319 году, в царствование Филиппа V, самого высокорослого из всех французских королей; а из всей этой истории вытекает мораль, что искушения плоти всегда гибельны и к добру не поведут, и что не следует слишком запускать глаза на жену соседа, как бы человек ни был чувствителен к ее красоте. Любодеяние – дело очень опасное и не следует желать жены ближнего… Ого! Однако шум там усиливается!
Действительно, шум возле собора заметно усиливался. Они стали прислушиваться. До слуха их довольно явственно долетали победные клики. Вдруг около сотни факелов, свет которых отражался на шлемах воинов, появились в разных местах церкви, в галереях ее, на башнях, в окнах, под сводами. Люди, державшие эти факелы, очевидно, чего-то искали; и вскоре до слуха сидевших в лодке людей явственно донеслись слова:
– Цыганка! Колдунья! Смерть цыганке!
Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец принялся неистово трест, направляя лодку к берегу. Философ же наш продолжал о чем-то размышлять, обняв козу и потихоньку отодвигаясь от цыганки, которая все более прижималась к нему, как к единственному своему убежищу.
Гренгуар находился в немалой тревоге. Он думал о том, что и коза, на основании существовавших в те времена законов, будет повешена, если ее схватят, и ему было очень жаль бедняжки Джали. Он находил, что два осужденных, повешенных вслед за ним, были бы уже слишком многочисленный свитой для него на виселице, и полагал, что, быть может, было бы удобнее всего разделить заботу о спасении этих двух существ: товарищ его, по всей вероятности, охотно возьмет на себя заботу о цыганке, предоставив ему заботу о козе. В уме его происходила сильная борьба, во время которой он, как Юпитер в Илиаде, склонялся то на сторону цыганки, то на сторону козы; и он поочередно устремлял на них наполненные слезами взоры, бормоча сквозь зубы:
– А ведь не могу же я спасти вас обеих.
Сильный толчок дал им понять, что лодка ударилась о берег. В Старом городе по-прежнему продолжались зловещие шум и гам. Незнакомец встал и подошел к цыганке, желая помочь ей выйти из лодки; но она оттолкнула его и схватилась за руку Гренгуара, который, в свою очередь, будучи занят козой, едва не оттолкнул ее. Тогда она без посторонней помощи выскочила из лодки. Она была до того смущена, что сама не знала, ни что она делает, ни куда она идет. Она оставалась с минуту неподвижной, бессмысленно глядя на течение реки. Когда она пришла немного в себя, она увидела, что стояла на берегу одна с незнакомцем. Гренгуар, по-видимому, воспользовался ее смущением, чтобы скрыться вместе с козой в узких закоулках квартала, прилегающего к Сенной пристани.
Бедная цыганка вздрогнула, увидев себя одну в обществе этого человека. Она хотела было кричать, звать Гренгуара, но язык был точно парализован, и она не могла произнести ни единого звука. Вдруг она почувствовала прикосновение к своей руке руки незнакомца; это была сильная и холодная рука. Она задрожала еще сильнее, а лицо ее было бледнее лунных лучей, освещавших ее. Незнакомец, однако, продолжал молчать. Он направился большими шагами к Гревской площади, держа ее за руку. В эту минуту она смутно почувствовала, что судьба – сила непреодолимая. Она лишилась всякой воли и позволяла увлекать себя, следуя за ним бегом, так как он шел большими и быстрыми шагами. Набережная в этом месте шла в гору, а ей, между тем, казалось, будто она спускается под гору.
Она оглянулась во все стороны; нигде не видно было ни одного прохожего, – набережная была совершенно пустынна. Она слышала шум, замечала присутствие людей только со стороны шумевшего и озаренного заревом Старого города, от которого она отделена была лишь одним рукавом Сены, и откуда имя ее доносилось до ее слуха вместе с криками: – «Смерть, смерть цыганке!» Остальной Париж лежал вокруг нее большими, темными пятнами.
Незнакомец продолжал также молчаливо и быстро увлекать ее за собою. Она не узнавала тех мест, по которым они шли. Проходя мимо одного освещенного окна, она сделала над собою усилие и громко крикнула: – Помогите!
Какой-то стоявший у окна обыватель открыл его, высунулся из него в одной сорочке, держа в руки, светильник, бессмысленным взором окинул набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и снова захлопнул окно. Для нее потух последний луч надежды.
Спутник ее не произнес ни слова, только крепче схватил ее за руку и зашагал быстрее. Она не оказывала более сопротивления и покорно следовала за ним. По временам, собравшись с силами, она только спрашивала голосом запыхавшимся и дрожащим от волнения:
– Кто вы? Кто вы? – Но он ничего не отвечал.
– Таким образом они дошли, идя все по набережной, до довольно большой площади. В эту минуту луна выглянула из-за туч: это была Гревская площадь. Посреди ее можно было отличить нечто в роде большого, черного креста: то была виселица. Она узнала всю эту обстановку и поняла, куда ее привели.
Тут спутник ее остановился, повернулся к ней лицом и поднял свой капюшон.
– О, – пробормотала она, окаменев от ужаса, – я знала, что это опять-таки он!
Действительно, это был священник. Он походил в эту минуту на привидение. Таково свойство лунного света; при этом свете, кажется, видишь не предметы, а только призраки.
– Послушай! – обратился он к ней, и она задрожала при звуке этого зловещего голоса, которого она давно уже не слыхала, – и он продолжал медленно и с расстановкой, как он говорил уж с нею однажды: – Послушай… мне нужно переговорить с тобой… Это Гревская площадь… Нам следует принять какое-нибудь решение… Судьба отдала нас друг другу в руки… Я располагаю твоею жизнью, ты… моей душою. Здесь пустынно и темно, и нас никто не видит и не слышит. Так слушай же! Я должен сказать тебе… Во-первых, не упоминай при мне имени твоего Феба… (говоря, он ходил взад и вперед, как человек, которому не стоится на месте, увлекая ее за собою), не называй мне его имени. Вот видишь ли, если ты произнесешь его имя, я сам не знаю, что я сделаю, но знаю, что это будет нечто ужасное.
Произнося эти слова, он снова сделался неподвижен, как тело, нашедшее, наконец, свою точку равновесия. Но в словах его все же сказывалось сильное волнение, и голос его становился все глуше и глуше.
– Не отворачивайся так от меня и слушай меня. Это дело серьезное… Во-первых, вот что случилось… Это вовсе не смешно, клянусь тебе… О чем это я говорил, дай Бог памяти?.. Ах, да! В силу постановления парламента, ты должна подвергнуться казни. Ну, так вот, я спас тебя от них… Но они гонятся за тобою. Смотри!
И он указал рукою по направлению к Старому городу. Действительно, толпа продолжала двигаться, как будто чего-то ища. Шум приближался. Башня дома помощника бургомистра, насупротив площади, была освещена, и при падавшем из окон ее свете можно было различить, как солдаты бегали по противоположной набережной, с факелами в руках и крича: – «Цыганку! Где цыганка? Смерть цыганке!»
– Итак, ты видишь, что они преследуют тебя, и что я не лгу. – Я люблю тебя… Молчи, не говори лучше ничего, если только ты желаешь сказать мне, что ненавидишь меня… Я этого больше не хочу слышать… Я только что спас тебя… Да дай же мне кончить: я могу и окончательно спасти тебя. У меня для этого уже все приготовлено. Теперь все зависит от тебя: как ты пожелаешь, так и сделается.
Но тут он вдруг сам себя прервал и продолжал:
– Нет, не так нужно говорить с тобою… И, увлекая ее за собою, он скорее побежал, чем пошел прямо к виселице, и, указывая на нее пальцем, холодно произнес: – Выбирай между ею и мною!
Она вырвалась из его рук и упала у подножия виселицы, обняв руками эту зловещую опору. Затем она взглянула на священника в пол-оборота, причем красивое лицо ее поразительно напоминало святую, преклонившую колена перед крестом. Священник продолжал стоять неподвижно, с поднятым к виселице пальцем, точно изваяние.
– Она пугает меня меньше, чем вы, – проговорила, наконец, цыганка.
Тогда он медленно опустил руку и посмотрел на мостовую с видом глубокого отчаяния.
– Если б эти камни могли говорить, – произнес он, – они сказали бы, что тут стоит очень несчастный человек.
Молодая девушка, стоя на коленах перед виселицей, укутанная в распустившиеся длинные волосы свои, не прерывала его, и он продолжал говорить жалобным и мягким голосом, составлявшим резкий контраст с жестким и надменным выражением его лица:
– Да, я люблю тебя, люблю безумно! Неужели пожирающий меня огонь не вырывается наружу? Увы! я страдаю и днем, и ночью! Неужели ж я не достоин никакого сожаления? Ведь это настоящая пытка! О, я слишком сильно страдаю! Страдания мои должны внушить сострадание, уверяю тебя! – Ты видишь, что я теперь говорю с тобою по возможности спокойно. Я очень желал бы, чтобы ты, наконец, перестала бояться меня. Ведь не виноват же, в конце концов, человек в том, что он любит такую-то женщину! О, Боже мой! Неужели ты никогда не простишь мне? Неужели ты всегда будешь меня ненавидеть? Значит, все кончено! Вот, видишь ли, это-то и делает меня злым и страшным для меня самого! Ты даже и не смотришь на меня. Ты, быть может, думаешь о совершенно другом, пока я говорю с тобою, стоя на грани, быть может, отделяющей нас обоих от вечности! Но только не говори мне об этом офицере! Как! Если даже я брошусь к ногам твоим, если я стану целовать, – нет, не ноги твои, а землю, которую они топчут, если я буду рыдать, как ребенок, если я стану вырывать из груди моей не слова, а сердце и внутренности мои, чтобы доказать тебе, что я тебя люблю, – то и это все, все было бы тщетно?! А между тем, я в том убежден, у тебя нежная и чувствительная душа, ты блистаешь кротостью, ты вся – олицетворение красоты, доброты, милосердия, нежности! Увы! ты можешь быть зла только со мною одним! Такова уже моя печальная судьба!
Он закрыл лицо свое руками, и молодая девушка слышала, как он рыдал. Она еще в первый раз видела его плачущим. В таком виде он был еще более жалок и достоин сострадания, чем когда он валялся перед нею на коленях.
Проплакав некоторое время, он продолжал, вытирая слезы:
– Ну, вот, теперь я не нахожу и слов; а между тем я тщательно обдумал все, что я намеревался сказать тебе. В решительную минуту я дрожу, я смущаюсь, я могу лишь бормотать, а не говорить. О, я готов сейчас упасть, если ты не сжалишься надо мною… и над собою. Не губи нас обоих! Если бы ты знала, как я люблю тебя, какое сердце ты отталкиваешь от себя! О, моя добродетель, где ты! Я сам себя не узнаю. Я ученый, – и срамлю мою науку; я дворянин по происхождению, – и я срамлю мое имя; я служитель алтаря, – и я забываю моего Бога, я готов сделать из моего требника изголовье на ложе разврата, – и все это для тебя, волшебница, чтобы сделаться более достойным твоего ада! А ты меня отвергаешь! Нет, я тебе еще не все сказал; ты должна узнать все, даже самое ужасное!
И, при последних словах, лицо его приняло какое-то исступленное выражение. Он помолчал с минуту и затем продолжал громким голосом, но как бы говоря сам с собою:
– Каин, Каин, что сделал ты с твоим братом Авелем?
Он опять помолчал и затем продолжал:
– Что я с ним сделал, Господи? Я призрел, вскормил, воспитал его, я его любил и обожал, – и я убил его! Да, Господи, ему только что размозжили голову, на глазах моих, о камни дома Твоего, и все это ради меня, ради этой женщины, ради нее…
Взор его блуждал, голос его постоянно ослабевал; он повторил еще несколько раз, машинально, с довольно длинными промежутками, подобно колоколу, длящему свой последний гул:
– Ради нее… Ради нее…
И затем из уст его не раздавалось уже ни единого членораздельного звука, хотя губы его и продолжали шевелиться. Вдруг он грохнулся на землю и остался без движения, скрыв голову свою в коленах.
Движение молодой девушки, вытаскивавшей свою ногу из-под его колена, заставило его прийти в себя. Он медленно провел рукою по впалым щекам своим и с удивлением посмотрел в течение нескольких мгновений на пальцы свои, бывшие мокрыми.
– Что это, – пробормотал он, – никак я плакал!
И вдруг, обернувшись к цыганке, он проговорил в сильном волнении:
– Увы! Ты безжалостно смотрела на мои слезы! Но сознаешь ли ты, дитя, что эти слезы – та же горячая лава? Неужели же правда, что человек, которого ненавидят, неспособен тронуть? Ты, кажется, готова была бы смеяться при виде моей смерти! Но я… я не желаю видеть тебя умирающей! Одно слово! одно только слово прощения! Ну, не говори мне, что ты меня любишь, скажи мне только, что ты желаешь, чтобы я тебя спас… и этого будет достаточно! Иначе… О, время ухолит! Умоляю тебя всем, что для тебя священно, не дожидайся того, что я снова сделаюсь каменным, как эта виселица, которая тоже ждет тебя! Подумай о том, что судьба нас обоих в твоей руке, что я – страшно сказать! – безумец, что я готовь сейчас погубить нас обоих, и что под нами, несчастная, разверста бездна, в которую я низвергнусь вслед за тобою на веки вечные. Скажи одно слово! только одно слово! одно доброе слово!
Она раскрыла уста, собираясь отвечать ему. Он бросился перед нею на колена, в надежде, что, быть может, тронутая его мольбами, она произнесет слово ласки.
– Вы – убийца! – проговорила она.
Тогда священник неистово обхватил ее руками своими и воскликнул с диким хохотом:
– Ну, да, я убийца, а все же ты будешь принадлежать мне. Ты не желаешь иметь меня рабом своим, – так я буду твоим господином! Ты будешь моя! Я увлеку тебя с собою, и ты должна будешь последовать за мною, иначе я тебя выдам. Да, красавица моя, тебе остается на выбор только одно из двух: или умереть, или принадлежать мне, расстриге, отступнику, убийце! И притом нынче же ночью… слышишь ли? Ну, живо, решайся! Целуй меня, дурочка! Выбирай: или ложе мое, или могила!
Глаза его блестели от сладострастия и ярости, а уста его покрывали поцелуями шею молодой девушки. Тщетно она отбивалась в его руках, он продолжал осыпать ее поцелуями.
– Не кусай меня, изверг! – воскликнула она. – О, этот ужасный, противный монах! Я сейчас вырву твои гадкие, седые волосы и брошу их тебе в лицо.
Он сначала покраснел, затем побледнел, отпустил ее и смотрел на нее мрачным взором. Она вообразила, будто победа осталась уже за нею, и продолжала:
– Я повторяю тебе, что люблю моего Феба, что желаю принадлежать только ему, что мой Феб – красавец! А ты – старый, гадкий поп! Убирайся прочь!
Он дико вскрикнул, как преступник, к телу которого прикасается клеймо.
Ну, умри же! – проговорил он, заскрежетав зубами, и бросил при этом такой свирепый взгляд на нее, что она хотела было убежать от него. Но он схватил ее, встряхнул, бросил на землю, и затем направился быстрыми шагами к Роландовой башне, волоча ее по мостовой за собою, держа ее за красивые ее руки. – Спрашиваю тебя в последний раз, хочешь ли ты быть моей? – обратился он к ней, дойдя до башни.
– Нет! – ответила она решительным голосом.
Тогда он закричал громким голосом:
– Гудула, Гудула! Вот цыганка! Настал час твоей мести!
Молодая девушка почувствовала, как кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась: в оконце, проделанное в стене, высунулась худощавая рука, схватившая ее точно железными клещами.
– Держи ее крепче! – проговорил священник. – Это беглая цыганка. Смотри, не отпускай ее. Я пойду за полицейскими, и ты вскоре увидишь, как ее повесят.
В ответ на эти слова изнутри келейки раздался горловой смех. Цыганка видела, как священник пустился бежать по направлению к собору Богоматери, откуда раздавался конский топот.
Молодая девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она старалась было вырваться от нее, сделала несколько отчаянных прыжков, но та держала ее с сверхъестественной силой. Ее худые, костлявые пальцы так и впились в ее руку, и, казалось, не было возможности оторвать их от нее. Это не была цепь, не были кандалы, не было железное кольцо, – это были живые и разумные клещи, выходившие из-за стены.
Выбившись из сил, она прислонилась к стене, и ею снова овладел смертельный ужас. Ей вспомнилось, как хороша жизнь, как хороша молодость, как прекрасны небо и природа; ей вспомнился Феб, вспомнилось все, что убегало от нее, и все, что приближалось к ней, вспомнились уходящий от нее священник, приближающийся палач, ожидающая ее виселица. Она почувствовала, как от ужаса волосы ее поднимаются дыбом, и в то же время в ушах ее звучал зловещий смех затворницы, которая приговаривала радостным голосом:
– Ага! Наконец-то тебя повесят!
Она повернулась лицом к оконцу и увидела сквозь железную решетку его бледное лицо затворницы.
– Что я вам сделала? – проговорила она слабым голосом.
Затворница ничего не ответила, и только принялась бормотать каким-то певучим, раздраженным, насмешливым голосом:
Цыганка, цыганка, цыганка!
Несчастная Эсмеральда опустила голову, поняв, что она имеет дело не с человеческим существом. Вдруг затворница воскликнула, как будто вопрос цыганки только теперь достиг до ее слуха:
– Ты спрашиваешь, что ты мне сделала? Что ты мне сделала, цыганка? Ну, так слушай же! У меня была дочь, слышишь ли? дочь! Прехорошенькая девочка! О, Агнесочка! – прошептала она, что-то такое целуя в потемках. – Ну, так, слышишь ли, цыганка? – у меня взяли, у меня украли, у меня, быть может, убили дочь мою! Вот что ты мне сделала!
– Но ведь, быть может, меня в то время не было еще и на свете, – кротко заметила молодая девушка, как ягненок в басне.
– Нет, ты уже была тогда на свете, ты, быть может, принадлежала к их же шайке. Она теперь была бы приблизительно твоих лет. Так вот, видишь ли! Я уже целых пятнадцать лет сижу здесь, страдаю, молюсь, бьюсь головой об стену. Я говорю тебе, что украли ее у меня цыганки, слышишь ли? и что они съели ее. Есть ли в груди у тебя сердце? Можешь ты себе представить, что такое ребенок, берущий грудь, спящий, играющий, что это за милое, невинное существо? Ну, так вот такого-то ребенка у меня взяли, убили. Богу это известно. За то сегодня на моей улице праздник: я увижу гибель цыганки. О, с каким удовольствием я укусила бы тебя, если бы мне не мешала решетка! К сожалению, я не могу просунуть сквозь нее мою голову. Бедная малютка! Они украли ее во время сна, и если они при этом разбудили ее, то тщетно она кричала, меня не было дома. – О, проклятые цыганки! Вы погубили дочь мою! Ну, так приходите же смотреть, как я помогаю погубить вашу дочь!
И она принялась хохотать или скрежетать зубами – нельзя было разобрать, – до того лицо ее исхудало и исказилось. Начинало светать, и виселица, стоявшая посреди площади, вырисовывалась все яснее и яснее. С другой стороны, от соборного моста, до слуха бедной осужденной все явственнее и явственнее доносился топот конницы.
– Сударыня, – воскликнула несчастная молодая девушка, бросаясь на колена и складывая на груди руки, растерянная, обезумевшая от ужаса, – сударыня, сжальтесь надо мною! Они приближаются! Я вам ничего не сделала! Неужели же вы желаете меня увидеть умирающею на ваших глазах такою ужасною смертью? Вы сострадательны, я в том уверена! Ведь это слишком ужасно! Отпустите меня! Дайте мне бежать! Пощадите меня! Я не желаю умирать!
– Возврати мне мою дочь! – повторяла затворница.
– Пощадите, пощадите!
– Возврати мне мою дочь!
– Отпустите меня, ради самого неба!
– Возврати мне мою дочь!
Молодая девушка снова опустилась на колена, с безжизненным взором, точно надломанная.
– Увы! – прошептала она, – вы ищите вашего ребенка, а я ищу родителей моих.
– Возврати мне мою Агнесу! – повторяла Гудула. – Ты говоришь, что не знаешь, где она? Так умри же! Но раньше выслушай. Я была распутной женщиной. Бог послал мне ребенка, а его у меня отняли, – и отняли цыганки! Значит, ты видишь, что ты должна умереть! – Когда твоя мать-цыганка придет ко мне требовать тебя от меня, я скажу ей: – «Мать, взгляни на эту виселицу, или же отдай мне мою дочь!» – Знаешь ли ты, где она теперь, дочь моя? Я тебе покажу. Видишь ли ты этот башмачок? Вот все, что у меня осталось от нее. Известно ли тебе, где другой такой башмачок? Если тебе это известно, то скажи мне. Будь то даже за тридевять земель, – я на коленах поползу за ним.
И с этими словами она указывала цыганке на маленький, вышитый башмачок. Было уже настолько светло, что можно было разглядеть цвет и форму его.
– Покажите мне этот башмачок! – проговорила цыганка, вздрогнув. – О, Боже, Боже!
И в то же время она свободной рукой своей поспешно раскрыла зеленый мешочек, висевший у нее на шее.
– Ну, ну, доставай свой чертовский талисман! бормотала Гудула.
Но вдруг она остановилась, задрожала всем телом и воскликнула голосом, выражение которого невозможно передать:
– Дочь моя!
Цыганка только что вынула из своего мешочка башмачок, как две капли воды похожий на тот, на который указывала ей затворница. К этому башмачку прикреплен был кусочек пергамента, на котором можно было прочесть следующие слова:
«Когда ты найдешь подходящий ко мне башмачок, твоя мать откроет тебе объятия свои».
Затворница в одно мгновение ока сравнила оба башмачка, прочла надпись и, припав к решетке окна лицом, сиявшим неземною радостью, воскликнула:
– Дочь моя! Дочь моя!
– Мать моя! – в свою очередь воскликнула цыганка.
Мы отказываемся описывать последовавшую за этим сцену. Мать и дочь отделяли стена и железная решетка.
– О, эта проклятая стена! – воскликнула затворница. – Видеть ее и не быть в состоянии обнять ее! Дай мне, по крайней мере, твою руку.
Молодая девушка протянула к ней свою руку сквозь решетку; затворница бросилась к этой руке и припала к ней долгим поцелуем, не подавая иного признака жизни, кроме рыдания, от которого тело ее по временам судорожно вздрагивало; но в то же время из глаз ее втихомолку текли обильные слезы, точно тихий, летний, ночной дождь. Бедная мать изливала теперь на эту обожаемую руку все слезы, которые скопились в глубоком и темном колодце души ее в течение целых пятнадцати лет.
Вдруг она выпрямилась, откинула назад свои длинные, седые волосы, и, не произнося ни слова, принялась потрясать обеими руками своими железную решетку, закрывавшую оконце ее, с такою же силою, с какой львица трясет железные прутья своей клетки. Мо решетка не подавалась. Тогда она принесла из угла своей кельи большой булыжник, служивший ей изголовьем, и швырнула им в решетку с такой силой, что одна из полос переломилась, рассыпав тысячи искр. Второй удар переломил и другую полосу. Затем она обеими руками частью отогнула, частью совсем вынула обломки полос. Бывают такие минуты, когда руки слабой женщины получают нечеловеческую силу.
На все это потребовалось не более минуты. Затем она схватила дочь свою поперек тела и повлекла ее в свою келию, приговаривая:
– Наконец то, я извлекла тебя из бездны!
Втащив к себе дочь свою, она потихоньку поставила ее на землю, но затем тотчас же снова взяла ее на руки, и, нося ее, как малого ребенка, ходила с нею взад и вперед по маленькой келийке, обезумев от радости, крича, смеясь, целуя ее, говоря с нею, обливаясь слезами, делая все это разом и порывисто.
– Дочь моя, дочь моя! – повторяла она, – я нашла дочь мою! Вот она! Всеблагой Создатель возвратил мне ее! Эй, вы! идите все сюда! Кто хочет видеть мою дочь? Господи Иисусе Христе, как она красива! Ты заставил меня прождать целых пятнадцать лет, Господи, но лишь для того, чтобы возвратить мне ее такой красавицей. Значит, цыганки не съели ее! Кто же утверждал это?.. Дочка моя, поцелуй меня! Какие добрые эти цыганки! Как я их люблю! Так это ты! То-то сердце билось в груди моей каждый раз, когда ты проходила! А я то принимала это за ненависть! Прости мне, Агнесочка, прости мне! Ты находила меня очень злою, не правда ли? Но я люблю тебя! А родимое пятнышко на твоей шее, где оно? Покажи-ка мне его! Да, вот оно! О, какая же ты красавица! Это у тебя от меня такие большие глаза. Поцелуй же меня! Я люблю тебя! Теперь мне все равно, есть ли у других матерей дети, или нет. Мне до этого нет дела. Пусть они приходят и смотрят: вот моя дочь! Вот ее шея, ее глаза, ее волосы, ее руки! Найдите-ка мне что-нибудь столь же красивое, как все это! О, у нее не будет недостатка во вздыхателях, я в том уверена! Я проплакала целых пятнадцать лет. Вся моя красота перешла от меня к ней. Поцелуй меня!
И она говорила разный другой вздор, бессмысленный, но нежный, расстегивала ее платье, так что заставила даже покраснеть молодую девушку, гладила рукою ее шелковистые волосы, целовала ей лоб, глаза, руки, ноги, и от всего приходила в восторг. Молодая девушка не мешала ей и только по временам повторяла потихоньку, с неописанною кротостью:
– Мать моя!
– Видишь ли, дочурка, – говорила затворница, прерывая слова свои поцелуями, – видишь ли ты, я тебя буду очень любить. Мы уйдем далеко, далеко отсюда. Мы будем очень счастливы. У меня осталось некоторое наследство на нашей родине, в Реймсе. Ведь ты помнишь Реймс? Ах, да, где же тебе помнить! Ты была тогда еще совершенно маленькая! Если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! У тебя были такие маленькие ножки, что на них приходили даже смотреть из Эпернэ, а ведь это в семи милях, ты знаешь! У нас будет свой дом, свое поле. Я уложу тебя в свою постель. Боже мой! Боже мой! Кто бы мог поверить тому? Я нашла свою дочь!
– О, моя мать! – проговорила, наконец, несколько преодолев свое волнение, молодая девушка: – мне, значит, верно предсказала цыганка. В нашем таборе была одна добрая цыганка, которая всегда ходила за мною, как нянька, и которая умерла в прошлом году; она то и повесила мне на шею этот мешочек. Она всегда говорила мне: «Смотри, береги этот башмачок. Это сокровище, которое поможет тебе разыскать твою мать. Она у тебя на шее, твоя мать». Она, значит, верно предсказала, цыганка эта!
Затворница снова обняла свою дочь и проговорила:
– Пойди, поцелуй меня! Как ты это мило сказала! Когда мы возвратимся на родину, мы пожертвуем башмачки твои в церковь, чтоб обуть ими статую младенца Иисуса. Мы должны сделать это, чтоб отблагодарить Пресвятую Богородицу за совершенное Ею чудо. Боже мой! какой у тебя приятный голос! Сейчас, когда ты говорила, мне казалось, будто я слышу музыку. О, Господи Боже мой! Я нашла дочь мою! Но может ли это быть! И как это я не умерла от радости!
И она снова захлопала в ладоши, и засмеялась, и воскликнула:
– Как мы счастливо заживем!
В это время до слуха молодой девушки долетело бряцание оружия и конский топот, приближавшийся, казалось, со стороны собора и раздававшийся все ближе и ближе на набережной. Цыганка в ужасе бросилась к затворнице.
– Спаси меня! спаси меня, матушка! – воскликнула она, – вон они приближаются!
– О, небо!.. Что ты говоришь! – проговорила затворница, побледнев, – а я и забыла: ведь тебя преследуют! Но за что же?
– Я сама не знаю, – ответила несчастная, – но я осуждена к смерти!
– К смерти! – воскликнула Гудула, зашатавшись. – К смерти! – повторила она медленно, пристально глядя на свою дочь.
– Да, матушка, – ответила несчастная молодая девушка, – они желают убить меня. Вон, они уже идут за мною. Эта виселица ждет меня! Спаси меня, спаси меня! Они приближаются. Спаси меня!
Затворница осталась несколько мгновений неподвижная, как бы окаменелая; затем она покачала головою, как бы в знак сомнения, и вдруг воскликнула, разразившись хохотом, своим прежним, диким хохотом:
– О, о, о! Что ты там городишь за вздор! Как бы ни так! Чтобы я потеряла ее на целых пятнадцать лет для того, чтобы найти ее всего на одну минуту! Чтоб они взяли ее у меня теперь, когда она выросла, сделалась красавицей, говорит со мною, любит меня, чтоб они теперь пришли убивать ее на моих глазах, на глазах ее матери! О, нет! Такие вещи невозможны! Бог этого не допустит!
Здесь всадники как будто остановились, и слышен был голос, говоривший:
– «Сюда, г. Тристан Священник говорит, что мы найдем ее у Крысиной Норы». – И снова раздался конский топот.
Затворница вскочила, испустив крик отчаяния.
– Спасайся, спасайся, дитя мое! – воскликнула она. – Теперь я все вспомнила. Ты права: тебя ожидает смерть! О, ужас! Проклятие! Спасайся!
Она высунула голову в оконце и сказала тихим, отрывистым, мрачным голосом, судорожно сжимая руку молодой девушки, более мертвой, чем живой:
– Нет, оставайся и не шевелись. Кругом стоять солдаты! Тебе нельзя выйти. Слишком светло!
Глаза ее лихорадочно блестели. С минуту она молчала, расхаживая по своей каморке и по временам останавливаясь для того, чтобы клочьями вырывать из своей головы седые волосы.
– Они приближаются! – воскликнула она вдруг. – Я заговорю с ними. Спрячься в этот угол. Они не увидят тебя. Я скажу им, что ты вырвалась у меня и убежала, что ли!
И она спустила с рук своих девушку, – так как она все это время продолжала носить ее на руках, – в один из углов каморки, в который нельзя было заглянуть с улицы, усадила ее, тщательно прикрыла ее руки и ноги, а равно и ее платье длинными, черными волосами, которые она распустила, и поставила перед нею кружку и свой булыжник, т. е. все, что только было в ее каморке, воображая, будто эта кружка и этот булыжник могут прикрыть ее. Затем, окончив все эти приготовления и несколько успокоившись, она стала на колена и принялась молиться. Только что начинало светать, и потому в Крысиной Норе было довольно темно.
В это время у самой пещеры раздался голос священника, этот адский голос, кричавший:
– «Сюда, сюда, капитан Феб де-Шатопер!»
При звуке этого голоса, при этом имени Эсмеральда, забившаяся в угол, сделала движение.
– Не шевелись, – шепнула ей Гудула.
Едва произнесла она это слово, как возле самой Крысиной Норы раздались человеческие голоса, бряцание оружия и конский топот. Мать поспешно встала и поместилась перед оконцем, чтобы закрыть его. Она увидела выстроившиеся на Гревской площади отряды пеших и конных солдат. Начальник сошел с лошади и направился к ней.
– Эй, старуха! – слазал он грубым голосом, – мы ищем колдунью, чтобы повесить ее. Нам говорили, что ты ее держишь.
Бедная мать придала лицу возможно равнодушное выражение и ответила:
– Я не понимаю, что вы говорите.
– Черт возьми! Что такое наболтал нам этот полоумный поп?.. – воскликнул офицер. – Да где же он?
– Ваше превосходительство, – ответил один из солдат, – он исчез.
– Ну, старуха, не лги, – продолжал капитан. – Тебе поручили стеречь колдунью. Что ты с нею сделала?
Затворница, боясь возбудить подозрение, не захотела, безусловно, отнекиваться, и ответила искренним, но недовольным тоном:
– Если вы говорите о той молодой девушке, которую мне только что навязали на руки, то я могу вам только ответить, – что она укусила меня за руку, и я должна была выпустить ее руку. Вот и все. А теперь оставьте меня в покое.
– Не лги, старуха, – строго проговорил начальник отряда, – меня зовут Тристан Пустынник и я – кум короля. Тристан Пустынник, слышишь ли? – И он прибавил, оглядывая Гревскую площадь, – это имя здесь, кажется, небезызвестно.
– Хотя бы вы были сам Сатана Пустынник, – проговорила Гудула, к которой начинала возвращаться надежда, – я ничего не имею сказать вам больше и я не боюсь вас.
– Черт побери! – воскликнул Тристан, – вот так старуха! Так, значит, колдунья убежала! Куда же она направилась?
– Кажется, по Бараньей улице, – ответила она спокойным голосом.
Тристан повернулся к своему отряду и знаком велел ему готовиться в дальнейший поход. Затворница вздохнула свободнее.
– Ваше превосходительство, – вдруг сказал один из стрелков, – спросите у старой ведьмы, отчего это так погнуты железные полосы в ее оконце?
Вопрос этот снова преисполнил тревогой сердце бедной матери. Она, однако, не утратила всякое присутствие духа и проговорила:
– Они уже давно сломаны.
– Неправда! – ответил стрелок, – еще вчера они были совершенно целы и составляли правильный крест.
Тристан искоса взглянул на затворницу и проговорил:
– Кажется, кума смутилась.
Несчастная чувствовала, что все зависит от ее хладнокровия, и засмеялась, хотя на сердце у нее скреблись кошки. Только мать способна на такое усилие над собою.
– Человек этот, кажется, пьян, – проговорила она. – Уже более года тому назад какой-то ломовой извозчик ударил задком своего нагруженного камнями воза в мое оконце и сломал решетку. Я тогда еще так сильно его ругала.
– Это правда, – вставил свое слово другой стрелок, – я сам присутствовал при этом.
Замечательно, что всегда и всюду находятся люди, которые все видели. Это неожиданное свидетельское показание стрелка приободрило затворницу, которая во все время этого допроса стояла точно на горячих угольях. Но ей суждено было переходить постоянно от тревоги к надежде и обратно.
– Если их сломала повозка, – заметил первый стрелок, – то концы железных полос должны бы быть выгнуты наружу, а они вогнуты внутрь.
– Эге! – сказал Тристан, обращаясь к солдату, – у тебя, однако, чутье сыщика! Ну, что ты на это скажешь, старуха?
– Боже мой! – воскликнула она, чуть не плача и голосом, в котором против ее воли сказывалась тревога, – уверяю вас, сударь, что решетку эту сломала повозка. Ведь вы слышали от одного из ваших солдат, что он сам это видел. И, наконец, причем же тут цыганка?
– Гм! гм! – пробормотал Тристан.
– Неправда, – продолжал солдат, польщенный похвалою начальства, – перелом совсем свежий.
Тристан покачал головою, а она побледнела.
– Когда это случилось, говорите вы? – спросил Пустынник.
– Не помню хорошенько, сударь, быть может, две недели, быть может, месяц тому назад.
– А только что она говорила, что более года тому назад, – заметил солдат.
– Да, все это очень подозрительно, – заметил профос.
– Клянусь вам, сударь, – воскликнула она, продолжая стоять перед оконцем и дрожа при мысли, как бы он не вздумал просунуть в него голову и заглянуть в ее каморку, – клянусь вам, что окно это разбила телега…Клянусь вам в этом всеми ангелами рая. Пусть я буду навеки проклята, пусть меня разразит Господь, если я лгу.
– Ты, однако, очень горячо клянешься, – произнес Тристан, кидая на нее испытующий взгляд.
Бедная женщина чувствовала, как уверенность ее слабела с каждой минутой. Она уже начала делить одну неловкость за другою, и с ужасом сознавала, что говорит совсем не то, что ей бы следовало говорить. А тут в дело вмешался еще другой солдат, который воскликнул:
– Сударь, старая ведьма лжет. Колдунья не могла убежать по Бараньей улице: стоящие у входа караульные уверяют, что никто там не проходил.
Тристан, лицо которого становилось все более и более мрачным, обратился к затворнице с вопросом:
– Ну, что ты на это скажешь?
– Ничего не знаю, сударь, – ответила она, стараясь выпутаться из этого нового затруднения, – быть может, я и ошибаюсь. Только мне кажется, будто она убежала за реку.
– Значит, уже в противоположную сторону, – заметил профос. – Вряд ли, однако, она вздумала бы возвратиться в Старый город, откуда за нею гнались. Ты лжешь, старуха!
– И к тому же, – присовокупил первый солдат, – ни на этом берегу, ни на том нет ни одной лодки.
– Быть может, она перебралась вплавь, – ответила затворница, отстаивая свою позицию шаг за шагом.
– Да разве женщины умеют так хорошо плавать? – усомнился солдат.
– Черт побери, ты лжешь, старуха, ты лжешь! – воскликнул Тристан гневным голосом. Меня разбирает охота оставить в покое эту колдунью и захватить тебя. Если тебя с четверть часика хорошенько допросить под пристрастием, быть может, и вытянешь из тебя правду. Марш за нами!
– Как вам будет угодно, сударь! – воскликнула она даже с радостью. – Как вам будет угодно! Пожалуй, допросите меня под пристрастием. Ведите меня! По мне хоть сейчас. Скорее, скорее! – В это время, – думала она про себя, – дочь моя успеет спастись.
– Сто тысяч чертей! – пробормотал профос, – как ей хочется на дыбу. Положительно, не понимаю этой сумасшедшей.
Один старый, седой сержант городской стражи выступил из рядов и сказал, обращаясь к профосу:
– Да она и есть сумасшедшая, сударь. Если она упустила цыганку, то в этом не ее вина, так как она ненавидит цыганок. Вот уже пятнадцать лет, как я, обходя город ночным дозором, слышу, как она всячески проклинает и ругает цыганок. А что касается молодой танцовщицы с козой, которую мы, кажется, ищем, то она ее особенно ненавидит.
– Да, да, особенно, – подтвердила Гудула, делая над собою усилие.
Все стражники единогласно подтвердили слова старого сержанта. Тристан Пустынник, убедившись в том, что от затворницы ничего не добьешься, повернулся к ней спиною, и она с радостным волнением увидела, как он направился к своей лошади.
– Ну, нечего делать, – проговорил он сквозь зубы, – нужно отправляться дальше искать ее в другом месте. Я не лягу спать, пока цыганка не будет повешена.
Однако он не сейчас же сел на лошадь. Гудула продолжала дрожать, видя, как он обводил все беспокойным взором гончей собаки, чующей логовище красного зверя и не желающей удалиться с места. Но, наконец, он тряхнул головою и сел на лошадь. Из стесненной груди Гуцулы вырвался тяжелый вздох, и она произнесла тихим голосом, взглянув на свою дочь, на которую она все это время не решалась смотреть:
– Спасена!
Бедная девушка все это время оставалась в своем углу, не смея ни пошевельнуться, ни даже дышать и видя перед собою страшный образ смерти. До ее слуха долетало каждое из произнесенных слов, и она волновалась не менее своей матери. Она слышала, как трещала нитка, на которой она висела над бездной, и она ежеминутно опасалась, что нитка эта оборвется; теперь она почувствовала, облегчение, почувствовала под собою твердую почву. В эту минуту она услышала голос, говоривший профосу:
– Черт побери, г. профос, вовсе не мое дело вешать колдуний. Я человек военный. Я разогнал бунтарей, а теперь ищите уже сами ту, которую вам нужно повесить, а меня соблаговолите отпустить к моей команде, которая осталась без начальника.
Это был голос Феба де-Шатопера. Невозможно описать то, что испытала молодая девушка, услыхав этот голос. Он, значит, здесь, – ее друг, ее защитник, ее убежище, ее Феб! Она вскочила, и прежде чем мать успела удержать ее, бросилась к окошку с криком:
– Феб, мой Феб, приди ко мне!
Но Феба уже не было на площади: он пустил свою лошадь галопом и только что повернул за угол улицы Ножовщиков. Однако Тристан был еще тут.
Затворница бросилась к дочери своей с диким воплем и, вцепившись ногтями своими в шею ее, оттащила ее назад: мать-тигрица не разбирает того, как она схватывает детеныша своего, которого нужно спасти. Но было уже поздно: Тристан заметил молодую девушку.
– Э, э! – воскликнул он, захохотав и осклабив зубы, что придавало лицу его выражение волчьей пасти, – в мышеловке-то оказались две мышки.
– Я так и знал, – проговорил солдат.
– Хороший у тебя нюх, – сказал Тристан, потрепав его по плечу. – А где же Анри Кузен?
Из рядов солдат вышел человек, непохожий на них ни по виду, ни по одежде. Он был одет в серо-коричневой камзол, с кожаными нарукавниками, волосы его были гладко прилизаны, и в толстой руке своей он держал связку веревок. Человек этот был постоянный спутник Тристана, постоянного спутника Людовика XI.
– Приятель, – обратился к нему Тристан Пустынник: – мы, кажется, нашли колдунью, которую мы искали. Повесь-ка ее. Лестница при тебе?
– Там, в сарае дома с колоннами, есть лестница, – проговорил Кузен. – Где же мы ее повесим? Здесь, что ли? – спросил он, указывая на каменную виселицу.
– Пожалуй, хоть и здесь.
– Ну, и прекрасно, – ответил тот, смеясь еще более зверским образом, чем сам Тристан, – по крайней мере, нам не придется далеко идти.
– Ну, живо, живо! – сказал Тристан, – посмеешься ты потом.
С тех пор, как Тристан заметил ее дочь, и как всякая надежда была потеряна, затворница не произнесла ни единого слова. Она бросила бедную, полуживую цыганку в угол своей каморки и снова стала перед оконцем, ухватившись обеими руками, точно когтями, за раму его. Приняв такую позицию, она обводила солдат смелым, диким и как бы бессмысленным взором. В ту минуту, когда Анри Кузен приблизился к ее окошку, лицо ее приняло такое страшное выражение, что он невольно отступил.
– Сударь, – спросил он, обращаясь к профосу, – которую же из них нужно повесить?
– Молодую.
– Тем лучше, ибо старуха, кажется, не в своем уме.
– Бедная плясунья! – пробормотал старый сержант.
Анри Кузен снова приблизился к оконцу, но пристальный взор старухи заставил его опустить глаза.
– Сударыня… – проговорил он довольно робким голосом.
– Чего тебе нужно? – перебила она его тихим голосом, в котором, однако, звучала ярость.
– Не вас, сударыня, – ответил он, – а другую.
– Какую другую?
– Молодую.
– Тут никого нет, никого нет, никого нет! – закричала она, качая головою.
– Нет, есть, – ответил палач, – и вам самим это хорошо известно. Позвольте мне только повесить другую, а вас я не трону.
– А-а! ты не тронешь меня! – произнесла старуха с диким хохотом.
– Отдайте мне другую, сударыня. Так приказал г. профос.
– Да тут никого нет, – настаивала она точно безумная.
– А я вам говорю, что есть, – ответил палач. – Мы все видели, что вас тут было двое.
– Ну, так посмотри еще раз хорошенько, – сказала затворница, смеясь. – Просунь голову.
Палач взглянул на длинные ногти матери и не решился просунуть голову.
– Ну, живо, – воскликнул Тристан, только что расставивший свою команду полукругом вокруг Крысиной Норы и поместившийся верхом подле виселицы. Анри еще раз, крайне смущенный, подошел к профосу. Он положил веревку на землю и неловко мял в руках свою шляпу.
– Откуда прикажете войти? – спросил он.
– В дверь!
– Да там нет дверей.
– Ну, так в окно!
– Оно, слишком узко.
– Ну, так расширь его! – гневно воскликнул Тристан. – Разве у тебя нет лома?
А тем временем мать зорко следила за всем, что происходило, из глубины своей пещеры. Она уже ни на что не надеялась, она сама не знала, чего желала, она только не желала, чтоб у нее отняли ее дочь.
Анри Кузен отправился за орудиями в сарай при доме с колоннами. Кстати он захватил оттуда и лестницу, которую мимоходом и приставил к виселице. Пять или шесть стражников вооружились ломами и кирками, и Тристан направился вместе с ними к оконцу.
– Старуха, – проговорил он строгим голосом, – выдай нам девушку добровольно.
Она взглянула на него таким взглядом, как будто она не поняла смысла его слов.
– Черт побери! – продолжал Тристан, – что заставляет тебе мешать нам повесить эту колдунью, согласно желанию короля? – И он захохотал своим диким хохотом.
– Что мне мешает допустить это? А то, что это дочь моя.
Выражение, с которым произнесены были слова эти, заставило вздрогнуть даже Анри Кузена.
– Мне жаль тебя, – ответил профос, – но такова воля короля.
– А мне что за дело до твоего короля! – воскликнула она, снова дико захохотав. – Я говорю тебе, что это дочь моя!
– Ломайте стену! – скомандовал Тристан.
Для того чтобы пробить достаточно широкое отверстие, достаточно было выломать один ряд кирпичей над оконцем. Когда бедная мать услышала, как ломы и кирки стали разрушать ее крепость, она испустила страшный крик и начала быстро ходить вокруг своей каморки; она усвоила себе эту привычку заключенного в клетку дикого зверя в течение 15-ти летнего пребывания своего в этом тесном помещении. Она не произносила ни слова, но глаза ее сверкали. Сами солдаты были поражены ужасом.
Вдруг она, дико захохотав, схватила обеими руками свой булыжник и швырнула им в рабочих; но руки ее дрожали, и потому булыжник, никого не задев, упал у ног лошади Тристана. Она заскрежетала зубами.
Хотя солнце еще не взошло, но было уже совсем светло, и старые дымовые трубы окружающих домов окрашены были в прекрасный алый цвет. В это время окрестные жители, имевшие обыкновение вставать рано, открывали уже свои окна. По Гревской площади стали проходить некоторые обыватели, некоторые продавцы, отправлявшиеся на рынок со своим товаром. Они останавливались на минуту перед группой солдат, собравшейся вокруг Крысиной Норы, смотрели на нее с удивленным видом и проходили дальше.
Затворница уселась подле своей дочери, прикрывала ее собою, пристально глядя на окошко и прислушиваясь к дыханию бедной девушки, которая не шевелилась и только шепотом повторяла: – «Феб! Феб!» – По мере того, как отверстие вокруг окошка расширялось, бедная мать машинально отодвигалась дальше от него и все крепче и крепче прижимала молодую девушку к стене. Вдруг она увидела, как большой камень над окошком зашатался (она не спускала с него глаз) и услышала голос Тристана, понукавшего рабочих.
Тогда она вышла из оцепенения, в котором она находилась в течение нескольких минут, и воскликнула, причем голос ее то резал ухо, как пила, то звучал невнятно, походя на беспорядочное падение каменьев:
– О-о! но ведь это ужасно! Ведь вы, просто, какие-то разбойники! Да неужели же вы взаправду хотите отнять у меня дочь мою? Говорю вам, что это дочь моя! Ах, подлецы! Ах, негодные палачи! Ах, гнусные убийцы! Караул! Караул! Грабят! У меня отнимают дочь мою! Да неужели ты это допустишь, Господи Боже мой?!
И затем она кричала, обращаясь к Тристану, со стоящими дыбом волосами, с блуждающим взором разъяренной тигрицы:
– Ну-ка, подойди! попробуй-ка отнять у меня дочь мою! Неужели ж ты не понимаешь? Я говорю тебе, что это дочь моя! Знаешь ли ты, что такое иметь ребенка, а? Неужели у тебя ничего не шевельнется внутри при плаче их?
– Валите камень! – крикнул Тристан, – он уже достаточно расшатан.
Камень заколыхался: это был последний оплот бедной матери. Она кинулась к нему, желая было удержать его на месте, но только содрала себе ногти, и тяжелый камень, сдвинутый с места шестью здоровенными людьми, вырвался из рук ее и грохнулся наземь. Несчастная мать, при виде пробитого отверстия, распростерла руки поперек окна, ударяясь головою о камни, и кричала хриплым, еле слышным голосом:
– Караул! Спасите! Спасите!
– Теперь тащите девушку! – хладнокровно скомандовал Тристан.
Но старуха взглянула на солдат таким страшным взглядом, что им хотелось скорее попятиться назад, чем двинуться вперед.
– Ну же, вперед! – крикнул профос. – Анри Кузен, что же ты?
Но никто не двигался.
– Ах вы, мямли! – гневно воскликнул Тристан. – Испугались бабы! А еще солдаты!
– Вы называете этого зверя бабой, сударь? – заметил Анри. – Да у нее грива, точно у львицы.
– Вперед, вперед! – настаивал профос. – Отверстие достаточно широко. Влезайте в него трое в ряд, как на Понтуазской бреши. Пора кончать! Я разрублю пополам первого, который подастся хотя бы на один шаг.
Будучи поставлены меж двух огней, – рассвирепевшей старухой и строгим профосом, – солдаты колебались было с минуту и, наконец, ринулись к Крысиной Норе.
Увидев это, несчастная затворница бросилась на колена, откинула назад волосы, и похудевшие руки ее свесились плетьми. Из глаз ее закапали крупные слезы и стали стекать по глубоким морщинам на ее щеках, точно ручей, проложивший себе русло. В то же время она заговорила, но таким умоляющим, кротким, покорным и за душу хватающим голосом, что многие из стоявших вокруг Тристана служак, видевших не мало видов, украдкой утирали себе глаза.
– Господа, господа сержанты, одно слово, одно только слово! Вот что я должна сказать вам: это дочь моя, слышите ли, дорогая моя дочь, которой я так давно уже лишилась. Это целая история, послушайте только. Я очень люблю господ сержантов. Они всегда были очень добры ко мне еще в те времена, когда уличные мальчишки бросали в меня каменьями за то, что я имела любовников. Я уверена, что вы оставите мне мою дочь, когда я вам все скажу. Я прежде была распутной женщиной. Это цыганки украли ее у меня. Но я в течение пятнадцати лет хранила башмачок ее. Вот он, смотрите! У нее в то время была такая маленькая ножка. В Реймсе, в улице Фоль-Пен, девица Шанфлери! Быть может, кто-нибудь из вас даже знавал ее? – Это была я, – тогда, когда вы были еще молоды! А ведь хорошее было времечко! Немало мы все провели веселых часов! Ведь вы сжалитесь надо мною, не правда ли, господа? Цыганки украли ее у меня и держали ее у себя в течение целых пятнадцати лет. Я уверена была, что она умерла, да, вообразите себе, друзья мои, что она умерла! Я провела здесь, в этой яме, целых пятнадцать лет, – а ведь это нелегко! А этот бедный, хорошенький башмачок! Я так много плакала, что Господь Бог, наконец, сжалился надо мною: нынче ночью Он возвратил мне мою дочь. Это было чудо Господне! Она не умерла! Так теперь уже вы не отнимете ее у меня, я в том уверена. Если бы еще дело шло обо мне, – я бы ничего не сказала; но она, шестнадцатилетний ребенок! Дайте же ей еще полюбоваться солнцем! Что она вам сделала? Ничего! И я также. Подумайте, ведь у меня на свете только и есть, что она одна, ведь я уже старуха, ведь мне послала на старость это утешение Пресвятая Богородица. И к тому же вы все так добры! Ведь вы раньше не знали, что это дочь моя, а теперь вы знаете. О, как я ее люблю! Г. профос, я предпочитаю, чтобы меня разрубили пополам, лишь бы ее не трогали! Вы имеете вид доброго барина. Ведь моих объяснений достаточно с вас, не так ли? Вспомните о своей матери, сударь, и оставьте мне ребенка моего! Глядите, я умоляю вас на коленах, как молят Христа! Мне ни от кого ничего не нужно; я родом из Реймса, господа, и я наследовала от дяди моего Магиета Прадона небольшое поместье. Я не нищая! Мне от вас ничего не нужно, – оставьте мне только дочь мою! Ведь недаром же Всеблагой Господь Бог возвратил мне ее. Король! вы говорите – король! Но какое особое удовольствие монет доставить ему то, что вы убьете дочурку мою? И к тому же король ведь так добр! Ведь это моя дочь, а не короля, не ваша! Пустите нас, мы уйдем! Ведь нельзя же не пропустить двух женщин, из которых одна – мать, а другая – дочь! Пропустите нас, мы из Реймса. О, господа сержанты, вы все так добры, я вас всех так люблю! Вы не отнимете у меня дочки моей! Нет, это невозможно! Не правда ли, это совершенно невозможно? Дитя мое, дитя мое…
Мы отказываемся от попытки передать то выражение, с которым были произнесены слова эти, описывать жесты несчастной матери, слезы, которые она глотала, торопясь говорить, ломание рук ее, печальную улыбку и отчаянные взгляды ее, жалобные и трогательные вздохи, стоны и крики, которыми сопровождались эти бессвязные, беспорядочные и бессмысленные слова. Когда она замолчала, Тристан Пустынник сморщил брови, но лишь для того, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на его глазах тигра. Он, однако, преодолел эту слабость и отрывисто проговорил:
– Это воля короля!
Затем он наклонился к Анри Кузену и сказал ему на ухо:
– Кончай скорее! – Быть может, даже безжалостный профос боялся, что старухе удастся разжалобить его.
Палач и солдаты вошли к каморку. Мать не оказывала никакого сопротивления, а только дотащилась до дочери своей и прикрыла ее своим телом.
Цыганка тоже увидела приближающихся солдат, и смертельный ужас вывел ее из ее забытья.
– Матушка! – воскликнула она отчаянным голосом, – они приближаются! Спаси меня!
– Да, дитя мое, я спасу тебя, – ответила старуха сдавленным голосом и, крепко обняв ее, стала покрывать ее поцелуями. Обе эти женщины, мать и дочь, сидя, таким образом, рядом на полу, способны были внушить сострадание не только самому черствому человеку, но даже камню.
Анри Кузен схватил молодую девушку под мышки. Почувствовал прикосновение к своему телу этой грубой руки, она вскрикнула и упала в обморок. Палач, из глаз которого капали на несчастную крупные слезы, хотел было взять ее из рук старухи. Он старался разжать руки Гудулы, крепко обхватившей талию молодой девушки, но она так судорожно впилась в свою дочь, что последнюю невозможно было вырвать из рук ее. Тогда Анри Кузен поволок молодую девушку вон из каморки, вместе с вцепившейся в нее старухой, глаза которой были также закрыты.
У окон близлежащих домов не было никого. Только вдали, на самой вышке колокольни собора Богоматери, с которой видна была Гревская площадь, стояли, казалось, два человека, черные силуэты которых обрисовывались на светлеющем утреннем небе.
Анри Кузен остановился со своей ношей у подножия лестницы и, тяжело дыша, – до того невыносима была для него эта сцена, – продел в петлю красивую шею молодой девушки. Почувствовав прикосновение пеньки к своей шее, несчастная раскрыла глаза и увидела прямо над головой своей ужасную перекладину виселицы. При этом она вздрогнула и закричала громким душу раздирающим голосом:
– Нет, нет! Я не хочу!
Мать, голова которой была прикрыта платьем дочери, не произнесла ни слова; видно было только, как она задрожала и стала судорожно целовать дочь свою. Палач воспользовался этим мгновением, чтобы разжать руки, которыми она обхватила молодую девушку, и, от утомления ли или от отчаяния, но она не сопротивлялась. Затем он взвалил молодую девушку на плечи, причем она перегнулась, точно переломленная пополам, и уже занес ногу на лестницу, собираясь подняться по ней.
В это время несчастная мать, лежавшая распростертою на мостовой, раскрыла глаза. Не испустив ни единого звука, она вскочила на ноги со страшным выражением лица и затем бросилась на палача, точно дикий зверь, и укусила его в руку. Все это случилось с быстротой молнии. Палач вскрикнул от боли. Подбежали солдаты и с трудом освободили окровавленную руку палача из судорожно сжатых зубов Гудулы. Она хранила глубокое молчание. Ее оттолкнули довольно грубо, и она, как сноп, грохнулась на мостовую. Ее приподняли, но она снова грохнулась. Тут только заметили, что она представляла собою лишь безжизненный труп.
Палач, не выпустивший из рук молодой девушки, снова стал подниматься на лестницу.