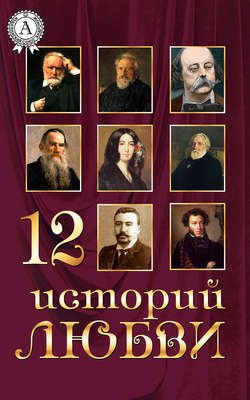Читать книгу 12 историй о любви - Коллектив авторов - Страница 54
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери
Часть II
Книга десятая
IV. Неловкий друг
ОглавлениеВ эту ночь Квазимодо не спал. Он только что обошел вокруг церкви. Запирая двери ее, он не заметил, как мимо него прошел архидиакон, выразивший некоторое неудовольствие при виде того, с какою заботливостью Квазимодо запирал на задвижки и на засов громадные железные двери, не менее крепкие и толстые, чем стена. Вид Клода был еще более озабочен, чем обыкновенно. Впрочем, после известной уже читателям ночной сцены в каморке Эсмеральды он постоянно относился к Квазимодо чрезвычайно сурово. Но как он ни бранил, как даже порою ни бил его, ничто не в состоянии было поколебать преданности и покорности верного звонаря. Со стороны архидиакона он переносил все – брань, угрозы, побои, не высказывая ни упреков, ни жалоб. Он только беспокойно следил за ним глазами, когда Клод поднимался на башню. Но архидиакон с тех пор сам воздерживался от посещения цыганки.
Итак, в эту ночь Квазимодо, взглянув сперва на свои, находившиеся в последнее время в некотором пренебрежении, колокола – на Жаклину, Марию, Тибальду, взобрался на самую вышку северной башни и, поставив на цинковый выступ крыши ее свой глухой фонарь, принялся смотреть оттуда на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была чрезвычайно темна. Париж, не имевший в те времена почти никакого уличного освещения, представлялся глазу в виде беспорядочной кучи каких- то темных масс, перерезываемой там и сям беловатой дугой Сены. Квазимодо увидел свет только в одном из окон отдаленного здания, темный профиль которого смутно вырисовывался над крышами со стороны Сент-Антуанских ворот. И там кто-то не спал.
Блуждая своим единственным глазом по этому туманному и темному горизонту, звонарь ощущал внутри себя какое-то странное беспокойство. Он уже в течение нескольких дней держал ухо настороже, так как он не раз видел, как вокруг церкви бродили какие-то люди со зловещими физиономиями, не спускавшие глаз с убежища молодой девушки. Он сообразил, что, вероятно, затевается какой-нибудь заговор против несчастной осужденной. При этом он додумался до того, что, должно быть, и против нее существует в народе такая же ненависть, как и против него, и что эта ненависть может вызвать какое-нибудь покушение против ее личности. Поэтому он почти не покидал своей колокольни, зорко всматриваясь во все, что происходит, переводя свой единственный глаз с окошечка каморки и обратно, добросовестно исполняя добровольно принятую им на себя роль верной сторожевой собаки.
Вдруг, осматривая большой город своим глазом, которому природа, как бы в виде вознаграждения, придала такую зоркость, что, он мог как бы служить некоторого рода компенсацией за недостающие у него другие органы, он заметил, что небрежная Скорняков имеет какой то странный вид, что там происходило какое-то движение, что мостовая на ней не белела в потемках, как другие улицы и набережные, а как бы почернела, что к тому же она не была неподвижна, а как бы волновалась, точно покрытая рябью река или двигающаяся толпа.
Это показалось ему странным, и он удвоил внимание. Темная масса эта направлялась, по-видимому, к Старому городу, но нигде не было видно ни малейшей светлой точки. Сначала эта смутная, черная масса двигалась по набережной, а затем точно стала просачиваться на остров. Наконец, она совсем исчезла, и линия набережной снова сделалась прямой и неподвижной. Но в то самое время, когда Квазимодо терялся в догадках, ему показалось, как будто что-то зашевелилось по Папертной улице, пересекающей остров Старого города параллельно фасаду собора Богоматери. Наконец, несмотря на тьму кромешную, он увидел, как голова этой колонны вышла через эту улицу на площадь, а минуту спустя вся площадка покрылась какою-то толпою, в которой только и можно было разглядеть, что это была толпа.
Все это представляло собою довольно жуткое зрелище. По-видимому, эта странная процессия, которая, казалось, так тщательно скрывалась среди глубокой тьмы, старалась также хранить не менее глубокое молчание. Правда, какой-нибудь звук да должен был исходить из рядов этой толпы, хотя бы только звук, производимый топотом многочисленной толпы. Но этот звук, понятно, не мог долетать до слуха глухого Квазимодо, и эта громадная толпа, которую он еле-еле мог разглядеть и производимого которою шума он совсем не слышал, хотя она и двигалась так близко от него, производила на него впечатление толпы мертвецов, немой, неосязаемой, точно подернутой туманом. Ему казалось, будто к нему приближаются не люди, а призраки, какие-то тени, двигавшиеся во тьме.
При виде всего этого им снова овладел страх, и его воображению снова предстала мысль о покушении против цыганки. Он смутно предчувствовал, что наступает решительный момент. В эту критическую минуту он быстро сообразил, что ему следует делать, так быстро, как того даже нельзя было ожидать со стороны такого уродливого мозга. Не разбудить ли ему цыганку и не дать ли ей возможность бежать? Но куда? Все прилегающие с трех сторон к церкви площади и улицы были запружены народом, а четвертым фасадом своим церковь выходила на реку, и с этой стороны не было ни брода, ни моста, ни даже лодки. Он решил, что ему остается только одно, – стать на пороге собора, сопротивляться, пока хватит сил, дать им даже убить себя, в надежде, что тем временем, авось, подоспеет помощь, и не нарушать покоя Эсмеральды: ведь несчастная всегда успеет проснуться достаточно вовремя для того, чтоб умереть. Раз остановившись на этом решении, он принялся наблюдать за врагом с большим вниманием.
Толпа на площадке перед собором росла, казалось, с каждой минутой. Он сообразил, что она, должно быть, не производит, однако, никакого шума, ибо окна домов, выходивших на улицу и на площадь, оставались закрытыми. Но вдруг блеснул какой-то огонек, и минуту спустя над головами толпы появились семь или восемь зажженных факелов, блестя в темноте своим мигающим пламенем. При свете этих факелов Квазимодо мог ясно отличить топтавшуюся по площади громадную толпу людей, состоявшую из одетых в лохмотья мужчин и женщин, вооруженных косами, копьями, серпами и протазанами, искрившихся при свете факелов. Там и сям над головами торчали острия вил, точно рога безобразного зверя. Он смутно припоминал, что где-то уже видел эту толпу, и ему показалось, будто он узнает в ней некоторые лица, приветствовавшие его несколько месяцев тому назад, как шутовского папу. Какой-то человек, державший в одной руке факел, а в другой булаву, взобрался на тумбу и стал, по-видимому, держать речь к толпе. В то же время эта диковинная армия сделала несколько построений, как бы оцепляя церковь. Квазимодо взял свой глухой фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы посмотреть поближе, что такое происходит, и подумать о средствах обороны.
Действительно, Клопен Трульеф, дойдя до главных дверей собора, построил свой отряд в боевой порядок. Хотя он и не ожидал никакого сопротивления, но, будучи осторожен от природы, он желал устроить все так, чтобы, в случае надобности, встретить как следует внезапную атаку ночных стражей или патрулей. Поэтому он расставил свой отряд в таком порядке, что, если бы на него взглянуть издали или с выси, можно было бы принять его за римский треугольник, за фалангу Александра или за (правда, позднейший) острый клин Густава-Адольфа. Основание этого треугольника тянулось в глубине площади, запирая выход из Папертной улицы; одна сторона его была обращена к богадельне, другая – к улице Сен-Пьер. Сам Клопен Трульефу стал в вершине его, вместе с цыганским старостой, нашим другом Жаном и наиболее смелыми из своей команды.
В средневековых городах подобного рода предприятия, как то, которое парижские бродяги затеяли в эту ночь против собора Парижской Богоматери, не составляли особенной редкости. В те времена вовсе не существовало того, что мы называем теперь полицией.
В ту эпоху даже в наиболее многолюдных городах, даже в столицах не было единой, центральной, дающей всему направление, власти. Города были в те времена агломератом различных владений и распадались на множество как бы отдельных городов, различной величины и различных форм. Каждый из них имел свою полицию, независимые между собою и часто враждебные друг другу, и в результате выходило, что не было, в сущности, никакой полиции. В Париже, например, независимо от 141 владетеля оброчных статей, было еще 25 владельцев, которые, кроме оброчных статей, пользовались еще правом юрисдикции, начиная с парижского епископа, которому принадлежали 105 улиц, и кончая настоятелем церкви Божией Матери в Полях, которому принадлежали всего 4 улицы. Все эти феодальные владетели лишь по имени признавали королевскую власть. Все они были почти совершенно независимы, все они делали, что им заблагорассудится. Людовик XI, этот неутомимый работник, который положил начало разрушению здания феодализма, продолженному Ришелье и Людовиком XIV в пользу королевской власти и оконченному Мирабо в пользу народа, – Людовик XI, правда, попытался было прорвать эту цепь почти независимым вассальных владений, покрывавшую Париж, издав два или три обязательных для всех полицейские постановления. Так, например, в 1465 году парижским жителям предписано было, с наступлением темноты, освещать свои окна свечами и держать на привязи собак, под страхом повешения; в том же году предписано было протягивать на ночь поперек улиц железные цепи, и запрещено было носить по ночам, выходя на улицу, кинжал или иное оружие. Но с самого начала все эти попытки ввести правильное коммунальное законодательство потерпели полное фиаско. Граждане спокойно давали ветру тушить выставленные в окнах их свечи, а собакам своим бродить на свободе; железные цепи стали протягиваться поперек улиц только при осадном положении; запрещение носить кинжалы повело только к тому, что улица «Перерезанной Глотки» была переименована в улицу «Перерезанного Горла», что уже само собою представляет, во всяком случае, значительный прогресс. Старая же постройка феодальной юрисдикции осталась неприкосновенной. Она продолжала изображать собою какую-то беспорядочную громаду перепутанных и взаимно мешающих друг другу прав и привилегий, какую-то диковинную сеть разных городских, ночных и иного наименования стражей, сквозь петли которой беспрепятственно проходили воры, грабители, разбойники, убийцы. Поэтому нечего удивляться тому, что, при таком беспорядке, могли удаваться как нельзя лучше, например, вооруженные нападения какой-нибудь шайки на какой-нибудь дворец, барский дом или лавку в самых многолюдных кварталах. В большей части подобных случаев соседи вмешивались в дело лишь тогда, когда грабители добирались до их шкуры. Они затыкали себе уши, заслышав ружейные выстрелы, закрывали свои ставни, покрепче запирали свои двери и ждали, чем все это кончится, при содействии или без содействия дозора; а на другой день знакомые сообщали друг другу в виде новости: – «Прошлою ночью у Этьена Барбетта произведен был взлом», – «Маршала Клермона ограбили», и т. д., и т. д. – Поэтому не только королевския резиденции – Лувр, Дворец, Бастилия, – но и большие барские дома – Бурбонский, Сансский, Ангулемский дворцы и т. д. – имели амбразуры й окружавших их каменных заборах и бойницы над воротами. Церкви охраняла их святость; впрочем, некоторые из них, – но к этому числу не принадлежал собор Парижской Богоматери, – были укреплены. Так, например, Сен-Жерменское аббатство было обведено зубчатыми стенами, точно любой баронский замок, и оно израсходовало, вероятно, больше меди на пушки, чем на колокола. Следы этих укреплений видны были еще в 1610 году. В настоящее время еле-еле сохранилась только церковь его.
Но возвратимся к нашему рассказу.
Когда отряд был поставлен в боевой порядок, и мы должны отдать честь дисциплине этой армии бродяг, приказания Клопена были исполнены среди глубочайшего молчания и с величайшей точностью, достойный предводитель этой шайки взошел на ступени и паперти и заговорил грубым и хриплым голосом, обернувшись спиною к собору и размахивая факелом, который он держал в руке и свет которого, задуваемый ветром и застилаемый постоянно его собственным дымом, то освещал фасад церкви красноватым светом, то опять оставлял его в темноте.
– Мы, Клопен Трульефу, король Тунский, князь цыганский, епископ шутов, и пр., и пр., и пр., – объявляем тебе, Луи де-Бомону, епископу парижскому, члену королевского совета, следующее: – Сестра наша, несправедливо осужденная по обвинению в чародействе, укрылась в твоей церкви. Ты обязан оказывать ей покровительство и защиту; а между тем королевский суд желает извлечь ее отсюда, и ты на то изъявил согласие, так что она завтра была бы повешена на Гревской площади, если бы не существовало на свете Бога и нашей славной корпорации. Итак, мы пришли к тебе, епископ! Если церковь твоя неприкосновенна, то неприкосновенна и личность нашей сестры; если же вы не считаете неприкосновенною личность нашей сестры, то и мы, в свою очередь, не считаем неприкосновенной твою церковь. Поэтому мы приглашаем тебя выдать сестру нашу, если ты желаешь спасти свою церковь, иначе мы возьмем девушку силой и разграбим церковь. Это верно. В подтверждение того воздвигаю здесь мой стяг, и да хранит тебя Господь, парижский епископ!
К сожалению, Квазимодо не мог расслышать этих слов, произнесенных с какою-то мрачною и дикою торжественностью. Один из бродяг подал Клопену стяг, и тот торжественно водрузил его в землю. Стяг этот был просто большая вила, на которую был воткнут кусок падали.
После того Трульефу обернулся и обвел глазами свою армию, причем с удовольствием удостоверился, что глаза его воинов блестели почти так же, как и острия их копий.
– Вперед, ребята! – воскликнул он после минутного молчания. – За работу, молодцы!
При этих словах тридцать здоровенных, широкоплечих мужчин, по-видимому, бывших слесарей, выступили из рядов, неся на плечах своих молотки, клещи и железные ломы. Они направились к главной входной двери храма, взошли на ступеньки крыльца, и через минуту стали ломать двери ломами, а замки – клещами. За ними последовала значительная толпа бродяг, частью для того, чтобы поглазеть, частью, чтобы помогать им. Она вскоре заняла все одиннадцать ступенек крыльца. Однако, дверь не подавалась.
– Черт ее побери! Упряма же она! – говорил один.
– Она уже стара и хрящи ее окостенели! – замечал другой.
– Не робей, ребята! – подбодрял их Клопен. – Я готов прозакладывать мою голову против старой туфли, что вам удастся выломать дверь, похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем проснется хоть бы один из сторожей. Глядите-ка, кажется, замок уже подается!
В это время речь Клопена была прервана страшным треском, раздавшимся позади него. Он обернулся. Громадная балка свалилась точно с неба, придавив собою около дюжины бродяг на ступенях храма и отскочив оттуда на мостовую, причем она поломала ноги еще нескольким лицам из толпы, рассеявшейся в разные стороны с криками ужаса. В одно мгновение ока вся паперть опустела. Слесаря, хотя и находившиеся под защитой глубокой выемки в стене, тоже поспешили убежать от двери, и сам Клопен нашел более благоразумным отретироваться от нее на значительное расстояние.
– Знатно же я отделался! – кричал Жан. – Я носом почуял что-то недоброе. А Петру Скотобою попало-таки!
Трудно описать, какое удивление и какой ужас свалились на разбойников вместе с этой балкой. Они стояли несколько минут, как вкопанные, бессмысленно глядя вверх, и более напуганные этой неизвестно откуда взявшейся балкой, чем двадцатью тысячами королевских стрелков.
– Черт побери! – бормотал цыганский старшина, – тут замешалась нечистая сила.
– С луны, что ли, свалилось это дурацкое бревно? – проговорил Анри Рыжий.
– А еще говорят, – глубокомысленно заметил Франсуа Шантепрюн, – что луна – подруга Девы!
– Вы все дураки! – прикрикнул Клопен, не будучи, впрочем, сам в состоянии объяснить это явление.
Однако, вдоль высокого фасада церкви, до вершины которой не достигал свет факелов, нельзя было заметить ничего особенного. Тяжелое бревно лежало перед папертью, и слышны были стоны тех несчастных, которым оно переломало члены.
Наконец, Трульефу, по миновании первого удивления, нашел таки объяснение, которое показалось товарищам его довольно правдоподобным.
– Черт побери! – воскликнул он, – неужели каноники вздумали защищаться! В таком случае разнести церковь!
– Разнести, разнести! – вторила толпа с дикими воплями и сделала по дверям залп из пищалей и самострелов.
При этом залпе мирные обитатели ближайших к площади домов проснулись; видно было, как несколько окон растворились и в них показались головы в ночных колпаках и руки, державшие свечи.
– Стреляйте по окнам! – скомандовал Клопен.
Все окна тотчас же захлопнулись, и перепуганные обитатели их, едва успевшие бросить беглый взгляд на эту шумную и бурную сцену, дрожа всем телом, возвратились к своим супругам, удивляясь тому, что ведьмам вдруг вздумалось избрать местом для своего шабаша площадку перед собором Богоматери; другие же спрашивали себя, не повторяется ли опять приступ Бургундцев, подобный тому, который был в 1464 году. И при этом мужья дрожали за свои кошельки, жены – за свое целомудрие, и те, и другие в ужасе зарывали головы свои в подушки.
– Разнести, разнести церковь! – повторяли нападающие, не решаясь, однако, приблизиться к ней, поглядывая то на собор, то на свалившееся сверху бревно. Бревно не шевелилось, церковь сохраняла свой спокойный и величественный вид, но разбойникам все-таки было жутко.
– Так за работу же, слесаря! – воскликнул Клопен. – Выломать двери!
Но никто не пошевелился.
– Сто тысяч чертей! – продолжал Трульефу: – эти бабы испугались, кажется, какой-то дубины!
Капитан! – обратился к нему один старый слесарь. Дело не в дубине этой, а в том, что вся дверь обшита железными полосами, против которых клещи наши бессильны.
– Гак что же вам нужно для того, чтобы выломать ее?
Для этого нам необходим таран.
При этих словах предводитель шайки подбежал к свалившемуся сверху бревну и воскликнул, наступив на него ногою:
Ну, так вот вам таран! Его послали вам сами господа каноники! – И, поклонившись в сторону церкви, он прибавил: – Спасибо, каноники!
Эта выходка произвела желаемое действие, и бревно уже перестало быть страшным. Вся шайка приободрилась, и вскоре тяжелая балка, поднятая, как перышко, двумястами здоровых рук, стала со всего маху ударять в массивную дверь. При тусклом свете немногих факелов, это громадное бревно, раскачиваемое двумястами рук и затем изо всех сил ударявшееся в двери церкви, походило на громадного зверя с двумя сотнями ног, нагнувшего голову к земле и нападающего на каменного гиганта.
При каждом ударе бревна обитая металлом дверь издавала звук, похожий на звук гигантского барабана; однако, она не подалась, хотя весь собор трясся и глухой и гул раздавался в самых отдаленных углах церкви. В то же время сверху на нападающих посыпался Целый град огромных камней.
– Черт побери! – воскликнул Жан, – неужели башни желают сбросить на нас свои балюстрады!
Но атакующие начинали свирепеть. Трульефу подавал всем пример, в полной уверенности, что это вздумал защищаться епископ, и в дверь раздавался один сильный удар за другим, несмотря на камни, валившиеся на нападающих справа и слева. Камни эти валились поодиночке, но с небольшими промежутками, один за другим. Редкий из них не попадал в
цель, и у многих из бродяг были уже прошиблены головы и перебиты ноги. Немалое количество убитых и раненых валялось уже, обливаясь кровью, под ногами нападающих, которые, все более и более выходя из себя, удваивали свои удары. Громадное бревно продолжало ударять в дверь, как язык колокола, камни сыпаться сверху, а дверь – скрипеть.
Читатель, по всей вероятности, уже догадался, что это неожиданное сопротивление, так выводившее из себя осаждающих, было делом рук Квазимодо. К сожалению, случай помог нашему, столь не во время храброму, звонарю.
Спустившись на площадку между обеими башнями, он несколько времени бегал по ней точно растерянный, точно сумасшедший, видя издали сплоченную массу разбойников, готовую ринуться на церковь, и умоляя Бога или черта спасти цыганку. Ему пришло было на ум взобраться на южную башню и ударить в набат. Но прежде чем он успел бы раскачать колокол, прежде чем его возлюбленная «Мария» успела бы издать хотя бы один звук, разбойники десять раз успели бы выломать двери церкви. Как раз в это время слесаря приближались к ней со своими орудиями. Что ему оставалось делать?
В это время он вдруг вспомнил, что как раз в этот день каменьшики работали над разными починками в южной башне. В не особенно богато одаренной от природы голове его блеснула счастливая мысль. Стена была каменная, крыша – цинковая, стропила бревенчатые, и стропила эти были так часты, что их называли «рощей».
Квазимодо кинулся к этой башне. Действительно, нижние комнаты ее были полны строительных материалов. Здесь были груды песчаника, свинцовых полос, пучков дранок, напиленных уже бревен, кучи щебня, – словом, целый арсенал.
Нечего было терять времени, так как клещи и молотки делали свое дело у входной двери. С напряжением всех сил, удесятеренных сознанием опасности, он поднял одну из балок, самую длинную и самую тяжелую, просунул один конец ее в отверстие башни, раскачал другой ее конец и затем спустил ее. Громадное бревно, падая с высоты 160 футов, сорвало при падении своем несколько статуй, рикошетировало о балюстраду, перевернулось несколько раз по воздуху, точно мельничное колесо, оторванное ураганом от мельницы и продолжающее одно вертеться на воздухе. Наконец, оно достигло мостовой. Раздался страшный крик, и черная балка скатилась на мостовую, напоминая собою громадного, черного змея.
Квазимодо мог разглядеть со своего обсервационного пункта, как разбойники, при падении балки, рассыпались во все стороны, точно зола от дуновения ребенка. Он поспешил воспользоваться их испугом, и в то время, когда они смотрели с суеверным страхом на эту громадную массу, точно свалившуюся с неба, и поражали стоявшие над дверью статуи святых стрелами и крупною дробью, Квазимодо молча собирал камни, глыбы, даже мешки с орудиями, оставленные на башне каменьщиками, складывая их на краю той же балюстрады, откуда полетело бревно. И действительно, как только они снова принялись ломать дверь, на них посыпался дождь камней, так что им показалось, будто церковь сама собой рушится над их головами.
Тот, кто мог бы взглянуть в эту минуту на Квазимодо, испугался бы. Не ограничиваясь тем, что он сложил на балюстраде, он собрал еще немало метательных снарядов на самой площадке, и по мере того, как истощался запас камней на перилах, он пополнял его из сложенной им груды. Он нагибался и снова выпрямлялся с изумительным проворством. Его громадная голова показывалась из-за балюстрады, и затем сверху падал один камень, другой, третий. По временам он следил своим единственным глазом за падением какого-нибудь крупного камня, и когда он метко попадал в цель, он рычал от восторга.
Нападающие, однако, не теряли бодрости. Уже не менее двадцати раз массивная дверь, которую они выламывали, скрипела и подавалась под ударами громадного бревна, раскачиваемого сотней рук. Доски трещали, скульптурные украшения ее разлетались вдребезги, крюки при каждом ударе прыгали в своих скобках, винты выскакивали, дерево разлеталось щепами, измочаленное в железной обшивке своей. Но, к счастью для Квазимодо, в двери было более железа, чем дерева.
Однако, он чувствовал, что большие двери начали расшатываться. Хотя он и не мог слышать ударов тараном, но все же они отчетливо отдавались как в стенах церкви, так и в его членах. Он сверху мог разглядеть, как разбойники, разъяренные сопротивлением, но, тем не менее, уверенные в успехе, угрожали кулаками темному фасаду церкви, и он завидовал тому, что ни у цыганки, ни у него нет крыльев, как у тех сов, которые, испуганные необычным шумом, стаями улетали над его головой.
Очевидно было, что его дождя камней было недостаточно для того, чтобы отразить нападающих. Тогда он заметил, немного ниже той балюстрады, с которой он забрасывал камнями атакующих, две большие, каменные, водосточные трубы, нижние отверстия которых выходили как раз над большою дверью; верхние же отверстия их выходили на ту площадку, на которой он стоял. При этом в голове его блеснула новая мысль. Он побежал в свой чулан, принес оттуда вязанку хвороста, привязал к нему несколько пучков дранок и несколько черепиц, и, приставив эти самодельные снаряды к верхнему отверстию водосточной трубы, поджег их своим фонарем.
Так как во время всех этих приготовлений каменный дождь прекратился, то нападающие перестали смотреть вверх. Запыхавшись, точно стая гончих, атакующая кабана в его берлоге, они толпились перед главною дверью, уже сильно поврежденною тараном, но все еще державшеюся. Они с дрожью нетерпения ждали последнего, решительного удара, который должен был окончательно выломать ее. Все протискивались вперед, желая первыми ворваться, как только дверь рухнет, в этот богатый собор, в это хранилище, в которое в течение трех столетий не переставали стекаться многочисленные сокровища. Они напоминали друг другу, с радостным и жадным рычанием, о массивных серебряных крестах, о богатых парчовых церковных ризах, об украшениях на могилах, о сокровищах, скопленных на хорах, о подсвечниках, паникадилах, раках, драгоценных чашах, блиставших золотом и алмазами. Не подлежит ни малейшему сомнению, что в эту минуту все эти храбрецы гораздо менее думали об освобождении цыганки, чем о разграблении собора. Мы готовы даже думать, что для многих из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только, вообще, грабители нуждаются в предлогах.
Вдруг, в то самое время, когда они обступили таран, с намерением сделать последнее усилие, сдерживая дыхание свое и напрягая мускулы, из среды их раздался вопль, еще более ужасный, чем тот, который раздался, когда на них свалилось бревно. Те, которые остались еще в живых и не кричали от боли, взглянули наверх: два потока растопленного свинца лились сверху в густую толпу. Среди последней образовались два темноватых отверстия, в роде тех, которые образуются на снегу, когда в него льют кипяток, и видны были умирающие, наполовину обуглившиеся и вопившие от боли. Но и помимо этих двух главных фонтанов этот ужасный дождь рассыпался брызгами на нападающих и пробуравливался в черепа, точно железные винты. Это был какой-то ужасный, если можно так выразиться, огненный град, сыпавшийся на несчастных крупными градинками.
Снова поднялся страшный вопль, и атакующие разбежались в разные стороны, бросив свое тяжелое бревно на умерших и умирающих. Побежали и наиболее робкие, и самые смелые, и площадка во второй раз опустела.
Все взоры обратились к верхушке колокольни. Тут они увидели необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральным круглым окошком, между обеими башнями громадное пламя поднималось к небу, рассыпаясь мириадами искр, какое-то бешеное, исступленное пламя, огненные языки которого разлетались вместе с ветром по воздуху. Пониже этого пламени, пониже темной галерее, сквозь крестовидные отверстия которой просвечивался красноватый сват, две водосточные трубы, в форме пастей каких-то чудовищ, испускали из себя этот огненный дождь, серебристый блеск которого ясно выделялся на темном фоне. По мере приближения своего к земле, оба эти потока растопленного свинца принимали снопообразную форму, точно вода, вытекающая из тысячи дырочек лейки. А над этим огненным потоком две громадные башни, из которых одна выделялась своим красным, а другая – черным профилем, казались еще более высокими, благодаря высокой тени, которую они бросали на небо. Многочисленные, изваянные на них, скульптурные изображения бесов и драконов придавали им еще более мрачный вид, а при колеблющемся свете пламени казалось, будто фигуры эти двигаются. Тут были змеиные пасти, казалось, смеявшиеся, собачьи морды, как будто лаявшие, саламандры, как будто дувшие в огонь, драконы, как будто чихавшие в дым. И среди этих уродов, как будто пробужденных из своего глубокого сна всем этим шумом и пламенем, но все же стоявших неподвижно, заметен был один, который двигался, и тень которого порою мелькала на светлом фоне огня, точно тень вампира перед свечей.
Этот странный маяк не замедлил, вероятно, пробудить угольщиков бисетрских холмов, которые, без сомнения, в ужасе смотрели на яркий свет, разливавшийся с темной профили башен Собора Богоматери.
Среди разбойников водворилось молчание ужаса, прерываемое только такими же криками каноников, запертых в своем монастыре и, без сомнения, более перепуганных, чем лошади в охваченной пожаром конюшне, стуком распахиваемых и вновь затворяемых окон, возней, поднявшейся в здании богадельни, треском пламени, стонами умирающих и капанием свинцового дождя о мостовую.
Тем временем предводители банды укрылись под воротами дома госпожи Гонделорье и держали военный совет. Цыганский староста, сидя на тумбе, с ужасом смотрел на этот фантастический костер, ярко пылавший на высоте 200 футов над уровнем почвы; Клопен Трульефу в бешенстве кусал себе кулаки.
– Нет никакой возможности проникнуть в церковь! – бормотал он сквозь зубы.
– Какая-то заколдованная церковь! – ворчал старый цыган Матвей Гуниади-Спикали.
– Клянусь усами папы, – заметил пожилой человек, служивший когда-то в военной службе: – эти церковные водосточные трубы выбрасывают тебе на голову расплавленный свинец не хуже бойниц Лектура.
– А видите ли вы вон того дьявола, который то и дело мелькает перед огнем? – воскликнул цыганский староста.
– Да это, черт побери, проклятый звонарь, это Квазимодо! – сказал Клопен.
– А я вам говорю, – настаивал старый цыган, пожимая плечами: – что это нечистый дух, демон фортификаций. У него львиная голова, а телом своим он напоминает солдата во всеоружии. Иногда он ездит верхом на безобразной лошади. Он превращает людей в камни и строит из них башни. Он имеет у себя под начальством пятьдесят легионов духов. Не подлежит ни малейшему сомнению, – это он. Я узнаю его. Иногда он бывает одет в красивое платье из золотой парчи, с турецкими узорами.
– А где же Бельвинь-де-Л'Этуаль? – спросил Клопен.
– Его убили, ответила одна из цыганок.
– Значит, собор Богоматери взялся исполнять дело больницы, – заметил Андрей Рыжий, глупо рассмеявшись.
– Неужели же нет никакой возможности выломать эту глупую дверь! – воскликнул Тунский король, топнув ногою. Но цыганский староста с печальным взором указал ему глазами на два потока расплавленного свинца, не перестававшие течь вниз по черному фасаду, оставляя на нем след, напоминавший собою, своею формой, два длинных фосфорических веретена.
– Да, бывали примеры тому, – произнес он, вздохнув, – что церкви таким образом защищались сами собою. Так, собор св. Софии в Константинополе, сорок лет тому назад, три раза кряду сбрасывал с себя полулуние Магомета, потрясая своими куполами, которые заменяют ему головы. А Гильом, епископ парижский, построивший этот собор, был великий чародей.
– Но неужто ж нам так и уходить, точно несолено хлебавши! – воскликнул Клопен, – и оставить там сестру нашу, которую эти волки в митрах непременно повесят завтра?
– Да в придачу к ней еще все это золото и серебро! – прибавил один почтенный разбойник, имя которого, к сожалению, осталось нам неизвестно.
– Черти бы их побрали! – воскликнул Трульефу.
– Попытаемся еще раз, – предложил разбойник.
– Нет, все равно нам в двери не попасть! заметил Матвей Гуниади, качая головою. – Нужно поискать какой-нибудь другой лазейки, какого-нибудь стыка, подземного хода, отверстия…
– Ну, это пускай делает, кто хочет, – ответил Клопен, – а с меня довольно. А кстати, где же этот маленький школяр Жан, который так основательно вооружился?
– Должно быть, он убить, – ответил кто-то, по крайней мере, уже неслышно его смеха.
– Жаль, – заметил Тунский король, наморщив брови: – он был, кажется, не из трусливых. А Пьер Гренгуар?
– Тот удрал еще в то время, как мы только что дошли до моста Менял, капитан Клопен, – ответил Андрей Рыжий.
– Экий подлец! – воскликнул Клопен, топнув ногой, – он же подбил нас на это дело и он бежал от нас еще до начала дела! Негодный болтун! Старый бабий башмак!
– Посмотрите-ка, капитан, – продолжал Андрей, глядя по направлению Папертной улицы, вон он, школяр наш.
– Слава Плутону! – сказал Клопен, – но что это такое он тащит за собою?..
Действительно, это был Жан, бежавший так скоро, как только позволяло ему его тяжелое рыцарское вооружение и длинная лестница, которую он волочил за собою по мостовой, и которая придавала ему большое сходство с муравьем, тащащим соломинку в двадцать раз более длинную, чем он сам.
– Победа! Слава Богу! – кричал экс-школяр. – Я притащил лестницу разгрузчиков с моста Сен-Ландри! – На что тебе эта лестница, малыш? – спросил Клопен, приближаясь к нему.
– Вот она! – повторял Жан, весь запыхавшись. Я знал, где ее найти: под навесом дома полицейского поручика. Там еще живет знакомая мне девушка, находящая меня красивым, как купидон. Я обратился к ней по старому знакомству, и вот с ее помощью добыл эту лестницу. Бедняжка! Она вышла отворять мне дверь в одной сорочке.
– Все это хорошо, – сказал Клопен, – но объясни мне ради Бога, на что тебе эта лестница?
Жан взглянул на него с видом умственного превосходства и прищелкнул пальцами, точно кастаньетами. Он был просто величествен в эту минуту. На голове его был надет один из тех чудовищных шлемов XV-го века, которые пугали неприятеля своими несообразными нашлемниками. Шлем Жана был украшен десятью железными клювами, так что Жан с успехом мог бы оспаривать страшный эпитет «десятиклювный» у гомерического судна Нестора.
– На что она мне, вельможный король Тунский? А видите ли вы этот ряд статуй, с такими дурацкими рожами, вон там, над тремя дверьми?
– Да, вижу. Но что ж из этого?
– Это галерея французских королей.
– Ну, так мне то что до этого за дело? – спросил Клопен.
– Да, постойте же. В конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Так вот, с помощью этой лестницы, я взлезу на галерею и проберусь в церковь.
– Дельно, малыш. Только дай мне взобраться первому.
– Не-ет, товарищ! Ведь мысль эта принадлежит мне. Вы можете влезать вторым.
– С ума ты сошел! – воскликнул недовольным голосом Клопен. – Я не желаю быть вторым!
– В таком случае, Клопен, сам поищи лестницу. И Жан пустился бежать по площади со своей лестницей, крича:
– За мною, друзья!..
В одну минуту лестница была поднята и прислонена к перилам нижней галереи, над одною из боковых дверей. Толпа разбойников, с громкими кликами, толпилась внизу, желая подняться по ней. Но Жан энергически отстаивал свои права и первым сталь взбираться на нее. Восхождение это продолжалось довольно долго. Галерея французских королей находится в настоящее время футов на шестьдесят над главным крыльцом, а одиннадцать ступенек крыльца еще более возвышали ее. Жан поднимался довольно медленно, так как ему мешало тяжелое вооружение его, одной рукой придерживаясь за перекладины лестницы, а в другой держа свой самострел. Поднявшись приблизительно до половины лестницы, он окинул меланхолическим взором несчастных убитых, трупы которых лежали распростертыми на ступеньках подъезда.
– Увы! – проговорил он про себя: – вот груда трупов, достойная пятой песни «Илиады». – И затем он продолжал подниматься, а несколько других разбойников следовали за ним. На каждой из ступенек было их по одному. При виде снизу, в потемках, этой волнообразной линии покрытых кольчугами спин, можно было бы подумать, что видишь змею со стальной чешуей, ползущую на церковь, а иллюзию эту довершал Жан, поднимавшийся, посвистывая, впереди всех.
Наконец, школяр наш добрался до балюстрады галереи и без особого труда перелез через нее при Громких рукоплесканиях всей толпы. Овладев таким образом неприступной цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же остановился, как окаменелый: он только что заметил, позади статуи одного из королей, Квазимодо, спрятавшегося в потемках, и глаз которого сверкал. Прежде, чем следующий штурмующий мог ступить на галерею, страшный горбун подскочил к лестнице, не произнося ни единого слова, схватил верхний конец ее своими мощными руками, оттолкнул его от стены, раскачал ее, при криках ужаса занимавших лестницу разбойников, и затем, с сверхъестественной силой, швырнул длинную, усеянную людьми лестницу на средину площади. Наступил такой момент, когда даже наиболее решительные вздрогнули. Оттолкнутая назад лестница стояла одну секунду прямо, как-бы колеблясь, затем зашаталась на месте, й, наконец, описав страшную дугу, радиус которой составлял не менее 80 футов, грохнулась на мостовую с своим грузом разбойников, и все это совершилось с большей быстротой, чем с какою опускается подъемный мост, цепи которого лопнули. Раздался страшный вопль, затем все факелы разом погасли, и несколько несчастных искалеченных стали выползать из-под груды мертвецов.
Крики отчаяния и боли сменили в рядах осаждающих первые возгласы торжества, а тем временем Квазимодо, невозмутимый, опершись обоими локтями на решетку, смотрел на то, что происходило у ног его, напоминая собою старого, косматого владетеля замка, смотрящего с высоты своей башни на отраженный неприятельский приступ.
Жан Фролло оказался в очень критическом положении: он очутился на галерее один, отделенный от своих товарищей совершенно вертикальной стеной в 80 футов вышины, с глазу-на-глаз с страшным звонарем. Однако, он не растерялся и, пока Квазимодо занят был лестницей, кинулся было к двери, ведущей на лестницу колокольни, в надежде найти ее открытой. Но он ошибся: звонарь, взойдя на галерею, запер ее за собою. Тогда Жан спрятался за каменную статую одного из королей, не смея перевести дыхание, устремив на чудовищного горбуна растерянный взор и напоминая собою того человека, который, ухаживая за женою одного сторожа при зверинце, однажды вечером отправился на любовное свидание, но перелез не через тот забор и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем.
В первые минуты глухой не обратил на него внимания; но, наконец, он обернулся и выпрямился, заметив забравшегося за статую школяра. Жан ожидал, что звонарь сейчас же ринется на него, но тот оставался неподвижен, уставив свой единственный глаз на молодого сорванца.
– Ну, чего ты так уставил на меня свой кривой глаз? – спросил Жан и вместе с тем стал направлять на Квазимодо свой самострел. – А вот, Квазимодо, – воскликнул он, – я сейчас изменю твое прозвище: теперь тебя уже не будут называть кривым, а слепым.
Он выстрелил. Крылатая стрела, просвистев на воздухе, вонзилась в левую руку горбуна. Но Квазимодо не обратил на нее большого внимания, чем на простую царапину. Он вытащил правой рукой стрелу из своей левой руки и спокойно переломил ее о колено. Затем он скорее уронил, чем бросил на каменный пол обломки ее. Жан не успел выстрелить во второй раз: разломав стрелу, Квазимодо засопел, подпрыгнул, точно сверчок, и ринулся на школяра, кольчуга которого сразу расплюснулась об стену. И затем среди царившего на галерее полумрака, при тусклом свете факелов, разыгралась страшная сцена.
Квазимодо левой рукою схватил Жана за обе руки; последний даже не старался отбиваться: до того он сознавал себя погибшим. Правой же рукой он стал снимать одну за другою, молча, с страшной методичностью, все принадлежности его вооружения – меч, кинжал, шлем, латы, наручники, очень напоминая собою обезьяну, очищающую орех. Квазимодо бросил на пол, один за другим, куски железной скорлупы школяра.
Когда Жан увидел себя обезоруженным, раздетым, слабым, полунагим в этих страшных руках, он даже и не пытался говорить с этим глухарем, а начал смеяться ему в лицо и принялся напевать, с беззаботной смелостью 16-ти летнего мальчика, довольно популярную в то время песенку, начинавшуюся словами: «Порядком таки ощипан город Камбрэ. Его ограбил Марафен».
Но Квазимодо не дал ему докончить песни. Секунду спустя снизу можно было видеть, как звонарь, стоя на галерее, держал одною рукою школяра за обе ноги и размахивал им над пропастью, точно пращою. Затем раздался какой-то глухой звук, точно от ящика с костями, ударившегося об стену, и сверху полетело что-то остановившееся приблизительно на одной трети высоты колокольни, зацепившись за один из выступов ее: на стене остался висеть бездыханный труп, с размозженным черепом, с переломанными членами, перегнувшийся как-то пополам.
Крик ужаса раздался среди разбойников.
– Мщение! – вопил Клопен.
– Разнести церковь! – вторила ему толпа. – На приступ, на приступ!
И затем раздался невообразимый гам, в котором слились всевозможные наречия, жаргоны, произношения.
Смерть бедного школяра озлобила эту толпу. К тому же ей стало стыдно за то, что ее так долго задерживает перед церковью какой-то горбун. Она разыскала новые лестницы, зажгла факелы, и по прошествии нескольких минут растерянный Квазимодо увидел этот ужасный муравейник ползущим по всем стенам собора. Те, которым не хватило лестниц, взлезали по веревкам с узлами, те у которых не было веревок, с узлами карабкались, цепляясь за статуи и за полы лиц, бывших впереди. Не было никакой возможности противостоять этому все выше и выше поднимавшемуся приливу страшных физиономий. Ярость заставляла сверкать глаза этих свирепых лиц, на загорелых лицах выступил пот, и все это ползло прямо на Квазимодо. Точно какой-то другой мир чудовищ выслал против стоявших на галерее собора чудовищ свою безобразную рать, и последняя затопляла первые.
Тем временем папертная площадка осветилась огнями тысячей факелов. Эта беспорядочная сцена, до сих пор окутанная глубоким мраком, вдруг озарилась ярким пламенем. Вся площадка горела огнями, отражавшимися красным заревом на небе. Костер, разведенный на верхней площадке, также продолжал гореть и освещал город на далекое расстояние, причем громадные силуэты обеих колоколен, возвышавшихся над парижскими стенами, выделялись на этом ярком фоне двумя громадными тенями. Теперь, казалось, и город обратил внимание на то, что происходило возле собора, – по крайней мере, издали доносился гул набата. Разбойники, запыхавшись и ругаясь, продолжали лезть кверху, и Квазимодо, сознавая свое бессилие против такого превосходства сил, дрожал за цыганку при виде этих разъяренных физиономий, все ближе и ближе приближающихся к галерее, просил у неба какого-либо чуда и в отчаянии ломал себе руки.