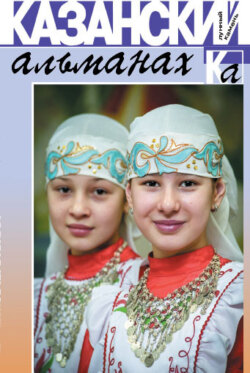Читать книгу Казанский альманах 2020. Лунный камень - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 6
Эхо Великой Отечественной. 75
Ольга Ефимова
Неистовый Тёмин
(очерк)
ОглавлениеВиктор Тёмин. 1945
Они создавали фотолетопись нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Они оказывались в числе первых с теми, кто освобождал осаждённые города, брал приступом извергавшиеся смертоносным огнём крепости и здания. В землянках, на полях сражения, на бортах самолётов и танков – повсюду они были со своими боевыми соратниками «фэдом» или «лейкой». Это военные фотокорреспонденты, чей подвиг мог кому-то казаться не столь заметным, незначительным, а ведь ради единственного снимка они порой отдавали свою жизнь. Сегодня мы можем видеть историю их глазами, знаменитые события и героев войны, благодаря их фотографиям…
Виктор Антонович Тёмин (1908–1987) – легендарный военный фотокорреспондент, первым сфотографировавший Знамя Победы над Рейхстагом. Уникальный снимок был напечатан уже на другой день, 2 мая 1945 года, в газете «Правда», а затем широко опубликован газетами и журналами десятка стран мира.
А начинал свою журналистскую карьеру Виктор Тёмин в Казани, в газете «Известия ТатЦИКа» в 1922 году. Для подростка, родившегося в семье священнослужителя в Царёвококшайске (ныне Йошкар-Ола), увлечение фотографией казалось странным и нелогичным, но именно оно стало любовью всей его жизни.
Знамя Победы над Рейхстагом
Свой первый снимок Тёмин сделал в Мензелинске, когда ещё учился в школе. Так и пошёл он по жизни с фотоаппаратом в руках. В 1929 году Виктор получил задание от газеты «Красная Татария» («Известия ТатЦИКа» переименовали в «Красную Татарию») сфотографировать самого Максима Горького, который по приезде в любимую Казань посетил и редакцию газеты. Желая поддержать увлечённого своим делом молодого человека, знаменитый Буревестник подарил ему «лейку», немецкий портативный фотоаппарат Leicа. С ним Тёмин не расставался долгие годы. И уже по заданию московской газеты «Правда» его объектив запечатлел и знаменитых папанинцев, и военный конфликт на озере Хасан и реке Халхин-Гол, и финскую войну.
В 1941 году Виктор Тёмин ушёл на фронт сразу после объявления войны и прошёл её до самого победного конца, до Нюрнбергского процесса. И воевал он, как всегда, со своей неразлучной «лейкой», сделав сотни фотографий, остановив мгновения выдающихся событий. Но самой известной его работой считается снимок «Знамя Победы над Рейхстагом».
История, связанная с этим снимком, увлекательна, поразительна и разноречива. Во многих источниках её трактуют по-своему, и, пожалуй, это свойство неординарного происшествия обрастать домыслами и становиться легендой ещё при жизни героя. А мы изложим версию, рассказанную самим Виктором Антоновичем, хотя, по словам писателя Юрия Гладкова, бравшего у него интервью, наш герой был скуп на подробности и больше за него говорили его жена и дочь.
Вот как это происходило по их общему рассказу. В Берлин капитан Тёмин ворвался на танке Т-34. Экипаж вынужден был взять настырного фотокора, который воспользовался вещью почти магической – пропуском за личной подписью Сталина.
Ответчики при вынесении приговора на Нюрнбергском процессе
Надо заметить, что Виктор Антонович, получивший у коллег прозвище «Неистовый Витя», беззастенчиво пользовался этой волшебной бумагой, чтобы оказываться в самых горячих точках фронта. Уличные бои в Берлине он снимал в числе первых, но и на том не унялся. Все ждали долгожданного известия о водружении Знамени Победы над Рейхстагом. Сообщение пришло ночью 30 апреля, когда снять символ Победы не было никакой возможности. И с рассветом 1 мая капитан Тёмин бросился на аэродром и завладел личным самолётом маршала Жукова По-2, уломав лётчика – младшего лейтенанта Ивана Вештака (по некоторым сведениям, Ветшака) посредством всё того же магического пропуска. Впрочем, азарт и желание увидеть наше знамя на Рейхстаге овладело на тот момент обоими – и фотокором, и лётчиком.
Увы, при подлёте к Рейхстагу их ждало разочарование, из-за множественных пожаров и беспрерывной стрельбы дым застилал почти всё огромное здание. Самолёт дрожал от близких разрывов снарядов и едва смог сделать круг на значительном расстоянии от купола. Тёмину удалось щёлкнуть «лейкой» лишь три раза, а с земли уже доносился яростный приказ: «Немедленно возвращайтесь! Трибунал!» Тёмина с Вештаком после посадки самолёта сразу арестовали. Фотокор едва успел передать авиатехнику кассету с запиской, кому её переслать.
Тёмин (слева) с коллегами – военными корреспондентами
Кем в этом случае плёнка была оперативно доставлена в Москву, Виктор Антонович так и не поведал Гладкову. Но существует ещё одна, вполне правдоподобная версия о доставке материала в редакцию «Правды», рассказанная самим Неистовым Витей. И вот что писал по этому поводу журнал «Международная жизнь»: «Выбраться из Берлина было очень сложно, предстояла пересадка на ночной бомбардировщик в Польше. Но случилось непредвиденное. Чтобы не терять времени на посадку и новый взлёт, Тёмин по рации стал запрашивать разрешение на прямой полёт до Москвы. Ответа не было. Тогда он принял командование на себя. Чтобы перелететь границу Советского Союза, нужно было ракетами сообщить зенитчикам пароль, который менялся ежедневно, естественно, лётчик его не знал. С борта По-2 Тёмин отправляет радиограмму в ставку Верховного Главнокомандующего о том, что везёт важные документы о взятии Берлина и просит пропустить самолёт через границу. Но приказ пришёл слишком поздно. Когда самолёт приземлился, на нём насчитали 62 пулевые пробоины. Как он вообще долетел с такими повреждениями, осталось загадкой».
Наутро 2 мая «Правда» вышла с уникальным снимком. Знамя Победы красовалось на первой полосе газеты рядом с приказом Сталина о взятии Берлина. 3 мая капитан Тёмин на самолёте отправился обратно в Берлин с драгоценным грузом – тысячами экземпляров «Правды». Лондонское радио с удивлением сообщало, что русские уже печатают свою газету в Берлине. Они даже не могли предположить, что материал мог быть так оперативно доставлен в Москву и отпечатан там.
Позже в своих воспоминаниях Тёмин писал: «Я думал, что мой полёт уже забыт, но оказалось, что нет. Главный редактор газеты сообщил мне, что Жуков велел расстрелять меня за такое самовольство. Зная крутой нрав Георгия Константиновича, я порядком струсил. Мы встречались с ним на Халхин-Голе, поэтому рискнул поговорить с ним раньше, чем меня арестуют. Жуков принял меня. А я без слов положил перед ним газету «Правда» с моим снимком. Когда Жуков увидел фотографию, лицо его просветлело. «За такую работу ты достоин звания Героя Советского Союза, – сказал он. – Но за то, что угнал самолёт, получишь орден Красной Звезды».
Кстати, во время интервью Тёмин, по словам Гладкова, признался, что флаг на его фотографии дорисовали ретушёры. На снимке он по неизвестным причинам не был виден, и художник-ретушёр постарался – поместил его на самом видном месте, только не рассчитал параметры, сделав его гораздо больше настоящего. А уже после был сделан постановочный снимок Евгения Халдея, на котором знаменитый Кантария укрепляет Знамя Победы на куполе Рейхстага. Но разве может постановочный снимок сравниться с «правдой войны», с тем самым кадром, сделанным капитаном Тёминым через несколько часов после героического водружения Знамени.
Подписание акта капитуляции Японии на американском линкоре «Миссури»
Неистовый Витя отличался от многих коллег по цеху. Это отмечал и легендарный генерал-майор Давид Ортенберг, бывший ответственным редактором «Красной звезды». У него в редакции работали знаменитые писатели и публицисты, среди них Михаил Шолохов, Константин Симонов, Василий Гроссман, Алексей Толстой и не менее опытные и выдающиеся фотокоры. Однако генерал предпочитал брать с собой во фронтовые командировки именно Тёмина, работавшего в газете «Правда».
Вот как он рассказывал о Викторе Антоновиче в своих «Воспоминаниях»: «Отправился я в Краснодар со своим неизменным спутником – фотокорреспондентом Виктором Тёминым. <…> Пробираться в дивизию надо было тропками и дорожками, которые отчётливо были видны в перекрестии стереотруб и в бинокль неприятелем. Солдатский юмор окрестил эти дорожки названиями: «Пойдёшь – не пройдёшь», «Ползи брюхом», «Пропащая душа» и т. п. Под огнём миномётов и бомбардировщиков нам не раз приходилось прижиматься к матушке-земле. А Тёмин, который всегда был рад запечатлеть своё начальство в неудобных позах, сделал несколько такого рода снимков Леселидзе (в то время командующего 18-й армии Закавказского фронта), Гречкина (командующего десантной группой войск 18-й армии) и меня…»
Вот так вот под градом пуль фотокорреспондент Тёмин делал правдивые снимки без прикрас, не боясь начальственного гнева и не теряя чувства юмора.
Тему Великой Отечественной войны фотокор Тёмин закрыл своими работами на Нюрнбергском процессе. Те редкостные фотографии Виктор Антонович в своё время подарил первому секретарю Татарского обкома КПСС Рашиду Мусину. И, по воспоминаниям зятя Мусина, профессора Нефедьева, Рашид Мусинович гордился встречей с Тёминым, ценил знакомство с ним не менее чем, скажем, знакомство с Гагариным.
* * *
С окончанием Великой Отечественной войны не закончилась Вторая мировая война. И хочется тут рассказать ещё об одной знаменательной истории, которая случилась с Виктором Антоновичем.
2 сентября 1945 года. Подписание акта капитуляции Японии. Церемония эта происходила в Токийской бухте на американском линкоре «Миссури», и на ней, кроме высших военных чинов армий союзников присутствовали несколько сотен корреспондентов из разных стран. Среди них и наш Виктор Тёмин. Места для прессы были строго определены, и военную полицию с агентами американских спецслужб, на которых лежала ответственность за безопасность мероприятия, мало волновало, насколько удачны эти места для съёмок. Тогда этот строгий порядок и нарушил лохматый человек, обвешанный фотоаппаратурой, бесцеремонно проталкивавшийся вперёд. Кое-где он прорывал цепь охранения, подкупив американских моряков банками с чёрной икрой, а в стан корреспондентов из американского агентства, занявших наиболее удачные места, проник с помощью бутылки русской водки. Наш Неистовый Витя руководствовался лишь одним правилом – ему необходимо было сделать наиболее удачный снимок, а какими путями это достигалось, его не интересовало.
Иного мнения придерживались распорядители важного мероприятия, и к Тёмину подошли два американских офицера с требованием вернуться на своё место. Виктор Антонович возмутился, почему, мол, американской прессе можно находиться на этой удобной для съёмок площадке, а советскому фотокору нельзя. На что получил ответ вполне в духе американцев: «Это агентство заплатило 10 000 долларов за место, а вы, если не удалитесь, будете выброшены за борт!» Дело принимало такой оборот, что наш фотокорреспондент рисковал искупаться в водах Токийского залива и упустить исторический момент. Правда, на борту находился ещё один его коллега по цеху – Петров, который наотрез отказался участвовать в авантюре Тёмина и остался на том самом неудобном пятачке, отведённом советской прессе. Какие снимки мог сделать Петров из-за спин десятков других репортёров, нетрудно было догадаться.
Тёмин спорил, тянул время, мучительно ища выход из положения, как вдруг увидел нашу делегацию, поднимавшуюся на борт, во главе с генерал-лейтенантом Деревянко, с которым был знаком. Виктор бросился к нему и, пристроившись рядом, зашептал:
– Кузьма Николаевич, мне не дают места, съёмка обречена на провал.
– Следуйте за мной, – не оборачиваясь, приказал Деревянко.
Офицеры бросились наперерез нарушителю спокойствия, но советский генерал уже представлял Тёмина американскому генералу Макартуру как специального фотографа Сталина. Имя Сталина возымело своё действие, и Макартур предложил фотокорреспонденту встать на любое удобное место. Он не мог себе даже представить, что это будет за место! Тёмин взобрался на ствол корабельного орудия и стал подползать по нему ближе, нацеливаясь объективом на стол с разложенными документами. Не прошло и минуты, как он свалился на этот самый стол, не удержавшись на орудии. Рассвирепевшие охранники схватили Неистового Витю за руки за ноги и хотели выбросить за борт вместе с аппаратурой, но вновь вмешался Деревянко. В результате исторический кадр, как генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко последним поставил подпись под актом безоговорочной капитуляции Японии, был заснят. Вторая мировая война закончилась!
Борис Полевой позже писал в «Нюрнбергских дневниках»: «Тёмин, единственный из фотокорреспондентов <…> почти в упор снял подписание Акта о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури», хотя за это чуть было не был сброшен за борт американскими офицерами. Он рисковал искупаться в океане вместе с аппаратурой, зато потом его снимок обошёл всю прессу». Это действительно оказался практически самый удачный снимок того дня, напечатанный в газете «Правда», а после он вошёл во все военные сборники и в один из томов «Великой Отечественной войны».
За своё самоотверженное служение Родине, высокий профессионализм и оперативность фотокорреспондент Виктор Антонович Тёмин был награждён тремя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. В мирное время он продолжал заниматься любимым делом, работая в газетах и журналах. В течение 35 лет регулярно снимал писателя Михаила Шолохова. В Казани, где так удачно начиналась его карьера, Тёмин побывал в 1967 году. С человеком-легендой хотели пообщаться многие, но в Доме печати на улице Баумана собрались и те, кто знал Виктора Антоновича лично. Один из участников этого мероприятия, журналист Юрий Фролов вспоминал, что на официальной части встречи Тёмин показал около сотни своих снимков, но после, в узком кругу, вынул снимки «не для печати», то, что не прошло по цензуре или иным соображениям. С этими снимками оказалось связано множество занимательных историй, которыми Виктор Антонович с удовольствием поделился.
Вот таким был Виктор Антонович Тёмин! Простым в общении, не зазнавшимся от общения с сильными мира сего, человеком-легендой, настоящим профессионалом! Коллеги давали ему прозвища одно звучнее другого: «Ртуть», «Вездесущий», «Король фоторепортажа», «Неистовый Витя». Ему удалось выжить на полях сражений, хотя он никогда не прятался, не отсиживался в окопах. Десятки его соратников по фотоделу и перу сложили головы на этой войне, в опасных ситуациях им нечем было защитить себя, ведь их оружием был блокнот с карандашом и объектив фотоаппарата. Мы, их потомки, видим те исторические события глазами ушедших кинооператоров и фотокорреспондентов. За четыре года они сделали сотни тысяч фотоснимков и отсняли три с половиной миллиона метров киноплёнки. Десятки тысяч лиц запечатлела кино- и фотолетопись войны, и вечно живыми остались люди, не вернувшиеся домой.