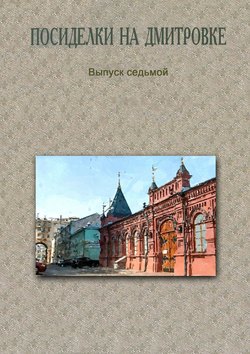Читать книгу Посиделки на Дмитровке. Выпуск седьмой - Коллектив авторов - Страница 3
Ирина САПОЖНИКОВА
Одна хорошая квартира
Документальная повесть. Дается в авторском сокращении
ОглавлениеМосква, Центр – мое вечное место жительства. Когда мне доводится проходить мимо дома №6 на Тверской, я обязательно делаю несколько шагов под арку к «пряничному» дому во дворе, где жила моя подруга Светлана Орлова, и смотрю на окно на последнем этаже слева от центрального подъезда. Чего я ищу? Что значат для меня этот дом и та квартира за окном, давно отошедшая к чужим людям, и кто я для этого кусочка московской земли? Попробую рассказать, может быть, получится.
1. Мое раннее детство прошло в переулках между улицами Пушкинской (Б. Дмитровка) и Петровкой. В Дмитровском переулке я жила, на улице Москвина (Петровский переулок) стояла школа №635, в которую я пошла учиться. Естественно, что параллельные Столешников переулок и Кузнецкий мост были тоже включены в орбиту первых самостоятельных перемещений. Позднее мы переехали на улицу Герцена (Б. Никитская) и тогда нашими стали все улицы и переулки – от Петровки до Воздвиженки. Мы носились по ним стайками (командами), честно оставляя позади себя меловые стрелки, чтобы «противник» мог вычислить нас и настигнуть в каком-нибудь проходном дворе.
Пионерское воспитание я получила в 635-ой школе. Бесконечные сборы отрядов под дробь барабанов и звонкое пение пионерских песен, чтение патриотических стихов, дежурство под салютом около бюстов Ленина и Сталина были законной и едва ли не главной составляющей нашего начального образования. Отряды входили в зал в порядке успехов в учебе и общественной работе под пение «присвоенных» им пионерских маршей: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы, пионеры – дети рабочих» или «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». Детские сердца замирали, а потом учащенно бились от патриотического восторга. Под взглядами старшей пионервожатой Моти все отряды выглядели образцово-показательными, но мне запомнилась одна девочка, часто нарушавшая порядок равнения, так как невольно толкалась в строю и смеялась лучистыми синими глазами. Это была Светлана Орлова, хотя я не уверена, что тогда точно знала ее имя и фамилию, так как она училась на класс выше. Торжественные сборы, к которым неделями готовились всей школой, проводили на революционные праздники и памятные дни, методичной чередой проходившие через наше сознание – Седьмое ноября, Пятое декабря, Двадцать третье декабря, Двадцать первое января, Восьмое марта, Двадцать второе апреля, Первое мая – и так от начала до конца учебного года. Может, именно потому от тех времен осталось ощущение, что жизнь – праздник.
2. Мои родители никак не реагировали на пионерский восторг своих детей (старшая сестра училась в той же школе). Свою задачу они видели в том, чтобы вовремя купить новый галстук, выгладить белый фартук, выдать требуемые школой деньги. Мой отец имел склонность к рисованию и музыке, но судьба (Октябрьская революция, социальное происхождение) позволила ему получить только инженерно-техническое образование. Он сутками напряженно и опасно работал беспартийным начальником в должности главного энергетика Московской государственной консерватории – уходил из дома рано, а возвращался поздно, и у него не было времени на наше воспитание. После того, как мы переехали с Дмитровки в правое жилое крыло Консерватории, понятия «дом – работа» стали для отца совершенно размытыми. Мы часто прибегали к нему в кабинет с проблемами или в Большой зал послушать музыку. Отец любил классическую музыку, класссический театр, традиционную живопись. Еще он любил природу, но не как зоолог или ботаник, а исключительно как художник. Он постоянно останавливался, не важно, где – на лугу или в городской толкучке, и обращался к нам: «Посмотрите, как красиво освещен коровник», или «как блестит лужа посреди мостовой», или «как воробей сидит на фонаре перед входом в Большой зал»; и еще много, много всего, только успевай оборачиваться и смотреть. Иногда, наоборот, он говорил: «Как некрасиво!», если наше, детей, поведение того стоило. Но это бывало редко, так как тут он вступал на «материнское поле».
Можно сказать, что моя мама положила всю себя полностью, все, что у нее было – красоту, молодость, здоровье, силы, образование, в конечном итоге жизнь – на алтарь безумного беспокойства за своих детей. Она происходила из старообрядческой семьи, но в отличие от своих родителей, не была ни религиозной, ни верующей, тем не менее дореволюционный уклад и консервативный образ мыслей существовал в ней, кажется, на генетическом уровне. Мы, дети, жили в системе запретов. Нельзя было ничего – поздно выходить из дому, знакомиться и есть на улице, опаздывать, ходить к подругам, громко разговаривать, тем более, смеяться, перебивать взрослых, приводить в дом кого-либо без разрешения, быстро есть за столом, трогать не свои вещи. Дальше перечислять нет смысла, легче назвать разрешенные действия: хорошо учиться, помогать по дому – мыть полы, посуду, вытирать пыль, покупать продукты, а в свободное время – читать художественную литературу. В кино желательно не ходить (лучше в театр). Даже спорт мама считала не очень приличным занятием – боялась дурного влияния беспризорников, которые, как ей казалось, только одни и ходят в спортивные залы. Мамы давно нет, а я все еще вижу ее уничижительный взгляд и слышу: «Как неприлично, это просто неприлично», или: «Как ты не понимаешь, это не-при-лич-но!». Мама хорошо разбиралась в людях, большинства сторонилась, по отношению к другим проявляла тонкую деликатность. Себе она позволяла отступления от установленных для нас законов приличия, а на замечания отвечала жестко и коротко: «Яйца курицу не учат», таким образом, ставя стенку, проводя демаркационную линию – как хотите – между народами, называемыми детьми и взрослыми. С этим багажом материнского авторитаризма, с одной стороны, и отцовской любви к искусствам и творчеству – с другой, я окончила школу и подошла к опасному возрасту совершеннолетия.
Отец считал, что в Москве существуют только три ВУЗа: Консерватория, Архитектурный институт и Университет. Выбирай факультет в университете – и вперед! Я выбрала химический не без подсказки родственников – тогда у химии наметилось будущее лет на двадцать-тридцать вперед. Помните, хрущевское «…плюс химизация всей страны!».
3. Когда я появилась в группе на химическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова, первое, что обнаружила – это знакомое с детства лицо Светланы Орловой из 635-ой школы. Сама я заканчивала бывшую мужскую 170-ю школу, расположенную в том же дворе, но за высоченным забором, разделившим, как оказалось, не навсегда, детей пополам. Визуально мы были знакомы (детская память крепка), и это позволило нам мгновенно сблизиться. С нами оказались воспоминания о пионерском детстве, общих знакомых. При одном упоминании имени нашей старшей пионервожатой Моти (подхалимы звали ее Мотенька) наши рты расплывались до ушей от предвкушения будущего злословия. Мы с Орловой были обе по-настоящему влюблены в Галину Васильевну Клокову, учительницу истории, послужившую, кстати, прообразом героя В. Тихонова в фильме «Доживем до понедельника», снятого по сценарию Г. Полонского – школьного друга Светланы. Галина Васильевна была классным руководителем сначала у меня в пятом и шестом классах, а потом у Светланы – с восьмого по десятый. Общими были наши переулки и дворы, где жили школьные друзья, любимые магазины канцелярских принадлежностей на Пушкинской и в Столешниковом. Наконец, мы обе учились и закончили две из небольшого числа, может быть, самых элитных школ, имевшихся тогда в Москве. Наши школы, как «Гарвард» или «Оксфорд», были невольными источниками нашего единомыслия. Только одна начинала фразу, другой становилась понятной мысль – и серьезная, и юмор. Легкость, простота и интерес к взаимному общению сделали нас неразлучными.
Возвращаясь из университета, мы выходили обычно на конечной остановке 111-го автобуса, курсировавшего между МГУ и площадью Революции. Мне следовало бы выходить на одну раньше, у Манежа, но Светка меня не отпускала, да и мне не хотелось так быстро расставаться. Мы поднимались по улице Горького до арки почти напротив Телеграфа, за которой находился ее дом, затем долго прощались. Светка убегала по ступенькам своего «пряничного» дома в подъезд, а я переходила на другую сторону Горького и почти бегом, наверстывая время, двигалась по Брюсову переулку на Герцена, мимо театра Маяковского – домой.
Часто в длинных беседах у подъезда Света рассказывала мне о своем доме – она живет в большой квартире с бабушкой, дедушкой, мамой, отчимом и сестрой-школьницей. Мама – критик, американист, работает в журнале «Иностранная литература». Отец – поэт, погиб на войне. Они учились вместе с мамой сначала в одной школе, все в той же 635-ой, потом в Институте философии и литературы. «Отчим – Лева, Лев Зиновьевич Копелев – потрясающий человек!» – так, исключительно в восклицательной форме, говорила о нем Светлана, делая ударение на слове «потрясающий». «Лева недавно вернулся из лагерной ссылки, у них с мамой большая любовь. Лева – крупный, красивый, невероятно образованный и умный. Он говорит примерно на пятнадцати языках, многие выучил в неволе. Его специальность – немецкий язык и литература – он переводчик, критик, литературовед». От Светланы я узнала, что в конце войны Лев Копелев входил в состав разведгруппы в качестве парламентера, двигался впереди наших войск, агитируя немцев сдаваться без боя. За взятие нашими войсками на полторы недели раньше намеченного срока без кровопролития крепости Грауденц в Восточной Пруссии майор Копелев был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени. Одновременно Лева выступал против грабежей и насилия, и вскоре после войны его посадили за «буржуазный гуманизм». Тюрьмы и лагеря забрали десять лет из отпущенной ему жизни – последние три года провел на «шарашке» вместе с А. И. Солженицыным, с которым был в ту пору дружен. С Левы Солженицын писал образ Рубина в романе «В круге первом».
Копелев вышел на свободу, сохранив веру в коммунистические идеалы. Я узнала все это о Леве до того, как познакомилась с ним лично, получила от Орловой восторженную готовую характеристику: Лева – потрясающий! – поверила ей на слово, и, что интересно, в дальнейшем у меня не было случая усомниться в правильности ее слов.
Однажды Светлана предложила подняться в квартиру и там доразговаривать. Я согласилась, хотя было уже около десяти вечера и рефлекторно щелкнуло: «Неприлично». Двадцать шагов под арку – и мы в подъезде задвинутого во двор старомосковского дома, типичного отсутствием лифта, огромностью лестничных площадок и бесконечностью маршей полувинтовых лестниц между этажами. Четвертый этаж оказался Монбланом, но нам по молодости он покорился без труда. С правой стороны огромная черная дверь квартиры №201 и рядом с ней такое же огромное окно, выходящее из квартиры на лестничную площадку и потому закрашенное снизу. Все, что я запомнила в тот день, это просторная передняя, справа и слева заставленная обувью и завешанная, как говорил в таких случаях мой отец, до аншлага одеждой; при этом оставалось еще много места для одевательно-раздевательных маневров. Двойная стеклянная дверь справа уходила в бесконечный потолок и вела в комнату необозримых размеров. Комната освещалась сверху явно недостаточным количеством ватт, но я заметила в ней массивный буфет, шкаф размером с малогабаритную квартиру и длинный стол со стульями. Около стола большой мужчина, органично вписанный в обстановку, и маленькая изящная женщина разговаривали между собой. Света представила меня. Они легко кивнули не то мне, не то Светке, не прерывая разговора. Мне стало неловко, но Света сразу увела меня в закуток, выгороженный здесь же в большой комнате, называемой в доме столовой. В нем оказалось спальное ложе, застеленное шерстяным пледом. Света зажгла лампочку на стене, принесла чай и сушки. Стало светло и комфортно в Светкином собственном независимом пространстве. В двенадцать часов я выскочила на Горького и побежала по знакомому маршруту домой в Средний Кисловский переулок, куда нас в свое время переселили из Консерватории. В доме круглосуточно дежурила консьержка, и было не страшно возвращаться домой поздно.
В один из следующих заходов в квартиру на Горького я обнаружила, что в столовой на левой стене располагаются два выхода в узкий длинный коридор. Узким он был потому, что в нем вдоль стены, смежной со столовой, расположилось столько вещей, сколько позволено площадью за вычетом прохода для одного человека. Там были стеллажи с книгами и журналами, старые чемоданы, бабушкино зубоврачебное кресло, дополнительные стулья. В коридор выходили двери еще двух комнат: первая почти такая же, как столовая – в ней жили бабушка и дедушка Светланы, другая поменьше, но она была закрыта. Первую комнату в квартире называли «родительской», вторую – «детской». Вспоминая разворачивавшуюся на моих глазах миграцию членов семейства по квартире, понимаю, что такое деление было вполне оправданно. Однажды из передней в коридор через столовую прошагал энергичной походкой невысокий плотный мужчина, не обратив на нас со Светой никакого внимания. Я взглядом спросила: «Кто это?». Света ответила, что Леша, мамин брат, и добавила: «У них там вещи». Я сразу поняла, что речь идет о «детской». Вскоре Раиса Давыдовна и Лева переехали в эту комнату, и столовая оказалась в нашем распоряжении. Но в отсутствие Светкиных родителей мы все чаще оказывались в их «детской» – небольшой, квадратной, с узким итальянским (без переплетов, не считая фрамуги с двумя полуарками) окном. Не помню никакой мебели, кроме раскладывающегося дивана, высокой «хемингуэевки», сделанной на заказ под Левин рост, и подоконника, размер которого позволял быть и столом, и спальным местом. Помню, как Светлана открывала створки окна и ложилась поперек стены – голова свешивалась во двор, ступни оставались в комнате. Мы располагались в «детской» по-хозяйски – залезали с ногами на диван, раскладывали на нем книги и тетради. Обсуждение интегралов и окислительно-восстановительных реакций быстро соскальзывало на проблемы сначала мировые, потом личные.
4. В университете мы перемещались из одной аудитории в другую стайками. В перерывах между занятиями мы либо смеялись, либо пели: «Голубые просторы, голубые просторы, конца края нет; голубые просторы, голубые просторы – хорошо, когда сердцу восемнадцать лет!» (на следующий год пели «девятнадцать»). Мы пели громко, не стесняясь: «Не грусти и не плачь, как царевна Несмеяна – это глупое детство прощается с тобой». Но, кажется, сами не спешили его отпускать, радовались и смеялись, как дети. Смеялись над всем, над всеми и над собой особенно, вполне осознавая себя со стороны.
Я уходила из дома утром, а возвращалась очень поздно, так как почти каждый день заходила в квартиру на Горького. Мама мирилась с этим потому, что я объясняла свое «пропадание» у Орловой то отсутствием лекций, то учебника, то необходимостью заниматься вместе. Если честно, то никаких занятий в ту пору я не помню, но они, наверное, все же были, ибо весеннюю сессию мы сдали на все пятерки. Безумно счастливые, мы со смехом выкатились из-за тяжелых дверей химфака и сбежали по широкой лестнице под песню Окуджавы: «Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста, шофер автобуса – мой лучший друг!». Света поехала в Жуковку, где ее родители снимали дачу, а я с мамой и младшей сестрой – под Днепропетровск опекать старшую сестру, проходившую учебную практику в экспедиции от Географического факультета.
5. У нас было принято звать друг друга «Светка – Ирка». Так меня называли и другие члены семейства – Светкина и Машина мама – Раиса Давыдовна, ее сестра Люся, которую я почти всегда заставала в квартире, Лева и бабушка Сусанна Михайловна. Надо сказать, я долго стеснялась Раисы Давыдовны, просто как матери Светы, экстраполируя на нее свое понимание материнской функции в доме. Когда я видела серьезность или озабоченность на ее лице, то обязательно принимала их на свой счет. С Левой мне было проще с самого начала.
В студенческие годы у меня, как и у Светки, денег никаких не бывало, если не считать, что родители выдавали нам по рублю на обед в университете. При этом мы обе имели пагубную (для рубля) привычку брать такси, не дойдя двух шагов до метро. Если я прокатывала свой рубль, мы ели на Светкин, если она, то на мой. Когда случалось так, что зеленый глаз-искуситель на «Волге» с шашечками лишал нас родительской ренты одновременно, мы выкручивались, как могли, иногда на грани фола: шли в коммунистический буфет (то есть берешь и не платишь) или заходили компанией в свободную аудиторию и Света быстро-быстро выигрывала рубль в преферанс.
Не надо говорить, что, приходя к Орловой, я ничего не приносила съестного, и, несмотря на глубокую убежденность Светланы в моем праве на обед, чувствовала за столом некоторую неловкость. Но главное мое страдание за столом заключалось в том, что я практически не понимала, о чем идет речь. Как будто она велась на иностранном языке. Я казалась себе полной идиоткой и полагала, что остальным тоже.
Прошло какое-то время, прежде чем до меня дошло, что в этом доме никого не бросает в жар от гостей, точнее пришельцев, они приходят к кому-то из членов семьи, не мешают остальным, и за это на них не обращают по пустякам внимания. Садиться за стол большой компанией в этом доме является не просто необходимой традицией литераторов, по большей части работающих дома, но могучей потребностью гостеприимства и общения. Здесь за столом в разное время на моих глазах перебывали многие известные, знаменитые, начинающие писатели и поэты (от Ф. Вигдоровой, В. Пановой до А. Солженицына и от Д. Самойлова до И. Бродского), а также литературоведы, переводчики, критики. Их разговоры часто носили сугубо профессиональный характер и не требовали моего участия в них. Когда я, наконец, поняла, что никто меня не анатомирует, не рассматривает под микроскопом, а воспринимают просто как подругу Светланы, такую, какая есть, – я почувствовала атмосферу дома, и мои комплексы начали улетучиваться.
За обеденным столом никогда не видела меньше десяти человек, а по выходным насчитывала и поболее. Сусанна Михайловна в отсутствие домработницы сама разливает суп, самый обыкновенный, накладывает второе. Света мне как-то говорила, что бабушка, посчитав количество людей за столом, иногда просто добавляет в суп воды, чтобы всем хватило. На второе тоже все очень просто – макароны или картошка с мясом, рыба. Я садилась за этот стол бессчетное число раз – очень хорошо помню огромную алюминиевую кастрюлю и большой половник из нержавеющей стали, помню тарелки и кружки, из которых ели и пили. В доме все было фундаментально, просто и функционально – ни хрусталя, ни серебра – ничего для красоты. Позволю себе сентенцию: человек живет и два-три раза в день ест. Вид накрытого посудой стола представляется мне положительным императивом жизни. Я столько раз видела посуду в квартире на Горького, что она запомнилась мне, как запоминается посуда в собственном доме.
6. Известные люди, «знаменитости» не были для Светки объектами специального интереса или наблюдения, скорее частью того мегаполиса, в котором она жила; в этом мы были с ней похожи, так как я несколько лет жила в правом корпусе Консерватории, и мне практически ежедневно приходилось здороваться с известными всей стране музыкантами.
Однажды мы со Светой не виделись целый день. Вечером она позвонила мне и очень просила побыстрее с нею встретиться. В ту пору за ней ухаживал наш однокурсник из Венгрии. Он ей не слишком нравился, но все равно было что обсудить. Я летела к ней по срочному вызову; взбежала на четвертый этаж, позвонила в дверь. Мне открыла Раиса Давыдовна. Я быстро спросила, где Света и, получив ответ, что на кухне, помчалась туда. Обсудив венгерского друга, мы перешли на другие темы. Света спросила: «Ты видела, кто был в передней, когда вошла?» Я ответила, что никого не видела, кроме Раисы Давыдовны. Светка захохотала: «Вот дура какая, мама с Левой провожали Назыма Хикмета». Ну, да, знаменитый тогда на весь мир турецкий поэт Назым Хикмет, но я ни его, ни Левы не заметила, хотя вдвоем они занимали полпередней.
Среди близких друзей родителей Светланы был известный физик Иван Дмитриевич Рожанский. Он привез из Америки, как теперь бы сказали, систему – большую радиолу величиной с тумбочку для белья и с отличным стереозвучанием. Рожанский устраивал музыкальные «слушания» для друзей. Как-то Света позвонила мне и «велела» срочно собираться – все идут к Рожанским слушать музыку.
Мы встретились с Орловой на улице Герцена, пересекли бульвары у Никитских ворот, сворачивали то налево, то направо и вошли в подъезд (кажется, он находился в Трубниковском переулке). Комната была заполнена людьми, партером устроившимися вокруг полированной коричневой тумбочки. Света бегло перечислила мне гостей и указала на плотного мужчину с крупной головой: «Это гений, Вячеслав Всеволодович Иванов, сын знаменитого пролетарского писателя Всеволода Иванова, но, главное, сам большой ученый, семантик, действительный член академий всего мира, кроме, конечно, отечественной, поскольку выступил в защиту Пастернака». Еще одна готовая характеристика, которую не пришлось пересматривать.
Мы сели со Светой рядом и, выдержав три минуты, начали болтать, прячась за Левиной спиной. Светка не была такой любительницей классической музыки, чтобы высидеть сорок минут на стуле, слушая симфонию Малера, а мне это все в пятистах метрах от консерватории показалось странноватым, и, воспользовавшись каким-то техническим моментом, мы, радостные, выскочили на улицу.
7. Пятого января, несмотря на сессию, морозы и другие катаклизмы, отмечали день Светкиного рождения. В доме любили дни рождения. К ним готовились и хозяева, и гости. Нельзя сказать, что это были пышные или торжественные праздники – неподходящие эпитеты. Просто были не нарушаемые традиции, следуя которым гости и хозяева делали себе Праздник. Во-первых, приходили все, кто считался другом. Народ шел с семи вечера, последний гость мог прийти в одиннадцать. Во-вторых, на столе должно было быть столько еды, чтобы никто не ушел голодным. Покупали много гастрономии, соленостей, делали винегрет, варили картошку. Из глубины большого буфета доставали посуду тридцатых годов – судки, супницы, блюда, тарелки. Откуда-то появлялось нужное количество разномастных вилок, ложек и чашек. За большой стол в столовой садилось человек двадцать, не поспевшие вовремя втискивались дополнительно. Всегда присутствовали Светкины многочисленные сестры – родные, сводные, двоюродные; тети и дяди, школьные подруги, многих из которых я визуально помнила, ребята из класса, учительница истории Галина Васильевна, потом университетские друзья, близкие друзья родителей и их дети; но впереди всех нужно назвать Наташу Горину, подругу еще с детского сада. Стоял веселый гвалт, Раиса Давыдовна стремилась вымыть посуду, не дожидаясь конца застолья и, несмотря на бурные Светкины протесты, потихоньку утаскивала на кухню пустые тарелки. Когда с трапезой более или менее было покончено, с удовольствием пели всё, что знали, особенно песни Окуджавы и Галича. Лева и Раиса Давыдовна пели вместе с нами, и это придавало атмосфере еще большую раскованность.
8. В квартире на Горького я познакомилась с самиздатом. Первое конспиративное чтение врезалось в память остротой полученного впечатления. Мне выдали потрепанную папку с листами желтой бумаги – воспоминания матери Василия Аксёнова об аресте и лагерях, известные потом под названием «Крутой маршрут». Выносить из квартиры эту папку, разумеется, нельзя, и я читаю ее, сидя в столовой. Тусклый свет с потолка падает на страницы четвертого или пятого экземпляра машинописного текста, но письмо такое захватывающее, что «слепые» страницы легко перескакивают с одной стороны папки на другую. Ясно, что я не должна об этой рукописи никому рассказывать, мне доверяют, и я знаю, что не напрасно.
На протяжении десяти лет мы снимали дачу в Малоярославце, родине моих родителей. Это деревянный городок в 123 км от Москвы, утопающий в сирени и вишневых садах. Здесь селилась освобождавшаяся из лагерей интеллигенция со штампом «101-й км», снимая у обедневшего после войн и революции люда теплую комнату. В доме, где наша семья занимала площадь на лето, жила Варвара Викторовна Рожкова, арестованная в тридцать седьмом в своей московской квартире на Б. Молчановке вслед за мужем, крупным военным конструктором, трудившимся над созданием знаменитого в будущем отечественного танка. Она, как все, дала подписку о «неразглашении», но, познакомившись с мамой, не стала сдерживаться. Они часами шептались на террасе, и я кое-что слышала, крутясь около них. Мама бросала на меня страшные взгляды и приказывала: «Не смей никому рассказывать!»
В рукописи я нашла узнаваемые ситуации, лица, недослышанные подробности. Меня изумило совпадение исповедей Евгении Гинзбург и нашей знакомой, как будто их везли в одном фургоне, они жили в одном бараке, один и тот же мальчик остался дома после ареста матери.
9. Осенью 1960 года умер дедушка Светланы. Я знала от Светы, что он был ей вместо отца. В том же году произошло событие противоположного свойства. Света познакомилась, влюбилась и вышла замуж. Женя Герф, ее муж, к этому времени окончил Второй медицинский институт и со специальностью патологоанатома был неотвратимо распределен в казахский город Гурьев. Оставив пока университет, Света последовала за ним к безусловному огорчению не противящихся домочадцев.
Света и Женя вернулись в Москву где-то в конце зимы следующего года. Вскоре после их возвращения большую комнату перестроили: для молодоженов выгородили одну небольшую, метров 13—15, комнату, которая поглотила оба имевшихся в столовой больших окна, правда, выходящих на север, да еще во двор-колодец. Новая комната стала вполне светлой, так как для нее этих окон оказалось достаточно. Одежный шкаф, поставленный как продолжение новой, параллельной окнам, стены, в свою очередь выделил кусок площади с окном на лестничной площадке. В этом закутке надолго обосновалась Светкина младшая сестра Маша. Общая столовая, вполне сохранившая свои габариты после перестройки, перешла на электрическое освещение. Сусанна Михайловна после смерти мужа переселилась в «детскую», уступив свою большую («родительскую») комнату Раисе Давыдовне и Леве.
В доме остался прежний уклад, только народу стало приходить еще больше. Бывая и днем и вечером, я всегда заставала в квартире Люсю или ее детей – двоюродных сестер Светы. Часто приходили дочери Левы Лена и Майя со своими мужьями и подругами. Непрерывной чередой шли Светкины одноклассники, университетские подруги из старой группы и, конечно, из новой. Приходили друзья Жени, бывшие однокурсники из большой веселой компании – Кирилл Гринберг, Витя Гиндилис, Татьяна Сиряченко, Марина и Игорь Затевахины и многие другие. Параллельным курсом шли писатели и критики – друзья и знакомые Светкиных родителей. И так – «…то вместе, то поврозь, а то попеременно» – мы осуществляли нашествие на квартиру.
10. Выстроенные в большой комнате стенки были «прозрачными» для звука, и потому из столовой жизнь незаметно переместилась на кухню. Кухня в квартире была большой, хотя третью часть ее занимала ванна, отделенная от окружающей среды толстой клеенчатой занавеской. Большое окно в торце кухни глядело, как в столовой, во двор-колодец. Квадратный деревянный стол устроился у стены напротив ванны. Он был покрыт обыкновенной клеенкой и располагал к длительным беседам. Помню, как-то мы сидели со Светой на кухне и пили чай. Вошел Лева, попросил тоже чаю, сел за стол. Сразу начался (или продолжился) разговор о государственном устройстве. Лева стал доказывать нам преимущества социализма, цитировал наизусть почему-то Каутского, французских социалистов, вставлял цитаты на немецком языке и, допив чай, ушел из кухни победителем, хотя в ту пору мы тоже были «за».
Теперь, приходя к Орловой, я сразу шла на кухню. В этом пространстве, лишенном какого-либо внешнего украшательства, ощущение внутреннего комфорта возникало мгновенно, как будто оно исходило непосредственно от нелепого присутствия ванны, от прочного стола, от куска хлеба и горячего чая. На кухне уже сидел кто-нибудь из ближайших друзей Жени – Кирилл или Витя – и плелась вязь интересных разговоров. Все трое еще в Институте подпольно изучали генетику и теперь в только что разрешенную науку вошли «знатоками». В. Гиндилис поступил в аспирантуру Института молекулярной биологии АН СССР, а К. Гринберг – на работу в лабораторию генетики человека, созданную во Втором мединституте. В скобках замечу, что Витя и Кирилл быстро защитили диссертации, что не удивительно, так как по своему уму, образованию, целеустремленности были приговорены к карьере крупных ученых. Женя, поколебавшись между наукой и искусством, устроился врачом скорой помощи, чтобы иметь время для реализации творческих склонностей к рисованию, музыке, поэзии.
Теперь в общих разговорах помимо искусства и политики все чаще звучали проблемы естествознания. Однажды кто-то из троицы (Витя, Кирилл, Женя) высказался в том духе, что никакого прогресса человечества не существует. Мы со Светкой ринулись в бой за диалектическую спираль, впаянную в наше сознание школьными и университетскими историками материализма. Но мысль нам показалась парадоксальной и заставила задуматься. Спорили долго, сошлись на отсутствии прогресса на уровне биологического развития. (Впоследствии представление о диалектике и прогрессе вошло в мое мировоззрение именно в том варианте, как оно было выработано тогда на кухне квартиры 201.)
Женя был старше нас со Светой и часто подсмеивался над нами, нашими взглядами, особенно над нашими песнями. «Словно стала ты жар-птицей, улыбаясь, смотришь на меня» – мы пели, не задумываясь над текстом. Женя признался, что как патологоанатом он готов многое себе представить, только не то, как птица может улыбаться. Женя владел искусством юмора, наверное, как Паганини – скрипкой. Он ходил почти всегда с мрачным выражением на лице, но умел мгновенно нас рассмешить, изрекая очередной афоризм, при этом позволял себе засмеяться только глазами, чуть-чуть скривив в улыбке губы. От этого эффект от шутки был еще сильнее, и мы от души хохотали. Света долго собиралась завести «амбарную» книгу для изречений Жени.
11. В доме спонтанно возникали споры о религии. Женя выступал в роли просветителя, успев непонятным образом приобрести кое-какие знания. Я путалась в авторах Евангелия, и однажды Раиса Давыдовна вынесла из своей комнаты большую книгу в темном коленкоре с серебряным тиснением. Это была Библия, изданная Союзом писателей СССР тиражом 2000 экземпляров. Выносить из квартиры нельзя; я сижу в столовой и впервые в жизни листаю Библию. Помню, что сижу спиной к входу в комнату Светы и Жени. Почему-то врезаются в память такие несущественные подробности, хотя, возможно, именно они – освещение, звуки, места расположения – являются реперными точками памяти, за которыми хранятся события. Во всяком случае, я и сейчас вижу себя с Библией в руках и помню то почти сакральное чувство, которое испытываю при соприкосновении с Книгой. Мне, наконец, открывается структура древнего писания, но на этом – все: Раиса Давыдовна уносит книгу – ее не прочитаешь залпом за одну ночь или день, как мы привыкли читать самиздатовскую литературу. Позже, в восьмидесятых годах, мой муж, рискуя многим, нелегально привезет мне из Польши для медленного чтения Библию, изданную в Ватикане, но тогда, в шестидесятых, подержав в руках Книгу, я получила необъяснимый импульс для собственной духовной работы. В моем доме, как оказалось, тоже имелась Библия, напечатанная на русском языке еще до революции, но мама на всякий случай прятала ее от всех за пианино.
12. Со Светкиным замужеством прибавился еще один день рождения, который отмечали, и мы, друзья дома, эгоистично радовались этому.
Женя родился девятого июня, это был последний праздник сезона перед разъездом на каникулы, и веселье растягивалось до утра. К устоявшимся традициям дома добавилось немного медицинского цинизма и юмора, нового народа и песен, сочиненных Женей в студенческие годы: «Лейся, лейся, марганцовка, ты прекрасна, как рассвет, раз – спринцовка, два – спринцовка – гонококка больше нет». Я запомнила эти дни рождения, вероятно, благодаря свету, которого в июне очень много; он лился из всех углов и щелей, заполнял собой всю квартиру, и даже в столовой электричество не включали до самого вечера.
Однажды день 9 июня совпал с экзаменом, кажется, на четвертом курсе. Мы вышли с однокурсницей Наташей с химфака, и я посетовала, что не успела купить подарок для Жени. Она сказала: «Пойдем, покажу тебе, где можно нарвать шикарный букет». Мы прошли через центральное здание МГУ, вышли на площадь с цветами и фонтанами и двинулись в сторону Ленинских гор. Не доходя трех метров до Ломоносовского проспекта и пяти – до будки с милиционером, Наташа остановила меня перед полем распустившихся садовых маков. Размер каждого цветка был с детскую головку, толщина ножки – сантиметра полтора. Красота этих цветов, покрывавших газон на нескольких сотках, была почти гротеском. Наталья скомандовала энергично: «Рви!» Я показала ей на милицейскую будку и спросила: «Ты что, с ума сошла?» Но в этот самый момент, как под гипнозом желания, огромная черно-коричневая туча заволокла все небо и спустилась так низко, что закрыла стеклянную часть будки, затем и мы с Наташей стали едва различать друг друга. Дальше – классика, сверкнула молния, грянул гром и на нас опрокинулся поток теплой и, казалось, мутной воды, в одну минуту заливший нам волосы, платья, обувь. Под этим молочно-белым дождем мы рвали и рвали красные маки, пока охапка этих чудо-растений не оказалась в моих руках. Дождь чуть-чуть ослабил конспиративный напор, и мы увидели прямо перед собой зеленый глаз такси, тут же остановившегося на наши призывные взмахи. Уже сидя в машине рядом с милицейской будкой, я успела заметить, что по ее стеклянной части все еще вьются мутные водяные жгуты.
Я остановила такси перед аркой на Горького, мокрая вошла в квартиру и отдала букет. Женя тут же достал краски, картон и сел рисовать, пока не пришли гости. Он сделал рисунки в нескольких ракурсах, и один из них спустя несколько лет подарил мне.
13. Году в шестьдесят втором на Горького появился Юра Коваль, замечательный потом детский писатель. Он приходил часто, но по какому-то своему рваному ритму. Коваль подружился с Женей, и ему явно пришлась по душе вся наша компания. Он обладал сильным и красивым баритоном, профессионально играл на гитаре и с удовольствием пел для нас и, наверное, для себя одновременно. Но об этой грани его талантливой личности нужно писать отдельно. Еще Коваль был художником (помимо литературного, он закончил художественный факультет в МГПИ имени Ленина). Поражало то, что стилю его живописи не находилось стандартного сравнения – настолько картины были самобытными – красочными, очень светлыми и радостными. Но главным его занятием была литература. Можно добавить, что он был красив и артистичен (его несколько раз снимали в кино, например, в популярном фильме «Улица Ньютона, дом 1»). Коваль внес в квартиру на Горького атмосферу богемы в самом хорошем смысле этого слова.
Как только он появлялся, возникало импровизированное застолье, а Светка немедленно обзванивала всех, чтобы быстро приходили – Коваль будет петь. Репертуар Коваля был своеобразен: он пел либо юмористические, невесть кем написанные, либо откровенно народные песни. Не пел бардов, не только Кима или Визбора, с которыми вместе учился в Институте, но и Окуджаву. Высоцкий тогда только начинал, и его блатная лирика не пользовалась успехом в нашей компании, вероятно, не без влияния Коваля, исповедовавшего более тонкую эстетику. Помимо голоса, юмора, куража, притягательность пения Коваля заключалась в импровизациях. К известной песне он мог прибавить от себя какой-нибудь куплет с неожиданной лексикой, или вставить свое отношение к содержанию – «дядя Юра вам ответит…», или обратиться к кому-нибудь из присутствующих – «а вот спросим дядю Женю…», что, конечно, приводило в восторг и заводило компанию.
Иногда Коваль приходил на Горького со своим другом Владимиром Лемпортом, и тогда они играли на гитарах в четыре руки из репертуара испанской классики. Акустика большой комнаты позволяла полное звучание, и было ощущение настоящего концерта. Лемпорт работал вместе с другими скульпторами – Вадимом Сидуром и Николаем Силисом в одной мастерской, и бывало, что застолье и концерты переносили к ним, но чаще, наоборот, из мастерской – на Горького.
Мне запомнилось одно длинное субботнее застолье. Пили сухое вино, водку, дымили сигаретами. Коваль много играл на гитаре, пел, в перерывах разговаривали. В этот день Коваль постоянно пробовал словосочетание «рыба Язь». Он и так, и эдак, вертел его на языке и просил одобрения своим восторгам по поводу необычного названия рыбы – «Язь». Потом, спустя лет пятнадцать, когда мой сын не расставался с книгами Коваля, просил читать ему их еще и еще раз, я набрела на слова, которыми заканчивался один из его рассказов: «…озеро, в котором водилась рыба со странным названием Язь» (цитирую по памяти). Я не раз слышала, как Коваль говорил в нашей компании с грустной усмешкой: «Вот увидите, я стану классиком детской литературы». В этих словах была заключена истинная правда. Без какого-либо снобизма он констатировал факт будущего события, известный пока ему одному.
Были зимние каникулы. Уходя в тот день домой, я подумала, что настала пора покататься на лыжах и подышать свежим воздухом. Шагая по Брюсову переулку, я была полна решимости уговорить и своих друзей, обитателей квартиры. Не потеряв этой решимости за ночь, я надела какой-то безумный (какой был) лыжный костюм, взяла свои лыжи и в таком виде притащилась на Горького часов в одиннадцать утра. Кто-то впустил меня, из столовой доносились негромкие голоса. Я вошла и открыла рот для агитации. Коваль, сидящий за столом как бы со вчерашнего дня, приложил палец ко рту, останавливая меня. За столом продолжал сидеть вчерашний народ и успел набежать новый, на полу стоял ящик с бутылками пива, половина которых была уже вынута. В комнате полумрак, в основном из-за сигаретного тумана. Женя читал только что написанные стихи: «Я так свободен, как фонарный столб – ржаветь, я так свободен, как человек свободен умереть». Я тихо пробралась на пододвинутый стул, мне налили пиво, дали сигарету. В час ночи я вернулась домой на Кисловский с помойкой во рту, книгой Камю «Иностранец» и лыжами на плечах. На языке завертелась фраза из стихотворения И. Северянина: «Ты ко мне не вернешься, на тебе теперь бархат, он скрывает бескрылье утомленных плечей». Но это – не про меня ту, душа трудилась, получив новый импульс для экзистенциального погружения.
Надо сказать, что «экзистенциализм», как философское направление, трактующее иррациональную сущность бытия, вдруг получил в России распространение, правда, неофициальное и с отставанием на 20—30 лет от Западной Европы. Официальная философия, загнанная в узкие рамки материализма, не давала поводов для сомнений, тогда как новые течения побуждали к размышлениям. У нас возникали частые споры об иррациональной составляющей мыслительного и творческого процессов. На материальных позициях крепко стояли серьезные физики-электронщики, с другой стороны выступали Кирилл, Витя и Женя, начитавшиеся Камю, Хайдеггера и других экзистенциалистов. Юра Коваль в спорах не участвовал, но слушал очень внимательно, и было ясно, что он на стороне идеалистов, тогда как мы со Светкой – скорее, на стороне физиков.
Однажды Коваль после довольно долгого перерыва пришел на Горького. Он был «в ударе», играл, пел, острил, аккомпанировал нашему пению. Гром аккордов и хор голосов с трудом гасили метровые стены квартиры. Тонус беззаботного веселья поднялся на недосягаемую высоту и заполнил своей атмосферой все вокруг. Мы «гудели» долго и только под утро устроились на запоздалый сон. Родители жили на даче, и квартира оставалась в нашем распоряжении. Коваль, который не пренебрегал возможностью переночевать, в этот раз ушел домой. Около часа дня нас разбудил звонок в дверь – пришел Коваль, расположился в столовой за столом, вызвал Женю и начал читать ему свой рассказ, законченный дома, пока мы спали. Пожалуй, именно тогда я поняла, что ритм его приходов целиком определялся состоянием творчества, требующим вдохновения, и он приходил за ним на Горького.
Иногда Коваль, неожиданно появляясь в квартире, вдруг в разговоре сообщал: «Завтра уеду на охоту». Тогда мы расспрашивали его о предыдущих поездках, а он с радостью подробно отвечал. Где шел, что брал с собой, как устраивался на ночлег в лесу, какие посещали мысли. Меня особенно интересовал вопрос – боялся ли в одиночестве. В основном нет, не боялся. «А знаете, что самое страшное в лесу? – как-то спросил Юра. – Встретить человека» (по-моему, у него есть рассказ на эту тему).
Юрий Коваль появился на Горького вскоре после приезда из Татарии, куда был распределен учителем рисования и литературы. В Москву он вернулся с несколькими взрослыми рассказами и целой серией ярких живописных полотен. Скульпторы Лемпорт, Сидур, Силис приняли его живопись с восторгом и даже потеснились на время в своей мастерской. В отличие от художников тогдашнее снобистское писательское сообщество категорически отстранилось от таланта Коваля, и ему пришлось самому пробивать себе путь в литературу, очень медленно, через маленькие издания типа «Мурзилки» или «Малыша», что в конечном итоге и оставило его в детской литературе.
Очевидно, что для каждого творца нужна почва, укрепляющая и питающая его. Думаю, не ошибусь, если скажу, что интеллектуальная атмосфера квартиры на Горького захватила Коваля и стала на время питательной средой начинающего писателя.
14. К осени 63-го года мы были уже вполне взрослыми. Я работала по распределению в одном никчемном прикладном научно-исследовательском институте. Света готовилась родить сына Леню. Ребенку требовался свежий воздух, и мы с ней часто гуляли вместе по переулкам нашего детства.
Я рассказывала Светке о работе. Собственно, о ней рассказывать было нечего. В химическом отделе «наукой» занимались пожилые тетки. С утра они ждали обеденного перерыва и, не дождавшись тридцати минут, бежали в магазин. Вторую половину дня они ходили из комнаты в комнату, гордясь ухваченным мясом. Сами по себе женщины были неплохими, но вид разложенной ими на лабораторном столе говядины оскорблял мое возвышенное, только что полученное в университете представление о служении Музам. Зато в физическом корпусе нашего кино-фото института имелся большой современный кинозал, куда, бросая дела, стекался весь ученый народ, чтобы посмотреть последние фильмы американских и итальянских режиссеров, показываемых для изучения (!) качества пленок зарубежных фирм. На экранах страны шел хороший фильм «Девчата». Фильмы же «Космическая одиссея», «Затмение», «На последнем берегу», «Джульетта и духи», «Евангелие от Матфея» (разумеется, вместе с качеством пленки и звука) казались приветом из Космоса. Я делилась со Светкой новыми впечатлениями – некоторые фильмы она тоже видела в ЦДЛ.
На этих прогулках Света рассказывала мне о своих разногласиях с Женей, тонкими трещинами уже лежащими на их отношениях. Исходив положенное время, мы поднимались в квартиру, я сдавала подругу мужу или Раисе Давыдовне и немедленно уходила, несмотря на отчаянные призывы Светки посидеть хотя бы чуть-чуть.
После рождения Лени Сусанна Михайловна переехала в комнату при столовой, а Света, Женя и Леня поселились в «детской». Мне казалось, что нет ничего особенного в том, что Сусанна Михайловна уступает лучшую комнату, теперь уже правнуку. Точнее, тогда мне ничего не казалось по этому поводу, все было само собой разумеющимся. У Светкиной бабушки было трое детей, шестеро внуков и их друзья, еще правнук – и всем надо было помочь по мере возможности.
15. Мы не заметили, как наступили другие времена, – вся страна стала «инакомыслящей». Покатилась волна политических процессов. Одни за другими шли суды над литераторами. Процессы над Даниэлем и Синявским, над Гинзбургом и Галансковым, над Бродским. Информацию можно было получить из самиздата и слухов, распространявшихся, как считалось, со скоростью 300 км/час. Мы стали больше времени проводить в «родительской» комнате, где жили Раиса Давыдовна и Лева; народ собирался послушать литературные и политические новости.
Как-то Света позвонила мне и «велела» вечером приходить: «Приехал Бёлль, будем с ним фотографироваться». Не надо специально говорить о дружбе Левы и Раисы Давыдовны с немецким писателем – она широко известна.
Я позвонила в дверь, ее мгновенно открыл Лев Зиновьевич. Слева, прислонившись спиной к низкой двери чулана, стоял Генрих Бёлль. Было, похоже, что они присмотрели себе переднюю как самое удобное место поговорить в тишине. Лева помог мне раздеться и представил Бёллю сначала по-русски, потом по-немецки: «Это Ирка Сапожникова, моя дочка». Дочка, доца – так Лева называл всех Светкиных подруг на украинский манер. По-видимому, я была пятнадцатая за вечер, потому, что Бёлль засмеялся и что-то сказал на своем языке. Лева ответил, и они опять засмеялись. «Генрих пошутил относительно количества моих детей», – коротко пояснил мне Лева состоявшийся диалог.
Вся квартира была заполнена людьми, началась суета в поисках места и ракурса для того, чтобы всем сфотографироваться. Решили, что наиболее подходящей местом по освещенности будет комната при столовой. Все двинулись туда густой толпой, но я вдруг передумала и не пошла, решив, что это так же глупо, как собирать автографы. Теперь я думаю, что поступила неправильно, потому, что упустила возможность иметь свою фотографию рядом с Левой и Раисой Давыдовной.
Светкины родители не были диссидентами, никогда не изменяли идеологии социализма, считая его залогом братства, равенства и справедливости. Пройдя войну и лагеря, Лева не обиделся на свою страну, но он был человеком совести и чести, убежденным правозащитником, резко выступившим за права осужденных литераторов на свободу выражать свои мысли. Вместе с Раисой Давыдовной они смело подписывали письма в защиту политзаключенных, навлекая гнев властей и угрозу репрессий. Спасая своих друзей, Бёлль прислал им приглашение в Германию на один год. Копелевы уехали туда в ноябре 1980 года с обратным билетом в Россию. Однако через два месяца их лишили советского гражданства, которое вернули только в Горбачевские времена. Раиса Орлова и Лев Копелев были великими гуманистами, патриотами в духе Пушкина и Толстого, но тогда по молодости я этого не понимала.
16. В конце шестидесятых годов Раиса Давыдовна с Левой и Сусанной Михайловной переехала в кооперативный писательский дом у метро Аэропорт. Света осталась хозяйкой в квартире на Горького. Испытывая безденежье при зарплатах врача и младшего научного сотрудника, она приняла решение сдавать одну из комнат. Они с Женей заняли «родительскую», Леню перевезли в комнату при столовой, а «детская» на 6—8 часов в день начала заполняться для занятий с репетитором троечниками и отличниками, жаждущими высшего образования. Репетиторами оказались хорошо образованные физики-электронщики из закрытого Института во Фрязине; постепенно они переходили в друзья дома, и стиль жизни оставался прежним.
В этот период Орлова начала снабжать меня русской и западной литературой, не публикуемой в стране. Книги Камю, Пастернака, Платонова, Мандельштама, наконец, Набокова приоткрывали тот мир, который располагался за «железным занавесом». Света давала мне книги на сутки или двое, иногда без выноса, и тогда я не выходила из квартиры, пока не прочитаю.
Света мне не раз говорила, что у них на Горького живет домовой, который бродит по ночам, не стесняясь. Как-то мне довелось провести несколько поздних часов в квартире одной. Так получилось, что Света ушла к родителям, Женя был на дежурстве, Леня и Тамара (несменяемая няня) – на даче, у жильцов – пересменка. И вот я лежу на тахте в «родительской» (теперь Светкиной) комнате с «Доктором Живаго» и слышу скрип паркета в столовой, отчетливые шаги по коридору, затем шуршание где-то рядом со мной. Мгновенно возникает желание натянуть плед на голову и таким образом спастись от пришельца. Но в этот момент задребезжал мотор включившегося на кухне холодильника, и все остальное стихло. Когда холодильник умолк, стало слышно, как кто-то настойчиво пробивается ко мне в комнату через потолок. Я отложила книгу, смело прошла по квартире, нашла клочок бумаги и написала хозяевам записку на случай, если погибну. Записка получилась в стихотворной форме и имела мистический оттенок. Листок потом быстро ушел в мусорное ведро, а в памяти осталась только первая строчка: «Слышу топот, стон и ропот…». Жалко, что не помню дальше, поскольку там почти протокольно были зарифмованы услышанные звуки «тишины». Очевидно, что дом стонал под грузом своей истории и давал информацию о себе доступным ему способом. Не зря в науке о свойствах твердых тел (металлов, полимеров, керамики) используют такие «живые» термины, как память, усталость, отдых, время жизни, предыстория.
Дом, в котором жила Света и ее большая семья, был построен в начале века, в 1905—1907 годах, в стиле модерн, замешанном на русских и мавританских мотивах, архитектором И. С. Кузнецовым и предназначался для Саввинского подворья, о чем и гласит табличка, давно прибитая к фасаду. Сам по себе дом огромен, поскольку состоит из двух трехподъездных корпусов, соединенных между собой тремя поперечными связками, за стеклами которых и размещаются винтовые лестницы с площадками величиной с танцзал.
Дом стоял на Тверской, и его оригинальный фасад с обилием лепки, витражей, с башенками и архитектурными окнами был доступен для обозрения. Перед войной в центре Москвы на улице Горького (бывшей и теперь опять Тверской) началось строительство домов для советской элиты – старых большевиков ленинского призыва, военных чинов, известных героев-полярников – летчиков и моряков; министров, их замов. Такой контингент получателей квартир мне хорошо известен, так как их дети и внуки учились со мной в одном классе. Так вот, чтобы выстроить в ряд «сталинские» здания от «Подарков» до «Арагви», дом «модерн» задвинули в глубь будущего двора – вырыли огромный котлован, подогнали рельсы под фундамент, и дом поехал на новое место. Сусанна Михайловна пережила этот момент в квартире. Она рассказывала: «Все было очень быстро, только чуть-чуть звякнула посуда в буфете». А для кирпича и штукатурки это было, может быть, великим переселением народов, и они переживают его до сих пор.
Меня всегда интересовал вопрос, помнят ли стены Светкиного дома интеллектуальный и чувственный тонус нашей молодости, и если – да, то как они рассказывают об этом в ночи.
17. Мой рассказ подходит к завершению, но не потому, что иссякли воспоминания, напротив, потому, что им нет конца. На протяжении многих лет я была участником или свидетелем событий, происходящих непосредственно в доме, или стекающихся сюда для совместных переживаний. В начале семидесятых после рождения сына я перешла в Академический институт и начала серьезно заниматься наукой. Света разошлась с Женей, спустя время вышла замуж за Вячеслава Всеволодовича Иванова. Жизнь стала наполняться новым содержанием, но квартира на Горького еще долго терпела импровизированные застолья, песни Коваля, кухонные ночные бдения, праздники дней рождения.
Весной 1977 года Светлана разменяла квартиру на две. Устраивалась «ОТВАЛЬНАЯ» для всех друзей дома, абсолютно для всех, кто сможет прийти. Помню, что я, радуясь благополучному разрешению Светкиных личных проблем, загрустила: мне казалось, что вместе с квартирой на Горького я прощаюсь со своей затянувшейся молодостью, ощущаю (и не ошибаюсь), что в жизни больше не будет столько беззаботного смеха, веселья, радости, взаимопонимания. С такими смутными чувствами я в последний раз поднялась около четырех часов дня по винтовой лестнице наверх. Входная дверь была открыта; в передней, на кухне, в столовой – повсюду люди в возрасте от пятнадцати (Ленины друзья) до, наверное, семидесяти лет. Многих впервые вижу. Несколько человек в военной форме – «Лешины старые дворовые друзья» – объяснила Светлана. Стоял общий гул, сквозь который Лева и Раиса Давыдовна пытались что-то сказать друг другу с противоположных концов коридора. В «родительской» комнате пели «Бригантину». Я пошла туда. Впервые, именно в этой комнате, показавшейся мне огромной без привычной мебели, были накрыты столы, выстроенные по диагонали от правого окна до двери. Косой луч солнца, очевидно скользивший по фасаду на Горького в сторону запада, именно в этот момент попал через арку в окно и высветил диагональ знакомых и незнакомых лиц вместе с бутылками вина, водки, блюдами традиционных закусок – колбасы, сыра, селедки, огурцов, винегрета. Вспомнилась картинка из старого учебника по коллоидной химии: проникающий через щель луч конусом высвечивает мельчайшие частички, попадающие под него, – эффект Тиндаля. Я села на чье-то временно покинутое место и влилась в застолье, общий градус которого был уже высоким. Против меня сидел Леша, брат Раисы Давыдовны со своими друзьями. В руках у них были гитары. Леша умело дирижировал «сводным» хором – он то играл на гитаре, то энергично отбивал на ней ритм, раскачиваясь в такт песне. Когда перепели все застольные песни принялись за советские. Пели громко, самозабвенно, вкладывая в слова весь пафос прощания:
«…пу-усть он зе-е-млю бе-ре-жет род-ну-у-ю,
а лю-бо-овь Ка-тю-ша сбе-ре-же-ет!»
Люди приходили, подсаживались к столу, поднимали рюмки за прошлое и будущее и мгновенно вступали в хор:
«…вижу о-очи твои ка-а-ри-е,
слы-ы-шу тво-ой ве-се-лый сме-ех,
хо-ро-ша-а стра-на Бол-га-а-рия,
а-а Рос-си-я лучше все-е-х!»
Мне пора было домой к сыну. «Луч Тиндаля», казалось, проник за мной в переднюю, догнал у подъезда и высвечивал меня, пока я проделывала в последний раз путь по Брюсу, мимо Консерватории, театра Маяковского до своего дома на Кисловском. В ушах отчаянно гремело: «Хо-ро-ша-а стра-на Болга-а-рия, а Россия лучше всех!».