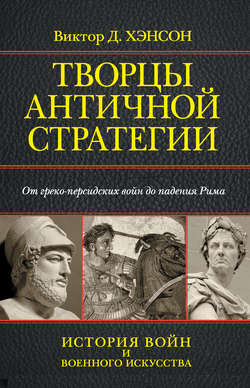Читать книгу Творцы античной стратегии. От греко-персидских войн до падения Рима - Коллектив авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Перикл, Фукидид и оборона империи
Дональд Каган
ОглавлениеК середине V века до н. э., когда Перикл стал ведущей политической фигурой Афин, защита рубежей империи являлась основной задачей, поскольку они представляли собой ключ к обороне самих Афин. Укрепленные рубежи означали готовность к возобновлению персидской угрозы и предотвращали любые вылазки со стороны Спарты. Кроме того, имперские доходы имели важное значение для планов Перикла по превращению Афин в самый процветающий, красивый и цивилизованный город Эллады. И имперское великолепие было неотъемлемой частью Периклова видения Афин.
Перикл и афиняне признавали необходимость империи, однако сам факт ее существования вызывал и серьезные вопросы. Способна ли империя ограничить собственные аппетиты и амбиции и обеспечить свою безопасность? Или же власть над другими народами неизбежно вынуждает империю безудержно расширяться, тем самым приближая собственную гибель? Да и оправданна ли империя, особенно когда греки правят греками, с этической точки зрения? Или это проявление гюбриса, воинствующего высокомерия, каковое непременно приведет, рано или поздно, к уничтожению тех, кто осмелился править другими людьми, будто боги?
На плечи Перикла, как лидера афинского демоса, легла обязанность осуществлять имперскую политику и оправдать империи в глазах прочих греков, а также в собственных. Обе эти задачи Перикл стал решать принципиально по-новому. Он положил конец имперской экспансии и усмирил афинские амбиции. Также он привел весомые аргументы, на словах и делом, в доказательство того, что империя вправе быть и служит общим интересам всех греков.
Важно помнить, что афиняне не собирались создавать империю и что Делосский союз, ее предшественник, возник только потому, что Спарта самоустранилась; но у афинян при этом были все основания притязать на ведущие роли. Прежде всего, это страх перед новым персидским нашествием. Персы нападали на Элладу трижды на протяжении двух десятилетий, и не было никаких оснований полагать, что они смирятся с понесенными поражениями. Во-вторых, афиняне только приступили к восстановлению того, что уничтожили персы в ходе последнего нашествия, и понимали, что новая атака, несомненно, будет сосредоточена именно на Афинах. Кроме того, акватория Эгейского моря и земли к востоку были чрезвычайно важны для афинской торговли. Зависимость Афин от импорта зерна с территории современной Украины (это зерно транспортировали кораблями с побережья Черного моря) означала, что даже мини-кампания персов, в результате которой враг завладеет Босфором и Дарданеллами, негативно скажется на обеспечении города продовольствием. Наконец, афиняне были связаны общим происхождением, религией и традициями с ионийскими греками, которые составляли большую часть населения угрожаемых городов. Безопасность, процветание и устремления Афин, таким образом, требовали вытеснения персов из всех прибрежных районов и островов Эгейского моря, из Дарданелл, Босфора, Мраморного и Черного морей.
Новый союз представлял собой одну из трех «межгосударственных организаций» греческого мира, наряду с Пелопоннесским и Всегреческим оборонительным союзами, сформированными против Персии; последний серьезно пострадал от отказа спартанцев воевать в Эгейском море. После основания Делосского союза Всегреческий союз стал мало-помалу превращаться в фикцию и распался при первом же серьезном испытании. Полноценными, эффективными и действующими были Пелопоннесский союз во главе со Спартой на материке и Делосский союз во главе с Афинами (Афинская симмахия) в акватории Эгейского моря.
С самого образования Делосский союз показал себя весьма эффективным объединением, поскольку был полностью добровольным, все участники искренне разделяли заявленные цели союза, а его организационные принципы были понятны и просты. Афины стояли во главе союза: все участники, которых насчитывалось почти 140, принесли клятву враждовать с врагами и дружить с друзьями Афин, тем самым сформировав постоянный оборонительно-наступательный союз под афинским руководством. Гегемония, однако, не означала господства. В первые годы существования союза афиняне «стояли во главе сперва еще независимых союзников (с правом голоса на общесоюзных собраниях)»[20]. В те годы на подобных собраниях определяли общую политику и принимал решения, а проходили они на Делосе, и Афины имели всего один голос. В теории, Афины были не более чем равноправным участником собрания, с тем же количеством голосов, что и Самос, Лесбос, Хиос или даже крошечный Серифос. На самом же деле, система была выгодна Афинам. Афинская сухопутная и морская мощь, огромный вклад города в союз и значительный авторитет полиса как гегемона гарантировали, что многие малые и слабосильные государства окажутся под его влиянием, а более крупные полисы, способные оспорить лидерство афинян, будут в меньшинстве. Много лет спустя озлобленные мятежники-митиленцы говорили: «Не может быть прочной дружбы между частными людьми и союза города с городом для какой-нибудь цели, если друзья или союзники не верят во взаимную честность и не сходны по характеру и образу мыслей»[21]. В первые годы союза, однако, как представляется, в отношениях царили гармония и согласие, а степень влияния Афинах была пропорциональна их вкладу в дела. То есть, с самого начала Афины имели возможность благополучно контролировать Делосский союз, не нарушая законов и не тиранствуя.
Первые шаги союза обеспечили ему единодушную и восторженную поддержку: союзники изгнали персов из опорных пунктов на материке и сделали плавание по Эгейскому морю безопасным, уничтожив оплот пиратов на острове Скирос. Победа следовала за победой, персидская угроза казалась все менее реальной, и потому некоторые участники стали считать, что союз и его обременительные обязательства более не нужны. Афиняне, однако, справедливо полагали, что персидская угроза никуда не делась и будет только нарастать по мере ослабления бдительности греков. Фукидид однозначно указывает, что основными причинами последующих восстаний были отказ союзников предоставить согласованное количество кораблей или денег в казну союза, а также собрать необходимое число воинов. Афиняне «строго взыскивали недоимки, не останавливаясь перед принудительными мерами. Поэтому-то власть афинян стала в тягость людям, не привыкшим к притеснениям и не склонным их переносить. И вообще господство афинян не было уже теперь так популярно, как прежде. В совместных походах афиняне обращались с союзниками не так, как с равными, и если кто-нибудь из них восставал, то восставших без труда вновь приводили к покорности. Впрочем, виноваты в этом были сами союзники. Действительно, из малодушного страха перед военной службой (только чтобы не находиться вдали от дома) большинство из них позволили обложить себя налогом и вместо поставки кораблей они предпочитали вносить надлежащие денежные суммы. И таким образом афиняне получили возможность на средства союзников увеличивать свой флот, а союзники, начиная восстание, всякий раз оказывались неподготовленными к войне и беззащитными»[22].
Менее чем через десять лет после создания, возможно в 469 г. до н. э., Делосский союз одержал сокрушительную победу над персидским войском и флотом в устье реки Эвримедонт в Малой Азии. Это поражение персов усилило беспокойство союзников, равно как и суровость и непопулярность афинян. Восстание и осада Фасоса, с 465 по 463 г. до н. э., чему причиной послужил спор между афинянами и фасосцами, лишь опосредованно связанный с делами союза, также способствовал усугублению страхов союзников.
Первая Пелопоннесская война (ок. 460–445 гг. до н. э.) изрядно истощила афинские ресурсы и содействовала распаду союза. Крах афинской экспедиции в Египет в середине 450-х гг. вызвал в Афинах шок, ускоривший трансформацию союза в империю. Многим, должно быть, казалось, что афинское могущество подорвано, и это спровоцировало новые восстания. Афиняне отреагировали быстро и решительно, подавив мятежи, а затем приняли меры, чтобы впредь исключить подобное. В некоторых городах они поставили демократические правительства, дружественные Афинам и зависимые от них. В других полисах разместили военные гарнизоны, в третьи направили своих чиновников для наблюдения за поведением бывших мятежников, а порой комбинировали эти методы. Все они, безусловно, являлись нарушением автономии союзных полисов.
В 440-х гг. Афины еще более ужесточили контроль над империей. Они ввели в союзе использование афинских мер, весов и монет, закрыли местные монетные дворы и тем самым лишили союзников «зримых» символов суверенитета. Также они стали пристальнее следить за сбором союзных платежей и требовали, чтобы суды над лицами, виновными в задержках и недоимках, проходили в Афинах. Они использовали военную силу против полисов, которые восставали и отказывались платить союзные налоги. Иногда афиняне отбирали у мятежников территории и основывали на них колонии с населением из верных союзников или афинских граждан. Когда население подобной колонии состояло целиком из афинян, ее называли клерухией. Эта колония не являлась независимым полисом, ее жители сохраняли афинское гражданство. Подавляя очередное восстание, афиняне обычно устанавливали в завоеванном городе демократическое правление и заставляли горожан принести клятву верности. Вот клятва, которую пришлось принести жителям Колофона:
«Я буду поступать, говорить и советовать то, что я смогу, прекрасным образом и доброжелательно в отношении народа Афин и их союзников и не предам афинский народ ни словом, ни делом, ни сам я, ни будучи убежден другими, и буду любить афинский народ, и не стану перебежчиком, и демократию не разрушу в Колофоне ни сам я, ни поддавшись убеждению других, и не удалюсь в другой город, и не подниму тотчас восстание; в соответствии же с искренней клятвой буду это соблюдать без обмана и не причиняя ущерба, клянусь Зевсом, Аполлоном и Деметрой; и если нарушу клятву, то пусть погибну сам и род мой навеки, мне же, соблюдающему клятву, пусть наградой будут многие и хорошие блага»[23].
Чуть позже аналогичную присягу принесли жители Халкидики, правда, в данном случае они клялись в верности не союзу, а только афинскому народу.
Радикальный шаг по трансформации из союза в империю был предпринят в 454–453 гг., когда союзную казну перенесли с Делоса в афинский Акрополь. Формальным поводом для переноса послужила опасность персидского нападения на острова Эгейского моря после катастрофического поражения афинян в Египте и угроза войны со Спартой. Мы не знаем, насколько обоснованными были эти опасения, но афиняне не тратили времени попусту, не желая рисковать имуществом. С этого года и почти до конца Пелопоннесской войны афиняне брали шестидесятую долю союзных платежей в качестве подношения Афине Полиаде, богине-покровительнице их города, а также и покровительнице союза. Причем «долю богини» они вольны были использовать как им вздумается, вовсе не обязательно на благо союза.
Изменения настолько важные и радикальные, что они превратили добровольный союз в империю, в основном принудительно управляемую Афинами, требовали юридического обоснования, как было принято у древних греков. Во многих отношениях греки напоминали другие античные народы своим отношением к власти, завоеваниям, империи и выгодам, которые те предлагали. Они рассматривали мир как поле жестокой конкуренции, где победа и владычество, сулящие славу, считались наивысшими целями, а поражение и подчинение трактовались как постыдное унижение. Они всегда чтили кредо, сформулированное Ахиллом, величайшим героем греческих преданий: «Во всем быть первым среди прочих». Когда легендарный мир аристократических героев уступил место миру городов-государств, состязания между людьми, домохозяйствами и кланами переродились в поединки и войны между полисами. В 416 г. до н. э., спустя десять лет после смерти Перикла, афинские послы так объясняли мелосцам свою точку зрения на международные отношения: «О богах мы предполагаем, о людях же из опыта знаем, что они по природной необходимости властвуют там, где имеют для этого силу»[24].
Тем не менее «Мелийский диалог», как стали именовать позднее этот знаменитый отрывок Фукидида, образчик международной Realpolitik античного мира, представляет собой характерный пример этической двусмысленности статуса Афинской империи. Суровые слова афинян вынуждают мелосцев заявить, что «божество нас не умалит», ибо Афины ведут себя несправедливо по отношению к нейтральным государствам. Да, жалоба мелосцев могла относиться к каким-либо конкретным действиям афинян, реальным или планируемым, но она была воспринята прочими греками с глубоким сочувствием. Греки не разделяли современных предрассудков по поводу могущества и сулимых последним безопасности и славы, однако их собственный исторический опыт отличался от опыта других древних народов. Их культуру сформировали не великие империи, а малые автономные полисы, и они привыкли полагать, что свобода является естественным состоянием людей, взращенных в подобной среде. Граждане должны иметь личную свободу и свободу выбора конституций, законов и обычаев, а города должны иметь возможность свободно строить свои дипломатические отношения и конкурировать с другими за власть и славу. Греки также верили, что свобода, возможная благодаря правилам жизни полисов, создала новый, особенный тип гражданина и особенный тип власти. Свободные и автономные полисы, по их убеждению, превосходят любые империи. Поэт VI столетия до н. э. Фокилид сравнивал греческий полис с грандиозной Ассирийской империей: «…малый град, на утесе стоящий, / Правопорядок блюдя, превосходит град Нина безумный»[25].
Когда полисы воевали друг с другом, победитель обычно забирал себе пограничную территорию, каковая обыкновенно и выступала предметом спора. Побежденных, как правило, не обращали в рабство, а их основную территорию не аннексировали и не оккупировали. В этих конфликтах, как и во многих других, греки использовали двойные стандарты, по которым они отличали себя от чужаков, не говоривших по-гречески и не взращенных на греческих культурных традициях. Поскольку чужаки не росли свободными гражданами свободных общин, а являлись подданными какого-либо правителя, по сути своей они были рабами, посему покорять их и обращать в рабство – в порядке вещей. Сами греки, с другой стороны, свободны от природы, что они доказывают, создавая либеральные институты полисов и проживая в этих полисах. Чтобы управлять такими людьми, лишать их свободы и независимости, очевидно, неправильно.
Так полагали греки, но действовали они соответственно этим убеждениям далеко не всегда. В незапамятные времена спартанцы покорили других греков, обитавших в Лаконии, а также в соседней Мессении, и сделали их своими рабами. В VI веке до н. э. они создали Пелопоннесский союз, который обеспечил спартанцам существенный контроль над внешней политикой их союзников. Но спартанцы обычно не вмешивались в договоренности союзных городов между собой, и эти города в данном отношении сохраняли видимость автономии. Да, на протяжении двух десятилетий после войны с персами аргивяне уничтожили несколько городов в Арголиде и присоединили их территории, но подобное исключение лишь подтверждало правило и не опровергло общей уверенности в том, что греки должны жить как свободные граждане автономных полисов, а не как подданные великих империй.
Греки разделяли и еще одно убеждение, которое препятствовало им наслаждаться жизнью под властью великой державы/империи. Они полагали, что любое благо, «растиражированное» среди людей до чрезмерной степени, ведет, по череде этапов, к тому, что они называли «гюбрис». Подобные люди, как считалось, выходят за пределы, установленные богами для человека, и тем самым вызывают на себя божественный гнев и божественное возмездие. Таковы были основные идеи, почерпнутые от оракула в храме Аполлона в Дельфах, где были высечены божественные предупреждения человеку, желающему избежать гюбриса: «Познай самого себя» и «Ничего лишнего». Для греков V столетия до н. э. отличным примером гюбриса и немезиды была судьба Ксеркса, Великого царя Персидской империи. Его могущество обернулось слепой самонадеянностью, которая привела к попытке утвердить свою власть над материковой Грецией и к последующей катастрофе.
Поэтому, когда афиняне возглавили коалицию греческих городов после персидской войны и это руководство принесло Афинам богатство и власть и позволило создать фактическую империю, что откровенно признавали сами афиняне, традиционные способы мышления не могли помочь в данной ситуации. Преимущества империи для афинян, материальные и нематериальные, были очевидными. Прежде всего это касалось финансов. Союзные платежи в общую казну, контрибуции и другие платежи к началу Пелопоннесской войны достигали 600 талантов ежегодно. Из 400 дополнительных талантов «домашнего» дохода каждый год большую часть также обеспечивала империя: импортные пошлины и портовые налоги Пирея плюс судебные издержки, оплачиваемые теми гражданами союзников, чьи дела слушались в Афинах. Еще афиняне получали прибыль частным образом, предоставляя различные услуги многочисленным гостям, которые приводили в Пирей и Афины судебные и иные имперские дела, равно как и имперское великолепие самого города.
Имперские доходы, как иногда утверждают, были необходимы для поддержания демократии, предоставляли средства оплаты выполнения общественных обязанностей. Но свидетельства опровергают это утверждение. Плату ввели, в конце концов, прежде чем афиняне стали забирать себе шестидесятую долю дохода. Еще красноречивее тот факт, что афиняне продолжали оплачивать эти обязанности даже после того, как империя и ее доходы остались в прошлом, предлагали «пансион» за присутствие в народном собрании в начале IV века. С другой стороны, нельзя не признать, что эта плата распространилась, когда благодаря империи в Афины хлынул поток богатств в виде трофеев и прибыли от увеличения торгового оборота, и что в годы после введения «афинской десятины» оплачивать стали не только участие в судах и собраниях. Вполне вероятно, во всяком случае, что во времена Перикла афинский демос увязывал блага демократии с благополучием империи.
Помимо прямой финансовой выгоды и, как они полагали, финансовой поддержки демократии, жители Афин также получили возможность улучшить, как это сейчас модно называть, качество жизни. Империя, по словам «Старого олигарха», позволила афинянам общаться со множеством людей из разных уголков ойкумены, и потому они «завели у себя всякие способы угощения, по мере того как завязывали сношения тут с одними, там с другими. Таким образом всякие вкусные вещи, какие только есть в Сицилии, в Италии, на Кипре, в Египте, в Лидии, есть в Понте, в Пелопоннесе или где-нибудь в другом месте, – все это собралось в одном месте благодаря владычеству над морем. Далее, из всякого наречия, какое им приходилось слышать, они переняли из одного это, из другого то. И, в то время как все вообще греки пользуются больше своим собственным наречием, ведут свой особый образ жизни и носят свои особые наряды, афиняне имеют все смешанное, взятое у всех греков и варваров»[26].
Комический поэт-современник эпохи приводит более подробный список экзотических деликатесов и полезных товаров, доступ к которым открыла афинянам империя:
…Сильфия стебли, да шкуры быков он везет из Кирены;
Скумбрию из Геллеспонта, за ней солонины раздолье;
От фессалийцев – крупу на кашу, да ребра воловьи…
Из Сиракуз доставляет свиней и сыр сицилийский…
Все это местный товар. Зато паруса подвесные
Или папирус – везет Египет, шлет Сирия ладан,
Крит же прекрасный везет богам стволы кипариса,
Ливия шлет на продажу обилие кости слоновой,
Родос – изюму и фиг, что сладостный сон навевают,
Груши Эвбея везет, да тучных овец и баранов,
Фригия – взятых в сраженьи…
Толпы рабов и бродяг клейменых привозят Пагасы.
А на закуску миндаль блестящий и желуди Зевса
Нам пафлагонцы везут, – «ведь пиру они украшенье».
Финики шлет Финикия, мучицу для булок отборных.
Для лежебок – Карфаген ковры, да подушки цветные[27].
Это, как отмечает Старый олигарх, если «упоминать о менее важном», однако тем самым афиняне сполна ощущали преимущества империи и господства на море.
Возможно, наиболее притягательная черта империи была и «наименее ощутимой», она взывала к особенности человеческой натуры, общей для многих культур на протяжении столетий. Большинство людей предпочитают видеть себя лидерами, а не последователями, правителями, а не подданными. Всякий афинянин гордился величием своего города-государства. Старый олигарх, анонимный автор, выразивший в своем сочинении суть афинского самовосхваления, объяснял, какую выгоду афиняне получили от назначения в городе судов для союзников, излагая позицию обычного гражданина, которого обуревают чувства:
«…если бы союзники не приезжали на судебные процессы, они оказывали бы уважение из афинян только тем, которые выезжают на кораблях – стратегам, триэрархам и послам; а при теперешних условиях вынужден угождать народу афинскому каждый в отдельности из союзников, так как каждый сознает, что ему предстоит, придя в Афины, подвергнуться наказанию или получить удовлетворение не перед кем-либо иным, но перед народом, как того требует в Афинах закон. И он бывает вынужден умолять на судах, бросаясь на колени, и хватать за руку всякого входящего. Вот поэтому-то союзники еще в большей степени стали рабами народа афинского»[28].
Но при всех преимуществах, какие принесло афинянам создание империи, нельзя утверждать, что эти преимущества были совсем уж односторонними: союзники также получили значительную выгоду от подчинения Афинам. Главным была защита от персидской агрессии, основная цель, ради которой создавался союз, – а еще мир, который афинянин Каллий, сын Гиппоника, заключил с Персидской империей. Ионийские города либо оставались под властью варваров, либо отстаивали свою свободу оружием более столетия, так что условия мира были вполне достойными. Успех союза и Афинской империи также обеспечил беспрецедентную свободу мореходства в водах Эгейского моря. Кроме того, война с Персией позволила афинским союзникам, принимавшим в ней участие, разжиться военными трофеями, а коммерческий бум, обогативший Афины, сделал обеспеченными и многие союзные полисы. Короче говоря, афиняне гарантировали свободу от персов, мир и процветание всем грекам в акватории Эгейского моря.
Для многих союзников вмешательство афинян обернулось и установлением демократии, но это не было целью Афин. Перикл и афиняне, когда позволяли обстоятельства, оставляли у власти существующие режимы, даже будь те олигархическими или тираническими. Лишь когда начинались восстания, требовавшие внимания Афин, они устанавливали демократию – и то не всегда. Имперская политика Перикла была разумной и прагматичной, а вовсе не сосредоточенной на идеологии. Тем не менее на протяжении многих лет афиняне устанавливали и поддерживали во многих полисах демократию и воевали с олигархиями и тираниями по всей своей империи. С точки зрения XX века это может показаться очередным завоеванием империи, но это было не так во времена Перикла. Аристократы и люди высших кругов общества в целом воспринимали демократию как новую, неестественную, несправедливую, некомпетентную и вульгарную форму правления, и они были не одиноки в недовольстве ролью афинян в насаждении этой формы. Во многих городах, вероятно даже в большинстве, многие простолюдины рассматривали афинское вмешательство в их политические и конституционны дела как урезания свобод и независимости; они предпочли бы недемократическую конституцию без афинского влияния демократической власти с этим влиянием.
Современные ученые пытаются доказать, что именно афинская поддержка демократии сделала империю популярной среди народных масс в союзных городах и что враждебность, с которой ее позднее стали воспринимать, есть результат «искажения реальности», происки древних авторов-аристократов. Впрочем, нельзя отрицать, что империя была непопулярна у всех классов и слоев населения, исключая небольшую группу демократических политиков, которые благоденствовали на афинские средства. Нет никаких оснований сомневаться в древнем убеждении, будто греки за пределами, а особенно внутри Афинской империи были глубоко ей враждебны. И даже некоторые афиняне возражали против «аморального» поведения Афин по отношению к союзникам.
Перикл предпринял ряд мер, чтобы оправдать афинское поведение и обеспечить бесперебойное поступление налогов от союзников. Имперским городам он объяснял, что на самом деле просто-напросто изменился идеал, лежавший в основе союза. С самого начала некоторые члены союза имели статус колоний, основанных Афинами. А среди греков колониальный статус подразумевал крепкие семейные взаимоотношения, но не подчинение. Кроме того, афиняне давно притязали на роль основателей ионийских городов; и сами ионийцы не только одобряли эти притязания, но и ссылались на них, дабы убедить афинян возглавить союз. На год переноса казны с Делоса выпало празднование Больших Панафиней, справлявшихся раз в четырехлетие; связи между колониями и метрополией обычно укреплялись благодаря таким религиозным обрядам. Союзники Афин обыкновенно подносили на Панафинеи корову и полный доспех, скорее символ верности, чем обременение. Колония, принесшая этот дар, получала почетное право принять участие в торжественном шествии к храму Афины на Акрополе. И потому все союзники Афин хотели обладать этим правом.
Совершенно не обязательно верить, что все были благодарны за такое право и что всех привлекали внешние атрибуты колониальных отношений, причем настолько, что полисы продолжали покорно выплачивать «дань» метрополии. И сомнения наверняка усилились, когда стали известны условия Каллиева мира с Персидской империей 449 г. до н. э.: «Все греческие города на побережье Малой Азии должны быть независимы; сатрапы же персидского царя не должны отплывать по морю (от берегов Малой Азии) дальше чем на расстояние трехдневного пути, и между Фасилидой и Кианеями не должны плавать большие военные суда; если царь и стратеги афинские примут эти условия, то афиняне не должны будут вступать с оружием в страны, которыми управляет царь Артаксеркс»[29]. По этому соглашению персы отказывались от своих претензий на греческие полисы в акватории Эгейского моря и на его побережье, а также на афинские линии коммуникации из Черного моря через Дарданеллы. Персидские войны наконец-то взаправду завершились, и афиняне могли утверждать, что добились победы, которую упустили спартанцы.
Это был великий миг, но серьезные вопросы остались. Пусть Кимон, неутомимый радетель войны против Персии, умер, перед глазами были его пример, его память и его друзья; все это заставляло сомневаться в мире с заклятым врагом. Плюс, если и вправду настал мир с Персией, означает ли это конец уплаты союзных взносов, конец союза и афинской гегемонии?
Что касается самого мира, краеугольного вопроса афинской политики, Перикл исполнил мастерский маневр. Выбор Каллия в качестве переговорщика имел важное значение. Он приходился зятем Кимону, был женат на его сестре Эльпинике. Его назначение послом свидетельствовало о том, что дружба между Периклом и Кимоном пережила смерть последнего и что Каллий, должно быть, немало сделал, чтобы переубедить сторонников политики Кимона. Вообще-то Перикл и по иным связям и знакомствам принадлежал к партии Кимона и продолжал держаться их на протяжении многих лет. Как выразился современный ученый, «за публичной политикой афинского государства стояли семейные узы, политика великих домов, и здесь Перикл был своим»[30].
Политические маневры Перикла, похоже, носили характер действий на публику, если верна реконструкция крупного современного историка. После победы на Кипре афиняне посвятили богам в знак благодарности десятую часть трофеев и поручили поэту Симониду восславить поражение персов. Он «восхвалял доблесть эллинов на Кипре, именовал эту битву величайшим сражением, какое когда-либо видел мир. В то же время это был памятник всем персидским войнам, отношение к которым олицетворял собой Кимон»[31]. Можно полагать, что Перикл стоял за этой пропагандой, из чего следовало, что война была выиграна славной афинской победой, а не завершилась мирным договором, и что Кимон как бы осенял новую политику Перикла. Одновременно памятник Кимону был призван утихомирить его друзей и привлечь их на свою сторону.
Периклу требовались примирение и единство в Афинах. Ведь, несмотря на заключенный мир, он отнюдь не собирался распускать союз, трансформировавшийся в империю. Он не хотел жертвовать славой, политической и военной властью, а также денежными поступлениями. Афины нуждались в империи для своей безопасности и для создания и поддержания великого демократического общества, которое виделось Периклу. В частности, это величие предполагало весьма затратную строительную программу, финансируемую из имперской казны, пусть войны больше нет. И потому Перикл и афиняне стремились обосновать необходимость продолжения платежей, равно как и направить союзников к новым целям.
Но в империи уже возникали проблемы. В 454–453 гг. до н. э. в списке «данников» находим 208 городов, совокупный взнос которых равен 498 талантам. Четыре года спустя городов всего 163, а взнос равен 432 талантам, причем некоторые внесли лишь частичную оплату, некоторые заплатили с опозданием, а третьи не пожелали платить вообще. Нерешительность, неопределенность и мятежи угрожали существованию империи. В то же время Афинам стала снова грозить Спарта. Перемирие, заключенное Кимоном, действовало еще несколько лет, но его самого уже не было рядом, чтобы умиротворить спартанцев снова. Между двумя ведущими греческими державами копились разногласия, и никто не был уверен, что их удастся преодолеть без войны. А вот планы Перикла настоятельно требовали мира.
Вскоре после этого был заключен Каллиев мир. Перикл попытался избавиться от насущных проблем весьма творчески. Он внес в народное собрание законопроект, «предложение о том, чтобы все эллины, где бы они ни жили, в Европе или в Азии, в малых городах и больших, послали на общий съезд в Афины уполномоченных для совещания об эллинских храмах, сожженных варварами, о жертвах, которые они должны принести за спасение Эллады по обету, данному богам, когда они сражались с варварами, о безопасном для всех плавании по морю и о мире»[32].
Посланников направили во все уголки греческой ойкумены, поручив передать приглашение «принять участие в совещаниях о мире и общих действиях Эллады». Перикл, как выразился один ученый, «взывал к грекам, дабы создать новую коалицию и совершить то, что должен был сделать союз 480 г. до н. э. во главе со спартанцами, – должен был, но не сумел, – и обеспечить мирные потребности, которые до сих пор удовлетворял Делосский союз»[33]. Кроме того, в этом приглашении предъявлялись афинские претензии на всегреческое лидерство, на новых основаниях. Война объединила греков, а поддержание мира и безопасности должно еще прочнее закрепить их единство. Религиозное благочестие, панэллинизм и общее благо – таковы были новые основания сохранения лояльности и жертвенности.
Был ли Перикл искренен? Сожженные персами храмы почти все находились в Аттике, а флот, которому надлежало хранить мир, был в основном афинским. Поэтому Перикл, возможно, ожидал, что спартанцы и их союзники отвергнут предложение Афин и тем самым предоставят ему новое оправдание для консолидации империи. С другой стороны, Перикл мог и вправду стремиться к свободе, безопасности и единству всей Эллады. Циники игнорируют такие факты, как сближение с Кимоном и перемирие со Спартой, явные свидетельства новой политики прочного мира. Но изображать Перикла как бескорыстного поборника идеи всегреческого единства значит упускать из вида те колоссальные преимущества, которые сулило Афинам принятие его предложения другими полисами Эллады. Перикл вполне мог считать, что спартанцы найдут разумным принять приглашение. Политика воинствующей партии в Лаконике обернулась катастрофой в Спарте и взлетом могущества Афин. Согласие Спарты на пятилетний мир 451 г. до н. э. показывает, что эта фракция оказалась дискредитированной. И потому было логично ожидать, что партия мира, пораженная неожиданным союзом Перикла с Кимоном и его очевидным отказом от прежней внешней политики, воспользуется проблемами морской империи Афин, чтобы выторговать прочный мир, как и во времена Кимона. Подобное развитие событий позволяло Периклу достичь поставленных целей и представляло бы дипломатическую победу новой политики мирного империализма.
Если Спарта откажется, впрочем, ничего не будет потеряно, зато многое приобретено. Афины покажут всем свои панэллинские устремления, свой религиозный пыл, свою готовность возглавить греков ради общего блага, обеспечив заодно крепкую нравственную основу для осуществления собственных планов – без помех и жалоб.
Спартанцы отклонили приглашение принять участие в новом проекте международного сотрудничества, и общее собрание греков не состоялось. Но этот эпизод сообщил греческому миру, что Афины готовы взять на себя инициативу в исполнении «святого долга». Он также предоставил Афинам обоснование для восстановления аттических храмов. Теперь Перикл был свободен наводить порядок в империи, продолжать сбор дани от союзников и тратить средства на свои видения.
Поврежденный папирус, ныне хранящийся в Страсбурге, дает неплохое представление о этих планах. Папирус содержит указ Перикла, предложенный летом 449 г. до н. э., вскоре после провала попытки созвать общегреческое собрание. Пять тысяч талантов подлежат единовременному изъятию из казны для строительства новых храмов на Акрополе, а еще двести будут изыматься ежегодно в течение следующих пятнадцати лет, дабы закончить работу. Строительная программа, однако, будет реализовываться не в ущерб содержанию флота (еще одно обоснование дани с союзников). Совет проследит за ремонтом старых кораблей и за тем, чтобы десять новых кораблей в год пополняли существующий флот. Если раньше и могли возникать вопросы, теперь их не осталось: Делосский союз, объединение (симмахия) автономных государств, сделался тем, что сами афиняне уже были готовы именовать империей (архэ), структурой, которая все еще обеспечивала общие выгоды, но предоставляла приоритет афинянам.
Через несколько лет после того, как новую программу начали реализовывать, Перикл столкнулся с жестким политическим сопротивлением партии, которую возглавлял Фукидид, сын Мелесия, блестящий оратор и политический организатор. Он прибегнул к типичным личным нападкам, чтобы заручиться поддержкой народа, утверждал, что Перикл стремится в итоге стать тираном. Эти обвинения он ловко сочетал с упреками в использовании казенных средств на строительную программу Перикла. Плутарх передает суть его претензий, озвученных перед народным собранием:
«Народ позорит себя, – кричали они, – о нем идет дурная слава за то, что Перикл перенес общую эллинскую казну к себе из Делоса; самый благовидный предлог, которым может оправдываться народ от этого упрека, тот, что страх перед варварами заставил его взять оттуда общую казну и хранить ее в безопасном месте; но и это оправдание отнял у народа Перикл. Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и подвергаются открытой тираннии, видя, что на вносимые ими по принуждению деньги, предназначенные для войны, мы золотим и наряжаем город, точно женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором, статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов»[34].
Выступление Фукидида было агрессивным, тонко спланированным и рассчитанным на отклик широких масс. Он выступал не против империи как таковой и не против союзных взносов, иначе оттолкнул бы от себя большинство афинян. Нет, он жаловался, с одной стороны, на неправедное расходование общих средств на личные замыслы Перикла. Это напомнило друзьям Кимона, которые состояли теперь в Перикловой коалиции, что первоначальная Кимонова политика отринута и извращена. С другой стороны, Фукидид обращался к массовой аудитории, упирая на этические моменты. Используя язык традиционной религии и старомодной морали, он играл на чувствах афинян – ведь многие испытывали неловкость из-за того, что их родной город подчинил своей власти других греков.
Нападки Фукидида вынудили Перикла защищать империю и свою новую имперскую политику перед афинянами. В ответ на основную жалобу он не привел никаких оправданий. Афинянам, по его словам, нет нужды задумываться о деньгах, получаемых от союзников, покуда они обороняют тех от варваров:
«…союзники не поставляют ничего – ни коня, ни корабля, ни гоплита, а только платят деньги; а деньги принадлежат не тому, кто их дает, а тому, кто получает, если он доставляет то, за что получает. Но, если государство снабжено в достаточной мере предметами, нужными для войны, необходимо тратить его богатство на такие работы, которые после окончания их доставят государству вечную славу, а во время исполнения будут служить тотчас же источником благосостояния, благодаря тому, что явится всевозможная работа и разные потребности, которые пробуждают всякие ремесла, дают занятие всем рукам, доставляют заработок чуть не всему государству, так что оно на свой счет себя и украшает, и кормит»[35].
Первая часть этого опровержения отвечала на моральные нападки. Использование имперских средств на афинские нужды не аналогично тирании, утверждал Перикл, но сродни беспрепятственному расходованию платы за труд или прибыли человеком, который трудился по найму. А если нет подрыва моральных устоев, значит, это на совести союзников, что уклоняются от уплаты взносов, тогда как Афины продолжают их защищать. Вторая часть ответа адресована прежде всего простолюдинам, благополучие которых напрямую зависело от империи, напоминала им на простейших примерах, что все это лично для них означает.
Афиняне отлично поняли Перикла, и в 443 г. до н. э. он призвал к остракизму; это был одновременно «референдум» о доверии Периклу и о доверии его политике. Фукидида присудили к изгнанию, а Перикл обрел новую степень политического влияния. Народ поддержал его, не в последнюю очередь из-за благ, обеспеченных империей.
Концепция империи вряд ли завоюет сторонников в современном мире, а слово «империализм», производное от «империи», приобрело уничижительный смысл едва ли не с самого своего появления в XIX веке. Оба термина означают доминирование, обеспеченное силой или угрозой применения силы, над чужим народом в структуре, которая эксплуатирует подданных к выгоде правителей. Несмотря на тенденциозные попытки использовать термин «империализм» применительно к любой крупной и могущественной стране, которая давит своим авторитетом слабых, более нейтральное определение на основе исторического опыта требует политического и военного управления, чтобы оправдать такую терминологию.
В этих своих взглядах люди нашего времени уникальны среди всех, кто жил на планете с дня рождения цивилизации. Однако, если мы хотим понять империю Афин времен Перикла и отношение к ней, нам следует учитывать громадную пропасть, отделяющую их воззрения от современных. Для них это был повод для гордости и восхваления, но в некоторых отношениях он вызывал смущение и, по крайней мере у отдельных афинян, стыд. Перикл сам не единожды испытывал эти чувства и рассуждал о них с необыкновенной честностью и прямотой, хотя ни он, ни афиняне не были в состоянии разрешить все двусмысленности данной ситуации.
Афиняне неоднократно признавали непопулярность собственного правления, и историк Фукидид, современник событий и человек выдающейся наблюдательности, не преминул упомянуть об этом. В начале войны, писал он, «общественное мнение в подавляющем большинстве городов склонялось на сторону лакедемонян (между прочим, потому, что они объявили себя освободителями Эллады). Все – будь то отдельные люди или города – по возможности словом или делом старались им помочь… Таким образом, большинство эллинов было настроено против афинян: одни желали избавиться от их господства, другие же страшились его»[36].
Перикл в полной мере осознавал эти чувства и понимал этические последствия и практические проблемы опасности, которую они сулят. Тем не менее он никогда не колебался в отстаивании своего курса.
В 432 г. до н. э., когда угроза войны сделалась явной, афинское посольство прибыло в Спарту, якобы «по иным делам», но в действительности для того, чтобы изложить позицию Афин перед собранием спартанцев и их союзников. И доводы послов находились в полном согласии со взглядами Перикла. Послы утверждали, что афиняне обрели свою империю благодаря стечению обстоятельств, не ими подготовленных, а обеспеченных природными свойствами человеческого характера. С одной стороны, указывали послы, «нашу державу мы приобрели ведь не силой, но оттого лишь, что вы сами не пожелали покончить с остатками военной силы Варвара в Элладе. Поэтому-то союзники добровольно обратились к нам с просьбой взять на себя верховное командование. Прежде всего дальнейшее развитие нашего могущества определили сами обстоятельства. Первое – это главным образом наша собственная безопасность; затем – соображения почета и, наконец, выгода. Наша собственная безопасность требовала укрепления нашей власти, раз уж дошло до того, что большинство союзников нас возненавидело, а некоторые восставшие были даже нами усмирены. Вместе с тем ваша дружба не была уже прежней; она омрачилась подозрительностью и даже прямой враждой; отпавшие от нас союзники перешли бы к вам, что было весьма опасно для нас. Ведь никому нельзя ставить в вину, если в минуту крайней опасности он ищет средства спасения»[37].
Напротив, продолжали послы, афиняне поступили так, как наверняка поступили бы и спартанцы, сохрани те свое лидерство. И в этом случае они тоже сделались бы ненавистными другим. «Таким образом, нет ничего странного или даже противоестественного в том, что мы приняли предложенную нам власть и затем ее удержали. Мы были вынуждены к этому тремя важнейшими мотивами: честью, страхом и выгодой»[38].
Перикл, конечно, полагал, что обстоятельства сделали возникновение империи неизбежным, а основной побудительной причиной действий афинян после Платей и Микала был общий страх перед возвращением персов. Союз добился успеха, затем скрепляющие узы ослабли, афиняне единственные по-прежнему боялись нового прихода персов, а заодно – распада союза. Когда спартанцы стали проявлять враждебность, афиняне испугались, что их союзники дезертируют к новому противнику. Принуждение, необходимое для решения всех этих проблем, и породило ненависть, а потому было уже слишком опасно отказываться от власти, как Перикл позднее объяснял афинянам:
«Не думайте, что нам угрожает только порабощение вместо свободы. Нет! Дело идет о потере вами господства и об опасности со стороны тех, кому оно ненавистно. Отказаться от этого владычества вы уже не можете, даже если кто-нибудь в теперешних обстоятельствах из страха изобразит этот отказ как проявление благородного миролюбия. Ведь ваше владычество подобно тирании, добиваться которой несправедливо, отказаться же от нее – весьма опасно»[39].
Перикл ясно видел невзгоды, избавить от которых способно сохранение империи, но и не оставался глух к рассуждениям о чести и достоинстве. В надгробной речи 431 г. до н. э. он обратил внимание афинян на несомненные преимущества империи и ее выгоды:
«Мы ввели много разнообразных развлечений для отдохновения души от трудов и забот, из года в год у нас повторяются игры и празднества. Благопристойность домашней обстановки доставляет наслаждение и помогает рассеять заботы повседневной жизни. И со всего света в наш город, благодаря его величию и значению, стекается на рынок все необходимое, и мы пользуемся иноземными благами не менее свободно, чем произведениями нашей страны»[40].
Но эти развлечения и отдохновения были для Перикла важны куда менее, нежели честь и слава Афин, обретенные благодаря империи, награды, вновь и вновь оправдывавшие жертвы горожан. Он просил своих сограждан: «…пусть вашим взорам повседневно предстает мощь и краса нашего города и его достижения и успехи, и вы станете его восторженными почитателями. И, радуясь величию нашего города, не забывайте, что его создали доблестные, вдохновленные чувством чести люди, которые знали, что такое долг, и выполняли его»[41]. На следующий год, когда ситуация ухудшилась и возможность окончательного поражения уже нельзя было игнорировать, Перикл вновь обратил внимание афинян на могущество и славу империи и непреходящую ценность ее достижений:
«Конечно, люди слабые могут нас порицать, но тот, кто сам жаждет деятельности, будет соревноваться с нами, если же ему это не удастся, он нам позавидует. А если нас теперь ненавидят, то это – общая участь всех, стремящихся господствовать над другими. Но тот, кто вызывает к себе неприязнь ради высшей цели, поступает правильно. Ведь неприязнь длится недолго, а блеск в настоящем и слава в будущем оставляет по себе вечную память. Вы же, помня и о том, что принесет славу в будущем и что не опозорит ныне, ревностно добивайтесь и той и другой цели… Те, кто меньше всего уязвим душой в бедствиях и наиболее твердо противостоит им на деле, – самые доблестные как среди городов, так и среди отдельных граждан»[42].
Подобные аргументы были не просто красивыми словами. Перикл произносил свою речь в критический момент афинской истории, упирал на важнейшие ценности, почитаемые его согражданами, и все, что мы знаем о нем, указывает, что он сам почитал эти ценности. Но также он был верен имперской идее – по причинам, уже не столь значимым и привлекательным для среднего афинянина. Перикл желал создать новый тип государства, который бы стимулировал стремление к эстетическому и интеллектуальному величию, присущее человеческой природе в целом и греческой культуре в частности. Афины должны стать «светочем знаний Эллады», и потому-то город привлекал в свои пределы величайших поэтов, художников, скульпторов, философов, художников и интеллектуалов. Власть и богатство, которые обеспечивала империя, были необходимым условием исполнения этой мечты, а равно позволяли оплачивать постановку пьес и исполнение великих поэм, строительство прекрасных зданий, написание картин и ваяние скульптур, украшавших город.
Это видение, эта мечта была неосуществима без империи, но империи, отличной от всех, что существовали прежде, даже от той, которую строил Кимон. Эта империя нового типа нуждалась в безопасности и средствах на гражданские расходы, которые доступны только в мирное время. При этом Афинская империя, как и все ее предшественницы, была создана мечом, и многие попросту не представляли одно без другого. Проблема усугублялась и характером Афинской империи, чья власть основывалась не на огромной армии, контролирующей громадные территории, но на военно-морском флоте, который доминировал на море. Эта необычная империя восхищала проницательных современников. Так, Старый олигарх указывал некоторые ее особые черты:
«А из тех подчиненных афинянам государств, которые лежат на материке, большие подчиняются из страха, а маленькие главным образом из нужды: ведь нет такого государства, которое не нуждалось бы в привозе или вывозе чего-нибудь, и значит ни того, ни другого не будет у него, если оно не станет подчиняться хозяевам моря. Затем властителям моря можно делать то, что только иногда удается властителям суши, – опустошать землю более сильных; именно, можно подходить на кораблях туда, где или вовсе нет врагов, или где их немного, а если они приблизятся, можно сесть на корабли и уехать, и, поступая так, человек встречает меньше затруднений, чем тот, кто собирается делать подобное с сухопутной армией»[43].
Морские силы, кроме того, способны совершать набеги на вражеские территории, наносить врагу ущерб без серьезных потерь для себя, могут преодолевать большие расстояния, недоступные сухопутному войску, могут безопасно миновать вражеские земли, тогда как сухопутной армии придется прорываться с боем, и им не нужно бояться неурожая, ибо они в состоянии получить все, что потребуется. В греческом мире, вдобавок, все враги флота уязвимы: «…у всякого материка есть или выступивший вперед берег, или лежащий впереди остров, или какая-нибудь узкая полоса, так что те, которые владычествуют на море, могут, становясь там на якоре, вредить жителям материка»[44].
Фукидид тоже восхищался морским могуществом и описывал его еще более красноречиво. Его реконструкция ранней греческой истории, излагающая хронику рождения цивилизации, трактует морское могущество как жизненно важный элемент. Сначала появляется флот, затем истребляются пираты и обеспечивается безопасность торговли. В результате начинается накопление богатств, которое приводит к возникновению городов-крепостей. Это, в свою очередь, дополнительно обогащает и позволяет создать империю, а мелкие и слабые города обменивают свою независимость на безопасность и процветание. Богатство и власть, обретенные таким способом, допускают расширение власти имперской метрополии. Эта схема отлично описывает рост Афинской империи. Однако Фукидид представляет ее как заложенную в природе вещей, неотъемлемую от любого морского господства и впервые реализованную на практике в современных ему Афинах[45].
Перикл и сам ясно сознавал уникальность морской империи как инструмента афинского величия и в канун Пелопоннесской войны призывал афинян сплотиться, восхваляя имперские блага. Война будет выиграна благодаря денежным накоплениям и владычеством над морем, где империя сулит Афинам неоспоримое превосходство.
«Если они нападут на нашу землю по суше, то мы нападем на них на море, и тогда опустошение даже части Пелопоннеса будет для них важнее опустошения целой Аттики. Ведь у них не останется уже никакой другой земли, которую можно было бы захватить без боя, тогда как у нас много земли на островах и на материке. Так важно преобладание на море!»[46]
На второй год войны Перикл витийствовал еще убедительнее, стараясь восстановить упавший боевой дух отчаявшихся афинян:
«Все же мне хочется указать еще на одно преимущество, которое, как кажется, ни сами вы никогда не имели в виду, ни я не упоминал в своих прежних речах, а именно: мощь нашей державы. И теперь я, пожалуй, также не стал бы говорить о нашем могуществе, так как это было бы до некоторой степени хвастовством, если бы не видел, что вы без достаточных оснований столь сильно подавлены. Ведь вы полагаете, что властвуете лишь над вашими союзниками; я же утверждаю, что из обеих частей земной поверхности, доступных людям, – суши и моря, – над одной вы господствуете всецело, и не только там, где теперь плавают ваши корабли; вы можете, если только пожелаете, владычествовать где угодно. И никто, ни один царь, ни один народ не могут ныне воспрепятствовать вам выйти в море с вашим мощным флотом»[47].
Эта беспрецедентная власть, однако, может оказаться под угрозой из-за двух слабостей. Во-первых, есть непреложный географический факт: метрополия этой великой морской империи – город, расположенный на материке и потому уязвимый для нападения с суши. Так как Афины не находятся на острове, местоположение города означало слабость, ибо землевладельцы не желали жертвовать своими домами и усадьбами.
Перикл это прекрасно понимал: «Подумайте: если бы мы жили на острове, – говорил он, – кто тогда мог бы одолеть нас?»[48] Но Перикл не мог позволить, чтобы природа препятствовала достижению его целей. Раз Афины сделались бы неуязвимыми, будь они островом, значит, они должны стать островом. Поэтому он просил афинян «как можно яснее мысленно представить себе такое положение, при котором нам придется покинуть нашу землю и жилища» и перебраться в город. Под защитой Длинных стен афиняне будут получать пропитание благодаря имперским поставкам и могут сколь угодно избегать сухопутного сражения. В своей чрезвычайно эмоциональной речи Перикл восклицал: «Поэтому следует не скорбеть о наших жилищах и полях, а подумать о нас самих. Ведь вещи существуют для людей, а не люди для них. Если бы я мог надеяться убедить вас в этом, то предложил бы добровольно покинуть нашу землю и самим опустошить ее, чтобы доказать пелопоннесцам, что из-за разорения земли вы не покоритесь им»[49].
Но даже Перикл не смог убедить афинян поступить подобным образом. Использование такой стратегии, основанной на холодном расчете и суровой дисциплине, которые опровергают привычные уложения и традиции, требует особых обстоятельств и особого доверия, на какое он мог лишь уповать; даже при прямой угрозе спартанского вторжения в 465–446 гг. до н. э. Перикл не сумел убедить афинян бросить их владения. В 431 г. до н. э. он все же прибегнул к этой стратегии и реализовал ее, пусть с немалыми затруднениями. Но к тому времени он получил достаточно власти, чтобы это сделать.
Вторая слабость империи была менее очевидной, однако не менее серьезной и проистекала из того самого динамизма, который сотворил морскую империю Афин. Проницательные наблюдатели, равно афиняне и иноземцы, отмечали эту особенность имперского великолепия, а также ее выгоды и опасности. Спустя много лет после смерти Перикла его воспитанник Алкивиад, призывая к походу на Сицилию, изложил свое видение империи, естественный динамизм которой возможно обуздать лишь ценой ее гибели. Афины должны пользоваться любыми возможностями расширить свое влияние, убеждал он, ибо, «как и все могущественные державы, мы также достигли могущества лишь потому, что всегда с готовностью помогали эллинам и варварам, когда они просили нас об этом. Если же мы будем хранить спокойствие или начнем длительное разбирательство, нужно ли помочь кому-нибудь как соплеменнику или нет, то, пожалуй, мало поможем распространению нашего могущества, а скорее совершенно погубим нашу державу»[50]. Подобно Периклу, он предупреждал, что Афинам слишком поздно менять свою политику; ступив на дорогу к империи, город уже не может с нее сойти – либо мы правим, либо нами правят. Алкивиад пошел и еще дальше, уверяя, что Афинская империя обрела силу, не позволяющую ей остановиться, – некую внутреннюю силу, которая не признает пределов и стабильности: «…если государство останется совершенно бездеятельным, то, подобно всякому другому организму, истощится, и все знания и искусства одряхлеют. Напротив, в борьбе оно будет постоянно накапливать опыт и привыкнет защищаться не только на словах, а на деле. Вообще же я совершенно убежден, что именно государство, всегда чуждавшееся бездеятельности, скорее всего может погибнуть, предавшись ей; думаю, что в наибольшей безопасности живут те люди, кто менее всего уклоняется в политике от стародавних обычаев и навыков, даже если они и не совершенны»[51].
В 432 г. до н. э., пытаясь убедить спартанцев объявить войну Афинам, жители Коринфа прибегли к тем же доводам, связав динамичный характер империи с нравами самих афинян. Они противопоставили спокойствие, бездеятельность и оборонительную доктрину спартанцев опасной агрессивности афинян:
«Вероятно, вам еще никогда не приходилось задумываться о том, что за люди афиняне, с которыми вам предстоит борьба, и до какой степени они во всем не схожи с вами. Ведь они сторонники новшеств, скоры на выдумки и умеют быстро осуществить свои планы. Вы же, напротив, держитесь за старое, не признаете перемен, и даже необходимых. Они отважны свыше сил, способны рисковать свыше меры благоразумия, не теряют надежды в опасностях. А вы всегда отстаете от ваших возможностей, не доверяете надежным доводам рассудка и, попав в трудное положение, не усматриваете выхода. Они подвижны, вы – медлительны. Они странники, вы – домоседы. Они рассчитывают в отъезде что-то приобрести, вы же опасаетесь потерять и то, что у вас есть. Победив врага, они идут далеко вперед, а в случае поражения не падают духом. Жизни своей для родного города афиняне не щадят, а свои духовные силы отдают всецело на его защиту. Всякий неудавшийся замысел они рассматривают как потерю собственного достояния, а каждое удачное предприятие для них – лишь первый шаг к новым, еще большим успехам. Если их постигнет какая-либо неудача, то они изменят свои планы и наверстают потерю. Только для них одних надеяться достичь чего-нибудь значит уже обладать этим, потому что исполнение у них следует непосредственно за желанием. Вот почему они, проводя всю жизнь в трудах и опасностях, очень мало наслаждаются своим достоянием, так как желают еще большего. Они не знают другого удовольствия, кроме исполнения долга, и праздное бездействие столь же неприятно им, как самая утомительная работа. Одним словом, можно сказать, сама природа предназначила афинян к тому, чтобы и самим не иметь покоя, и другим людям не давать его»[52].
Перикл решительно оспаривал подобную точку зрения. Он не верил, что Афинская морская империя должна расширяться безгранично и что демократическая конституция и блага империи совместно сформировали афинского гражданина, который не способен успокоиться и насытиться. Это не означает, что Перикл не видел опасностей чрезмерного честолюбия. Он знал, что некоторые афиняне мечтают завоевывать новые земли, особенно в западном Средиземноморье, на Сицилии, в Италии и даже в Карфагене. Но он был решительно против дальнейшего расширения империи, что и продемонстрировали его последующие действия. В ходе Пелопоннесской войны он неоднократно предостерегал афинян от попыток раздвинуть границы империи. Еще показательно, что о грандиозном имперском потенциале морского флота он заговорил всего лишь за год до смерти, когда афиняне впали в уныние и им требовалась моральная поддержка. Ранее Перикл воздерживался от подобных заявлений – не только, как он сам сказал, избегая хвастовства, но, в основном, чтобы не допустить разжигания чрезмерного аппетита.
Если даже Перикл и грезил втайне о расширении империи, катастрофический исход египетской кампании середины 450-х, кажется, убедил его в тщетности этих грез. Провал похода потряс империю до основания и поставил под угрозу безопасность Афин. С тех пор Перикл последовательно отвергал любые проекты экспансии и старался избегать неоправданного риска. Он явно считал, что рассудок способен подчинить «непокорные страсти», сохранял империю в существующих границах, а также использовал имперские доходы ради иной, безопасной, но, возможно, еще большей славы, чем греки знали прежде. Перикл считал Афинскую империю достаточно крупной и полагал ее расширение ненужным и опасным. Война с Персией закончилась, и теперь успех планов и политики зависел от стремления и умения поддерживать мир со спартанцами.
Таким образом, Периклова оборона Афинской империи представляла собой комплексную стратегию. Афиняне подавляли и предотвращали восстания в союзных городах угрозой применения флота и демонстрацией готовности его использовать, как было на Эвбее в 446–445 гг. до н. э., на Самосе в 440 г. до н. э. и в других местах. В то же время политика управления империей строилась на суровости, но не на жестокости, в отличие от той, к которой прибегли после смерти Перикла в 429 г. до н. э. Его преемники убили всех мужчин и продали в рабство женщин и детей в Скионе и на Мелосе. Ни Кимон, ни Перикл никогда не допускали такого зверства. Перикл, советуя направлять союзников твердой рукой, сопротивлялся призывам к дальнейшему расширению империи, ибо опасался, что это поставило бы под угрозу все достигнутое. Наконец, он продолжал убеждать своих противников в Афинах и других греков, что Афинская империя необходима, ее существование морально оправданно и не несет угрозы прочим эллинским государствам. Фукидид сомневался в способности демократии сдерживать собственные амбиции и умеренно долго жить по-имперски, но полагал, что это возможно при чрезвычайных обстоятельствах – и при таком лидере, каким был Перикл.
Дополнительная литература
Характер и черты Афинской империи лучше всего описаны в классическом обзоре Рассела Мейггса «Афинская империя» (Oxford: Oxford University Press, 1972); также отметим работу Малькольма Макгрегора «Афиняне и их империя» (Vancouver: University of British Columbia Press, 1987) и исследование П. Дж. Роудса «Афинская империя» (Oxford: Oxford University Press, 1985). Различные точки зрения по поводу того, кем были древние афиняне – империалистами-эксплуататорами или просвещенными демократами, защищавшими бедняков через пропаганду народного правительства, – изложены в работе Лорен Дж. Сэмонс «Империя Совы: афинская финансовая империя» (New Haven, CT: Yale University Press, 2000); см. также статью Дональда У. Брэдина «Популярность афинской империи» (Historia, 9, 1960: 257-69). Дж. Э. М. де-Сен-Круа наиболее убедительно отстаивает роль Афин как благонамеренного защитника низших слоев общества; см. его статью «Характер Афинской империи» (Historia, 3, 1954: 1-41). Эту статью дополняет классическая работа по финансам Афинской империи «Пятый век Афинской империи: платежный баланс» М. И. Финли в сборнике «Империализм в древнем мире» (под ред. П. Д. Гарнси и К. Р. Уиттакера, Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
20
Фукидид 1, 97.
21
Фукидид 3, 10.
22
Фукидид 1, 99.
23
Цит. по: Строгецкий В. М. Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н. э. (478–431 гг.) СПб.: Изд-во С. – Петерб. ун-та, 2008.
24
Фукидид 5, 105.
25
Фокилид, фраг. 5.
26
Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития, 2, 7–8. Эта работа ложно приписывалась историку Ксенофонту, настоящий автор неизвестен. Его обычно называют «Старым олигархом», подчеркивая антидемократический тон сочинения, но мы не знаем ни даты, ни цели этой книги. Сегодня по стилистическим характеристикам текста сочинение датируется приблизительно 420-ми гг. до н. э.
27
Цит. по: Афиней. Пир мудрецов, 1, 27e-28а. Перевод Н. Т. Голинкевич.
28
Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития, 1, 18.
29
Диодор Сицилийский. История, 12, 4–6. Перевод В. С. Соколова.
30
Рафаэль Сили. «Перикл вступает в историю». Гермес, 84, 1956: 247.
31
Эдуард Мейер. Forschungen Zur Alten Geschichte, вып. 2 (Halle: Max Niemeyer, 1899), 19–20.
32
Плутарх. Перикл, 17, 1.
33
Некоторые ученые сомневаются в подлинности постановления собрания. Обсуждение проблемы см. у Рассела Мейггса. Плутарх не приводит дату указа, но последовательность действий, изложенная здесь, соответствует таковой в истории.
34
Плутарх. Перикл, 12, 2.
35
Плутарх. Перикл, 12, 3–4.
36
Фукидид, 1, 72.
37
Фукидид, 1, 75.
38
Фукидид, 1, 76.
39
Фукидид, 2, 63.
40
Фукидид, 2, 38.
41
Фукидид, 2, 43.
42
Фукидид, 2, 64.
43
Псевдо-Ксенофонт, 1, 2–3.
44
Псевдо-Ксенофонт, 2, 4–6, 11–13.
45
Фукидид, 1, 4-19.
46
Фукидид, 1, 143.
47
Фукидид, 2, 62.
48
Фукидид, 1, 143.
49
Фукидид, 1, 143.
50
Фукидид, 6, 18.
51
Фукидид, 6, 18.
52
Фукидид, 1, 70.