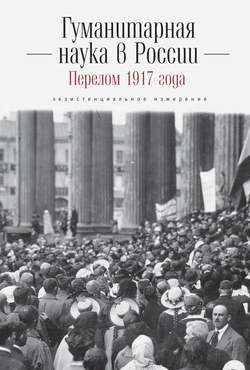Читать книгу Гуманитарная наука в России и перелом 1917 года. Экзистенциальное измерение - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 3
В сердце циклона: путь сквозь революцию
Образы бунта в творчестве М. Пришвина и В. Розанова: елецкий текст
Александр Скиперских
ОглавлениеГород Елец Орловской губернии. Елецкая мужская гимназия. 1889 год…
Данный пространственно-временной континуум стал общим для двух русских философов – Михаила Пришвина и Василия Розанова. Отношение к Ельцу как к городу для них могло совпадать – и для одного, и для другого, Елец не представлялся родным. Елец – скорее, точка, где должны быть реализованы некие жизненные стратегии. М. Пришвин приезжает в Елец учиться, а В. Розанов, наоборот, преподавать историю и географию.
Показательно, что в собственных текстах философам открывается разный Елец. И если для В. Розанова «домик в четыре окошечка, подле Введения» сразу вписывается в религиозный этнопейзаж, то М. Пришвину из окон съёмной квартиры на углу Бабьего базара открывается дорога на Чернослободскую гору, как будто предваряя странствия и скитания. Вид в окне, тщательно реконструируемый философами в автобиографической прозе и дневниках, кажется, предопределят их эстетические и этические выборы. Данные выборы различны, а в каких-то случаях и прямо противоположны. В этом тексте мы попытаемся несколько подробнее остановиться на этих различиях в восприятии двух выдающихся современников, волею случая встретившихся в Ельце.
Вообще, необходимо отметить, что этнопейзаж является некоей объективной данностью, подчиняя себе грезящего, мечтательного интеллектуала, и выступая для него некоей сдерживающей рамкой. Существование данных барьеров, в принципе, является неким проявлением власти, исподволь оказывающей влияние на общество, и приучая его к воспроизводству определённой модели поведения. В этом можно увидеть некую системность, потому как «господство над пространством и пребывающими на нём людьми посредством барьеров и всевозможных ограничений было признаком власти и гарантией безопасности» [4,474].
В полной мере это может распространяться и на фигуры В. Розанова и М. Пришвина, проявляющиеся для внимательного исследователя в обрамлении елецкого этнопейзажа. Елецкий этнопейзаж притягивал и взгляд И. Бунина, которому город откроется практически в одно и то же время с периодом знакомства Розанова и Пришвина. Вспомним, как в «Жизни Арсеньева» религиозный этнопейзаж обусловливал языковой мир героя И. Бунина: «Там при въезде в него древний мужской монастырь… Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола» [5, 107–109].
Религиозный этнопейзаж пронизывает городской топографический паспорт вне зависимости от времени суток, или от времени года, вторгаясь в грёзу субъекта о местах родных и близких. Вот почему И. Бунин однажды напишет об особенностях елецкой погоды(не забывая, впрочем, разглядеть в снежных, метельных полчищах своих моральных соглядатаев): «Иногда по целым неделям несло непроглядными, азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни» [5, 116].
Так уж вышло, что на елецкий текст В. Розанова и М. Пришвина накладывает свой отпечаток конфликт, произошедший между ними на одном из уроков географии. Конфликт был настолько серьёзен, что М. Пришвину пришлось пережить исключение из гимназии в марте 1889 года.
Вместе с тем, представляется довольно интересным, что география – розановский предмет, наверное, был едва ли ни самым интересным для Пришвина по сравнению с другими предметами. Об этом есть свидетельство писателя в автобиографической «Кащеевой цепи», когда он вспоминает, что в его кондуите «единицы стояли как ружья». «Знаешь, из тебя что-то выйдет», – слова, однажды сказанные Розановым – Пришвину на уроке географии [11, 66].
С этого момента, постепенно, М. Пришвин заставляет обращать внимание на себя, хотя стремление к защите собственного «я» отмечалось им и ранее: «С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за собственное имя» [11, 8]. В этом откровении скрывается довольно серьёзная претензия на способность отстаивания своего права формулировать смыслы. Здесь важен и публичный контекст – право на дискурс не может утверждаться вне этого контекста. Видимо, случай с В. Розановым как раз и представляет собой попытку попрания собственной исключительности, самости, индивидуальности.
В этом смысле Розанов и Пришвин представляются своеобразными максималистами. С той лишь разницей, что В. Розанов – консерватор противопоставляется М. Пришвину – марксисту. Мечтательный и богобоязненный Розанов – человеку действия – Пришвину, симпатизировавшему нарождавшимся в России левым течениям, ставившим под сомнение существовавший политический порядок. То, что для В. Розанова являлось своеобразной мечтой, вынашиваемой в течение всей жизни (созерцание ускользающего «Востока»), для М. Пришвина оказалось делом каких-то недель (прогремевшее на весь Елец бегство в Азию-Америку).
Безусловно, учитель не мог не оценить подобной дерзости своего ученика. Потаённый бунт В. Розанова во всех смыслах проигрывает волевому акту молодого гимназиста. Сложно представить, что в дальнейшем со стороны В. Розанова не последовало каких-либо экивоков по этому поводу, тяжело переносившихся молодым Пришвиным. Можно согласиться с А. Варламовым, отмечавшим, что В. Розанов, как «автор журналов с противоположными политическими позициями, человек, взбаламутивший общественное сознание своими ни на что не похожими книгами, едва не отлученный от церкви горячий христианин и печальный христоборец был по натуре великим подстрекателем и провокатором, и впечатлительный Курымушка вполне закономерно пал его жертвой» [6].
Переводя это на язык современной культуры, можно сказать, что Пришвину пришлось испытать на себе тонкие передёргивания и «маньеризм» Розанова – его своеобразный «троллинг». Кстати, в своих воспоминаниях на эту черту Розанова указывает и А. Белый: «При встрече меня он расхваливал – до неприличия, с приторностями, тотчас в спину ж из “Нового времени” крепко порою отплёвывал» [3, 480].
Здесь, вероятно, мы сталкиваемся с ситуацией противопоставления амбивалентности В. Розанова некоторой цельности М. Пришвина, выражающей его юношеский максимализм, не допускающий никакого обсуждения за спиной.
Стремление к бунту (демонстрации собственного «я») словно нарастает в Пришвине. После громкого бегства – ещё более скандальное отчисление из-за недвусмысленных угроз гимназическому географу. Юный М. Пришвин как будто подтверждает серьёзность своих намерений, а также последовательность в достижении целей. Уже после отчисления М. Пришвина из гимназии, страхи В. Розанова за свою жизнь кажутся небезосновательными. С молодыми марксистами шутки плохи – В. Розанов интуитивно понимает серьёзность своего крамольного ученика.
Страхи Розанова очевидны, иначе он не делился бы ими с близкими и знакомыми, иначе ему не приходится покупать «трость для защиты от юного барича» [15, 200–201].
Так, в цикле «Смертное» (1913) Розанов упоминает о разговоре со своей невестой Варварой Дмитриевной Бутягиной весной 1889 года: «В Ельце кой-что мне грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер» [13, 54].
Достаточно подробно о произошедшей ситуации В. Розанов сообщает в письме к Н. Страхову от 21 марта 1889 года: «3-го дня и со мной случился казус: поставил я ученику 4-го класса, не умевшему показать на карте о. Цейлон, двойку. Он пошел на место, сел, а потом встал и говорит: “Если меня из-за географии оставят на 2-й год, я все равно не останусь в гимназии, и тогда с Вами расквитаюсь”, и еще что-то, я от волнения не расслышал: “Тогда меня в гимназии не будет – и Вас не будет”; поговорил и сел. Через несколько минут встает: “Я это сказал в раздражении, когда я раздражаюсь – никогда не могу себя сдерживать, и прошу у Вас извинения”» [15, 200–201]. Изложенные В. Розановым события в данном письме практически в точности воспроизводятся и в докладной записке на имя директора гимназии, представленной ему днём ранее.
Чувствуется, что тема гимназиста Пришвина могла проявляться в диалогах В. Розанова с другими представителями философского и литературного сообщества. Так, в своём очерке «О понимании» А. Ремизов также пересказывает случившийся конфликт В. Розанова с его учеником [1,228–229].
Спор двух интеллектуалов уже был, так или иначе, раскрыт в научной, краеведческой и художественной литературе [7; 8 и др.]. Прогремевший на весь провинциальный Елец, конфликт В. Розанова и М. Пришвина остался в памяти ряда свидетелей и участников. В частности, в тексте «Главный доктор республики» советского драматурга С. Ласкина, посвящённого Н. Семашко, причиной конфликта выступает не совсем достойное для учителя поведение в отношении именно Н. Семашко – будущего Наркома здравоохранения СССР. В том же тексте М. Пришвин как бы вступается за своего гимназического друга, чем вызывает возмущение В. Розанова.
В этом очерке мы не претендуем на детальное описание конфликта, его точную хронологию и уточнение особенностей поведения сторон – это предполагало бы тщательные краеведческие штудии. Наша задача – попытаться рассмотреть данный конфликт как некую логическую точку пересечения этических и эстетических мировоззренческих траекторий. Именно в данной точке могло быть актуализировано различие творческих и гражданских биографий интересующих нас фигур. Данный конфликт, казалось бы, претендующий на оценку в педагогическом контексте, на самом деле, имеет под собой несколько иные основания. Его, на наш взгляд, правильнее рассматривать в политическом контексте. Различие политических взглядов поспоривших интеллектуалов, постепенно доносящееся до нас в их текстах, отчасти, может служить неким доказательством выдвинутой нами гипотезы.
Как в современной России тема присоединения Крыма поляризует общественный дискурс, так и отмеченные нами темы не могли не вызывать у интересующих нас интеллектуалов справедливой рефлексии.
На наш взгляд, можно выделить две темы (государство и царь), подтверждающие политические несовпадения В. Розанова и М. Пришвина. Конечно, оценки государства и места царя могли даваться ими позже, чем произошёл данный конфликт. Тем не менее, вряд ли интересующие нас интеллектуалы могли с точностью до наоборот поменять свои представления о данных институтах. Богобоязненность Розанова, сочетающаяся с уважением государства, равно как и бунтарство Пришвина, его увлечения марксизмом, стремление стоять за собственную правду и отсутствие пиетета в отношении начальства – это тот «капитал», с которым интеллектуалы вошли в конфликт в Елецкой гимназии. Этот конфликт носил фундаментальный характер, раскрывая серьёзные различия, существовавшие между Розановым и Пришвиным.