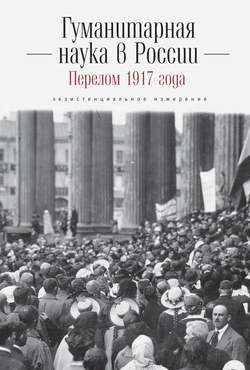Читать книгу Гуманитарная наука в России и перелом 1917 года. Экзистенциальное измерение - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 5
В сердце циклона: путь сквозь революцию
Образы бунта в творчестве М. Пришвина и В. Розанова: елецкий текст
Александр Скиперских
Царь
ОглавлениеОб уважительном отношении В. Розанова не только к государству, но и к фигуре царя свидетельствует хотя бы такое его высказывание: «Царь строил Россию, но и Россия строила царя. И как трудно поколебать Россию, так же трудно поколебать царя». Или: «Царь, что Солнышко: то сияет, то скроется. Так и день: то ясный, то хмурый» [14, 445].
Если для Розанова политический порядок, схватывающийся монархом и гарантирующийся им, кажется предписанным и неизменным, то для Пришвина здесь остаются определённые вопросы и недоумения. Царь – живой человек, поэтому он смертен. Вместе с остановкой жизни царя, вполне логично должно останавливаться сердце государства. Вспомним хотя бы фразу из «Кащеевой цепи»: «Царя убили, и опять стал царь, большой, с бородой».
Видимо, взгляды на фигуру царя двух интеллектуалов разнятся в силу диалектики «фундаментального» и «эпизодического». Царь для В. Розанова фундаментален, именно он центрирует политический порядок, пронизывая его своими предписаниями, имеющими силу высших законов. Что касается М. Пришвина, то царь для него – обычный смертный человек, обладающий телом, которому суждено постепенно утрачивать свою мощь и силу. Уход царя означает уход прежнего порядка, гарантом которого он являлся, а также наступление периода некоторой неопределенности.
Рассматриваемое нами несоответствие между представлениями В. Розанова и М. Пришвина можно усилить обращением к тексту Э. Канторовича «Два тела короля», где тело короля оказывается двоичным – вечным в юридическом смысле (монаршее правление, законы, предписания и т. д.), и смертным в физическом смысле [18]. Смертность тела царя вовсе не означает юридическую смерть – институт престолонаследия моментально компенсирует внезапный уход монарха из жизни вступлением на престол нового. Таким образом, для Розанова актуально юридическое тело, для Пришвина – тело физическое.
Пришвин оказывается материалистичнее своего оппонента. В его текстах больше отсылок именно к природе, к сути вещей. Как справедливо отмечает Т.Я. Гринфельд: «Пришвин-материалист более доверяет естеству, прекрасное для него не только “энергия”, но и “сознание” растительного и животного царства… В.В. Розанов в понимании прекрасного – “антропоцентрист”, у М.М. Пришвина же природа эстетически равна человеку» [9, 32].
Государство и царь, отсюда, конструируются интеллектуалами в зависимости от того, как они центрируют самих себя в пространстве. И если у Розанова можно встретить: «Царь собрал Русь. Устроил Русь. Как мне ему не повиноваться. Я пыль» [9, 520], то для Пришвина более предпочтителен натуралистический и в каком-то смысле даже анархистский взгляд на проблему власти и подчинения.
Для В. Розанова всё стекается к государству – его подвижный ум моментально политически оформляет практически любые рассуждения; у Пришвина, наоборот, рассуждения «убегают» от государства в сторону природы, в сторону натурального порядка вещей. Особенно актуально данное наблюдение для текстов последнего, созданных в уже зрелом возрасте: несмотря на свою относительную резкость и бескомпромиссность, М. Пришвин старается избегать оценки тех или иных политических событий и обсуждения конкретных политических персоналий.
Это различие мировоззренческих картин споривших между собой интеллектуалов во многом объясняет сам их конфликт и его истоки. Безусловно, противоречия между В. Розановым и М. Пришвиным не стоит понимать исключительно в контексте несовпадения восприятия ими политического. Можно предположить, что они вызваны и разницей в их темпераментах, в свою очередь, отразившихся на их творчестве, на манере письма. Относительно стройный текст М. Пришвина, обогащённый блистательными описаниями, противопоставляется «розановской клоч-коватости». Как отметил А. Синявский: «Розанов пишет не афоризмами, а клочками афоризмов, и сохраняет эту кл оч ко ватость мысли и стиля» [15, 181]. «Монументальность» писательской манеры противопоставляется «ртутной» всеядности журналиста – «идиотического унтера» на службе в печатном издании.
Правда, несмотря на различия в восприятии тех или иных феноменов (в частности, государства и царя), между философами могли существовать и сходства. Сходства, на наш взгляд, касаются определённых табуированных тем, которые в силу различных причин не всплывают в текстах интеллектуалов. Скажем, если В. Розанов не позволяет себе критиковать монарха, то в период советской государственности М. Пришвин также стороной обходит личности советских вождей. Подобная тактика интеллектуалов в своё время была довольно чётко определена И. Берлиным в эссе «Молчание в русской культуре». Действительно, разве пиетет, с которым Розанов относится к самодержавию и царю, в каком-то смысле не напоминает молчание Пришвина, практически не упоминавшего имя Сталина в своих текстах? Ни один, ни другой философ не смогли избежать участи быть молчащими. По справедливому замечанию А. Эткинда: «В советское время, лишённый возможности говорить о народе, Пришвин говорил уже только о природе» [17, 414].
В случае спора В. Розанова и М. Пришвина имеет значение культурный контекст, предопределяющий их поведение и выбор. Образ самого города, где было суждено им пересечься, его особый культурный ландшафт может стать довольно «говорящей» декорацией, определённым образом располагавшей их к «производству культуры». Действительно, «именно культурный контекст легитимирует бунт, артикулируя энергию бунтующего человека на тех или иных целях. Именно с помощью культурного контекста можно приблизиться к пониманию содержания самого человеческого отказа, к структуре произнесённого бунтующим человеком: “нет”» [23, 18].
Таким образом, первый опыт знакомства интеллектуалов, состоявшийся в Ельце, был не совсем позитивным. На первый взгляд, имеющий очевидные педагогические формы конфликт учителя и ученика в каком-то смысле мог наполняться и их мировоззренческими различиями. Общественный резонанс, который получил этот конфликт, в любом случае, не мог быть капитализирован ни В. Розановым, ни М. Пришвиным. Но, с другой стороны, полученный ими опыт мог стать определённым шансом на иску пление для двух этих творческих натур, всеми силами стремящихся доказать, как себе, так и другим, свою правоту.