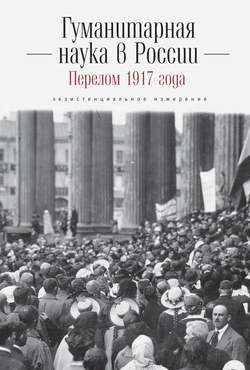Читать книгу Гуманитарная наука в России и перелом 1917 года. Экзистенциальное измерение - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4
В сердце циклона: путь сквозь революцию
Образы бунта в творчестве М. Пришвина и В. Розанова: елецкий текст
Александр Скиперских
Государство
ОглавлениеДля Розанова, безусловно, государство представляет собой один из самых важных политических институтов. Политическое кредо писателя легко реконструируется по одному только дневниковому признанию 1914 г.: «Моё дело любить государя и повиноваться ему» [14, 200].
Государство – аппарат насилия и принуждения, и Розанов ни в коем случае не опровергает данный тезис. Несмотря на свою текучесть и парадоксальность, отношение к государству как к политическому институту у В. Розанова остаётся достаточно ровным. Сказалась, видимо, и определённая законопослушность В. Розанова, не решающегося оспаривать право государства на формулирование смыслов.
Показательна и оценка В. Розановым самого аппарата принуждения и его институтов. Речь идёт об армии, позиция которой по отношению к правящему классу, по сути дела, является одним из важнейших факторов политической легитимации власти. Несмотря на свойственную В. Розанову неровность в рассуждениях, общая линия остаётся неизменной. Офицеры должны служить государству, выступая его «телохранителями» в тех ситуациях, отмечает В. Розанов в «Мимолётном», когда «несчастные жители государства или «подобного отечества» находятся в состоянии постоянного желания восстать» [14, 409–410].
Показательно его высказывание и по поводу того, как должен вести себя офицер в ситуации измены: «Изменники подзуживают солдат не повиноваться, когда офицер пьян, когда офицер – трус. Хотя, “офицер” не может быть трус. Во всех подобных случаях пьяный или трусливый офицер должен расстрелять солдата и критика и тем – спасти отечество. Самому же – отправиться на гауптвахту» [14, 220].
Розанов – сторонник жёсткой руки. Его стиль хоть и предполагает некий «троллинг», насмешку, но, тем не менее, он полностью готов оправдать и авторитарный режим. Революционные схемы он не принимает. В них нет смысла, поскольку власть уже есть, и её следует терпеть. «Навести жерла на весь этот маскарад и озорство и испепелить всё… всех…», – вот какое должно быть решение всех политических карнава-лизаций [14, 222].
Что касается М. Пришвина, то у него, безусловно, трудно найти подобное послушание власти. Семья Пришвина была в меньшей степени богобоязненна, и формировавшая его характер среда также не была склонна к почитанию власти. Напротив, ближайшие родственники Пришвина испытывают стремление как-то менять существующий порядок вещей, ставя под сомнение государственное устройство России того времени.
Так, ближайшая родственница Пришвина Евдокия Николаевна, получив образование в Сорбонне, связывается с народовольческим «Черным переделом». После ликвидации организации она решает заняться просветительской деятельностью. Она уезжает в имение Пришвиных, где в деревне открывает школу, «на свои деньги купив столы, скамейки, сняв флигель в одном из имений Елецкого уезда» [6].
Педагогические опыты родственницы Пришвина сложно будет оценить позитивно. По странному стечению обстоятельств, либо по определённой предначертанности русской культуры, многие ее ученики как раз и становятся охранителями государственной машины. Вот отчего так грустно звучит ее признание в «Кащеевой цепи»: «Среди моих учеников уже есть два попа, семь диаконов, двенадцать полицейских» [19]. Вот так «в люди» выходят ученики сельских школ в России, создавая опору полицейской системе, усиливая репрессивную машину.
Проблема восприятия государства тесным образом сообщается с проблемой восприятия религии, церкви как таковой. Церковь интегрирует государство, и, наоборот, государство интегрирует церковь. Здесь, среди поспоривших в Елецкой гимназии интеллектуалов, также сложно обнаружить консенсус. Государство свято и царь свят. Если для В. Розанова религия есть нечто свершившееся – готовый нарратив, то для М. Пришвина вера остаётся вопросом самостоятельного поиска. Именно с этим, видимо, связывается его увлечение народным православием, сектами.
Конфликт В. Розанова и М. Пришвина в гимназии в Ельце проецируется как бы на сам город и на ощущение себя в нём каждой из сторон конфликта. Отсюда, наверное, и проистекает некая генеральная линия рассуждений о политике. Репрессивный елецкий текст прослеживается в оценках В. Розановым государства и политического порядка, равно, как и в самом факте возвращения «блудного сына» в то место, откуда ему пришлось уходить в поисках лучшей доли. Показательна дневниковая запись Пришвина от 13 октября 1919 года: «Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым» [18]. По иронии судьбы, М. Пришвину приходится оказаться в статусе своего бывшего обидчика, к которому, кстати, к этому времени он уже не испытывал неприязни. Даже, наоборот, был в каком-то смысле благодарен за преподнесённый урок.
С точки зрения некоторых авторов, опыт отношений Розанова и Пришвина «интересен не только тем, что оба защищали свое человеческое достоинство, и каждый из них был честен в своих действиях и помыслах. Это был опыт переживания образовательного события как культурного» [7]. Видимо, сторонам конфликта приходилось не раз реконструировать сам елецкий конфликт и пытаться его по-новому моделировать.
Изменение взгляда М. Пришвина на елецкий гимназический конфликт в каком-то смысле созвучно с репликой В. Розанова, брошенной М. Пришвину во время встречи в Петербурге: «Голубчик Пришвин, простите меня, только это пошло Вам на пользу» [8]. В. Розанова довольно часто могли третировать произошедшим конфликтом (А. Ремизов, Н. Страхов, возможно, даже и 3. Гиппиус), да и постепенное взросление М. Пришвина, его появление в литературных и философских кругах столицы не могли не возвращать В. Розанова к елецкому тексту.
Возвращение в Елец М. Пришвина было показательным с точки зрения политической цикличности. Репрессивная государственная машина оказывается сильнее отдельно взятого характера, и со временем расправляется с человеческой гордостью и юношеским свободолюбием. Тем самым, подчёркивается некая всесильность политической власти, которая, по мнению Р. Барта, «гнездится в любом дискурсе, даже если он рождён в сфере безвластия» [2, 547]. Власть обладает онтологической природой – это понимает В. Розанов. Но, вместе с тем имеет место и диалектический двойник власти – сопротивление. И это прекрасно понимает М. Пришвин, всеми силами пытаясь ускользать к периферии политического пространства, где сигналы власти менее ощутимы.