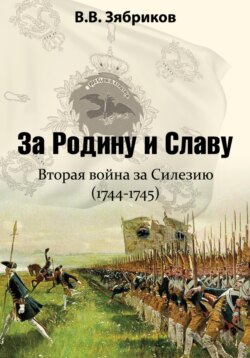Читать книгу За Родину и Славу. Вторая война за Силезию (1744-1745) - - Страница 4
Часть I
Мирные годы
Глава III. Секрет королевы
ОглавлениеВормсский договор стал триумфом английской дипломатии и лично лорда Картерета, завершив работу по разрушению французской системы союзов в Италии и Германии и созданию на её месте широкой коалиции во главе с Великобританией. Как писал Картерет: «Ожидания французского двора обмануты этим более чем можно было себе представить, так как он до последнего времени был убеждён, что это великое дело состояться не может; что, напротив, удастся образовать союз между Францией, Испанией и королём сардинским». Однако данный успех был обеспечен уступками со стороны австрийского союзника, и чем больше английское министерство требовало от Вены, тем громче там были слышны голоса протеста и требования компенсации за понесённые потери. В Вене чувствовали себя оскорблёнными и открыто говорили, что Австрия не видит никакой пользы в союзе, который отнял у неё Силезию, заставил пойти на уступки в Италии и теперь делает невозможным передачу Баварии, а заявленная цель этого союза – унижение Франции и возвышение Австрийского дома – стала предметом для горьких насмешек. Подлинный руководитель австрийской внешней политики барон Бартенштейн (Bartenstein) был противником дальнейших уступок Англии. Венский двор, по его выражению, уже находился от Англии в такой же зависимости, в какой император Карл VII находился от Франции и что, как Франция, натравливая германских князей на Австрию, заставляет немцев убивать немцев, так и Англия, каждый раз требуя уступок ради продолжения войны с Францией, уничтожает одних католиков руками других.
В 1743 году все, кроме прусского, проекты раздела владений австрийских Габсбургов, окончились неудачей. Верхняя Австрия, Моравия, Богемия были освобождены от неприятеля, Бавария захвачена, Пруссия и Саксония отошли от союза, а в Италии после заключения договора с Сардинией сложился временный паритет сил. 12 мая Мария-Терезия короновалась в Праге короной Святого Вацлава, а 28 июня приняла присягу у сословий Верхней Австрии. Повсюду она раздавала милости, а дворянам, ранее принявшим сторону Карла-Альбрехта Баварского, была объявлена амнистия. Возвращение Марии-Терезии в Вену состоялось одновременно с прибытием известия о победе Прагматической армии при Дёттингене, и было встречено ликованием жителей. Старый Хофбург, в последние два года живший в тревожном ожидании, вновь наполнился жизнью. Королева Мария-Терезия, уверенная в помощи Провидения, была охвачена воинственным пылом. Её победоносные войска двигались к Рейну, Бавария была повержена, а в Италии испанцы остановлены под Кампо-Санто. В Империи друзья Австрии вновь подняли голову, и первая же вакансия после смерти курфюрста Майнцского досталась австрийскому кандидату графу Остейну, который вместе с архиепископской тиарой получил должность эрцканцлера и сделался вторым лицом в Империи, что не замедлило повлечь серьёзные последствия.
Королева Венгрии и Богемии Мария-Терезия и Великий герцог Тосканский Франц-Стефан с сыном, будущим императором Иосифом II.
Также и в другой части Империи Австрия вскоре смогла добиться существенных дипломатических успехов. Результаты Первой Силезской войны для Саксонии, несмотря на понесённые большие финансовые и человеческие потери, совершенно не соответствовали ожиданиям. В «Трактате о разделе»[29] королю Августу были обещаны Моравия с королевской короной и Верхняя Силезия, но по мирному договору он не получил ничего. В Дрездене были крайне недовольны таким жалким результатом и стремились использовать сложившееся внешнеполитическое положение к своей пользе. При этом важнейшими побудительными мотивами, определяющими внешнюю политику саксонского министерства и лично графа Брюля, были ревность к успехам прусского короля, сумевшего отстоять для себя Силезию, и обида за то, что король Фридрих смог добиться этого ценой жертв, принесённых Саксонией. Не менее сильным мотивом был страх перед ростом могущества Пруссии, владения которой теперь разделяли Саксонию и Польшу.
Сложные отношения и конкуренция между странами в этой части Германии, не позволяли рассчитывать на договорённость с Берлином в отношении давней цели Веттинов – объединении польских и германских владений и создании наследственной монархии. Король Фридрих использовал мирное время для укрепления армии и строительства крепостей, что внушало в Дрездене всё больше беспокойства. Как было сказано выше, все попытки саксонского министерства получить компенсацию от Австрии за военные потери закончились неудачно. Такой же результат имели попытки дрезденского двора играть роль посредника в примирении враждующих сторон. План министра Брюля по созыву общеевропейского конгресса, одним из условий которого было предоставление территориальных выгод Саксонии, был категорически отвергнут лордом Картеретом, заявившим, что намерен добиваться мира с мечом в руках. Такой ответ был вполне ожидаемым, так как Англия теперь служила главной двигательной силой этой войны и мир, по мнению английского министра, мог быть заключен лишь при английском посредничестве и на английских условиях. Также было очевидно, что Австрия, за чей счёт должны были быть предоставлены эти выгоды, не захочет ничего слышать о претензиях Саксонии на какие-либо компенсации.
Однако Саксония, с её второй по силе армией в Германии и значительным весом в европейских делах, играла важную роль в политических расчётах. Для Великобритании, после окончательного разочарования в перспективах вовлечь короля Фридриха в войну с Францией, было тем более важно обеспечить участие Саксонии в антибурбонской коалиции, а также использовать короля Августа вместе с Россией для защиты Ганновера, если в Берлине примут решение выступить на стороне Франции. По сходным причинам позиция дрезденского двора была важна и для Австрии. Памятуя о прежнем опыте договорённостей с королём Фридрихом, в Вене вынуждены были учитывать возможность нового нападения со стороны прусского короля, из-за чего сближению с Саксонией уделялось особое внимание. Кроме того, учитывая тесные связи Дрездена с Петербургом, король Август мог повлиять на отношения Австрии с Россией, где влияние венского двора после известного «дела Ботта-Лопухиных»[30] значительно уменьшилось. Восстановление военной силы Саксонии, армия которой уже к концу 1742 года была увеличена до 46 000 человек, также делало дрезденский двор ценным союзником. Однако австрийское министерство настораживал ярко выраженный антипрусский характер предлагаемого сближения. 10 августа 1743 года саксонский посланник Флемминг (Flemming) получил следующие инструкции от министра Брюля: «Тогда мы не будем нуждаться ни в Англии, ни в Голландии, которые могут лишь наблюдать за французами, чтобы удерживать их в своих границах; в то время как сил австрийцев, ганноверцев, саксонцев и русских, не считая поляков, будет вполне достаточно, чтобы вернуть короля Пруссии в границы справедливости».
Первый министр короля Польского и курфюрста Саксонского граф Брюль (1700–1763).
Саксонский министр предлагал объединиться на основе плана вице-канцлера Бестужева, выработанного им вместе с английским послом в Петербурге Вейчем, предусматривавшего создание Четверного союза Англии, Австрии, Саксонии и России, направленного против Пруссии. Но венский двор в это время был озабочен совершенно другими вопросами, главным из которых был вопрос о компенсации, и там не были намерены провоцировать короля Фридриха заключением наступательного союза против Пруссии. Кроме того, в Вене сильно тяготились английским посредничеством, за которое пришлось заплатить большую цену, и опасались, что на новых переговорах английское министерство потребует новых уступок, на этот раз в пользу Саксонии. Ещё 30 апреля Васнеру из Вены был отправлен рескрипт, в котором содержатся примечательные строки: «Мы имеем обоснованные причины опасаться, что (они) ждут лишь заключения трактата с Сардинией, чтобы затем, с тем же упорством требовать о Нас жертв Саксонии, которые хотели бы представить незначительными, но которые, на самом деле, являются очень важными».
В отношении территориальных претензий Саксонии в секретном рескрипте Васнеру рассматривались два варианта развития событий. Первый предусматривал, что Пруссия также будет соблюдать мирный договор и тогда помощь Саксонии не понадобится, а, следовательно, не будет повода к территориальным уступкам. Второй вариант предполагал, что, в случае нарушения Бреславльского мира со стороны короля Фридриха, Саксония могла получить земли во вновь отторгнутой от Пруссии Нижней Силезии. Удовлетворившись, за неимением лучшего, этими туманными перспективами, саксонский двор согласился заключить оборонительный договор с Австрией. Данное соглашение, имевшее в своей основе договор от 1733 года, было подписано в Вене 20 декабря 1743 года новым руководителем австрийской внешней политики графом Ульфельдом (Ulfeld) и саксонским посланником графом Бюнау (Bünau). Договор содержал обязательства взаимной военной помощи в случае нападения на одну из сторон, возобновление гарантии Прагматической Санкции, а также предоставление прохода через земли Богемии и Моравии в Польшу для короля Августа с эскортом в 1 200 человек. Кроме того, саксонская сторона освобождалась от обязательств к поставке контингента против Франции, так как эта война уже шла на момент подписания данного договора[31]. Стороны условились пригласить к участию в договоре короля Великобритании, как курфюрста Ганноверского, и Россию. Несколькими месяцами позже, в мае 1744 года, когда возникла действительная угроза войны с Пруссией, данный договор был расширен дополнительной конвенцией, в которой помощь в случае нападения устанавливалась в 20 000 человек для Саксонии и в 30 000 человек для Австрии. Таким образом, обе стороны заручились поддержкой друг друга на случай атаки со стороны прусского короля, и в Вене могли с тем большей уверенностью готовиться к началу весенней кампании 1744 года на Рейне, от которой ожидали больших результатов.
После катастрофы в Баварии весной 1743 года маятник войны качнулся в обратную сторону, и непосредственная угроза нависла уже над самой Францией. Там понимали, что из державы-протектора, стоявшей над схваткой, Франция может вскоре превратиться в объект атаки, причём защищаться ей придётся в одиночестве, так как единственные союзники, Испания и император Карл, сами нуждались в помощи. Всё громче раздавались голоса в пользу начала мирных переговоров и вывода войск из Германии. В этих условиях в Версале было принято решение первыми сделать шаги к примирению. Одним из таких шагов стало оглашение на открытии Рейхстага 26 июня 1743 года послания Людовика XV. В нём французский монарх заявлял, что не ставит целью территориальные захваты в Империи, что его армии являются вспомогательными для императора и ведут военные действия против Марии-Терезии лишь, пока она сама воюет с Карлом VII. В послании говорилось также, что император готов заключить с королевой Венгрии и Богемии мир, после чего Франция выведет свои войска из Германии.
О французских мирных предложениях мы подробнее поговорим позже, а сейчас остановимся на протестации Вены, направленную в Имперскую канцелярию в ответ на этот французский демарш. В ней австрийская сторона, ссылаясь на исключение богемского голоса на выборах императора Карла VII, впервые заявила о непризнании итогов этих выборов, официально называя императора лишь курфюрстом Баварским. Также здесь было заявлено о необходимости компенсировать Австрийскому дому потери, понесённые им в этой войне. Венский двор в самом начале 1743 года, то есть ещё при жизни прежнего эрцканцлера, уже пытался опубликовать через Имперскую канцелярию этот документ, но безуспешно. Сейчас граф Остейн сделал то, на что не решился покойный архиепископ, и уже 23 сентября огласил протестацию Марии-Терезии перед Имперским собранием, после чего, согласно законам Империи, она сделалась официальным имперским документом.
В Германии поднялся ропот недовольства таким неуважением к своему императору, но решение эрцканцлера изменить уже было нельзя[32]. Этим документом, оглашение которого во Франкфурте Карлайл называет поворотным событием этой войны, венский двор открыто готовил почву к решению двух главных своих задач – возвращение императорского титула Габсбургскому дому и аннексия Баварии в качестве компенсации за потерю Силезии и вероятных уступок в Италии. Венский двор, используя выражение лорда Картерета, был намерен «удерживать Баварию без лишних слов». Серьёзность этих намерений была продемонстрирована в сентябре 1743 года, когда, несмотря на протесты Карла VII, было отдано распоряжение о приведении к присяге Марии-Терезии сословий Баварии и Верхнего Пфальца, а в Мюнхен был назначен австрийский штатгальтер. Кроме того, австрийскими оккупационными властями был объявлен призыв баварской милиции для службы в армии королевы в Италии, а Мария-Терезия денонсировала Нидер-Шёнфельдскую конвенцию[33]. А ведь не прошло и двух лет с тех пор, как исполненный самых радужных надежд Карл-Альбрехт Баварский принимал присягу у богемских сословий в Праге.
Однако, осуществление плана по присоединению Баварии, как ни желательным было это событие для венского двора, оказалось чрезвычайно сложной задачей. Добиться согласия со стороны баварского курфюрста и императора Карла VII было невозможно, а насильственное лишение германского императора его наследных владений вызвало бы возмущение чинов Империи. Кроме того, возникал вопрос о новых землях для несчастного Карла VII, которые должны были ему достаться вместо утраченной Баварии. Предложение передать императору Австрийские Нидерланды, штатгальтером которых был когда-то его отец Максимилиан Баварский, было отвергнуто сразу, так как в этом случае там резко усилилось бы влияние Франции, чего никогда не допустили бы ни Англия, ни Голландия. Выше уже упоминалось о предложении сардинского двора передать безземельному императору корону Неаполя и Сицилии, но этот план, устраивавший Австрию и Сардинию, встретил категорический отказ со стороны Англии. Резидент Виллетс в Турине выразил желание сардинской стороны, но у английского министерства на этот счёт были свои соображения. Если король Сардинии был против возвращения Неаполя и Сицилии Австрии и хотел воцарения там слабого Карла VII, а в Вене решительно не хотели возвращать тому Баварию и были заняты поиском подходящей для неё замены, то Англия, хотя и была согласна предоставить Марии-Терезии соответствующую компенсацию за потерю Силезии, отказывалась одобрить присоединение Баварии, опасаясь реакции на такой произвол со стороны прусского короля Фридриха.
Прусский король не скрывал своих симпатий к императору и имел все основания опасаться объединения Баварии с Австрией, что сильно сместило бы баланс сил в Германии в пользу венского двора. Исходя из тех же причин в Лондоне отказались от плана, предложенного лордом Стайром, по созданию для императора Карла VII королевства из восточных территорий Франции, прежде входивших в состав Священной Римской империи (Эльзас, Лотарингия, Франш-Конте)[34]. Осенью 1743 года адмирал Мэтьюз, ссылаясь на отсутствие конкретного приказа[35], отказал в помощи Марии-Терезии против Дона Карлоса, зная, что одних австрийских войск будет недостаточно для захвата Неаполя. Лорд Картерет вполне определённо высказался о перспективах передачи Неаполя Карлу VII в обмен на Баварию, назвав это «пустой идеей», а Робинсон в Вене откровенно высказал Бартенштейну, что данная схема совершенно невыполнима. Такая позиция союзника вызвала протест со стороны австрийского министра, который заявил Робинсону, что «Его Неаполитанское Величество находится в своём королевстве в такой же безопасности, как и король в Англии», добавив, что это доказывает нежелание Англии изгнать короля Неаполя обратно в Испанию. Таким образом, на Аппенинах сложилась парадоксальная ситуация, когда Великобритания, ведя войну с Испанией, отказала своему австрийскому союзнику в помощи против испанского союзника короля Неаполитанского, опасаясь, что смещение баланса на полуострове в пользу Австрии может повлиять на позицию Его Сардинского Величества, игравшего ключевую роль в антибурбонской коалиции в Италии. Внутри выстроенной Англией сложной системы антибурбонской коалиции, в состав которой входили прежние конкуренты, такие как Австрия и Сардиния, существовал значительный потенциал для конфликта, так что английскому министерству приходилось лавировать для поддержания между ними определённого баланса[36].
Однако, лишив Австрии надежды на возвращение Неаполитанского королевства и присоединение Баварии, Лондон должен был взамен предложить венскому двору приемлемую компенсацию. Счета за потерю Силезии, отказ от Баварии и Неаполитанского королевства должны были оплатить в Версале. Сразу после поражения французской армии в Богемии союзники начали разработку плана по отторжению у Франции недавно приобретённых ею имперских земель. Согласно вышеупомянутому плану лорда Стайра, из Лотарингии, Бара, Трёх Епископств (Мец, Туль, Верден), Эльзаса и Франш-Конте планировалось создать королевство для императора Карла VII, тогда как Бавария должна была быть передана Марии-Терезии. Но твёрдая позиция короля Фридриха вынудила лондонский кабинет изменить данный план и вместо Баварии предложить Марии-Терезии в качестве компенсации за утерянную Силезию вернуть герцогства Лотарингию и Бар[37]. По выражению герцога Бель-Иля, англичане хотели «отнять у нас Эльзас и Лотарингию, чтобы вознаградить себя и поставить нам мат». Правовую основу для возврата Лотарингии венский двор оформил ещё летом 1742 года, объявив, что Франция, выступив против законной наследницы императора Карла VI Габсбурга, нарушила обязательства по гарантии Прагматической Санкции, одного из условий уступки Лотарингии, после чего договорённости, оформленные в Венском мире 1738 года, были лишены законной силы. И бездействие Прагматической армии после сражения при Дёттингене летом-осенью 1743 года было одним из рычагов давления на австрийского союзника с целью вынудить его оставить прочие намерения и употребить все силы против Франции, заставив, тем самым, Версаль подписать унизительный мир на условиях союзников.
Этим надеждам придавалось тем большее значение, что военное положение Франции к концу 1743 года было угрожающим. Окончательное подчинение Баварии, порученное фельдмаршал-лейтенанту Беренклау (Bärenklau), было завершено с капитуляцией последних франко-баварских гарнизонов в Ингольштадте и Штройбинге. 7 сентября 1743 года фельдмаршал-лейтенант Коловрат (Kolowrat) принял капитуляцию гарнизона Эгера, после чего в тылу австрийских войск более не оставалось ни единого вражеского солдата. В это время главные силы во главе с принцем Карлом Лотарингским, опираясь на крепости Передней Австрии и, в первую очередь, на Фрайбург (Freiburg), подошли к Рейну. С высокой башни кафедрального собора в Страсбурге уже можно было наблюдать развевающиеся знамёна с орлами австрийской армии, но развития наступления не последовало.
Австрийский план вторжения во Францию, разработанный Кевенхюллером и представленный на одобрение Его Британского Величества в конце июля, предусматривал атаку с трёх сторон. Армия Карла Лотарингского должна была переправиться через Рейн в Верхнем Эльзасе и попытаться отрезать от Эльзаса и Бургундии французские войска маршалов Ноайля и Куаньи (Coigny). Планировалось, что Прагматическая армия будет наступать в Нижнем Эльзасе и перейдёт Рейн у Майнца, а голландский корпус – действовать от Трира. Для обсуждения будущих военных операций к Юпитеру Европы в штаб-квартиру Прагматической армии в Ганау в сопровождении фельдмаршала Кевенхюллера прибыл принц Карл Лотарингский. Военное положение выглядело настолько благоприятным, что Кевенхюллер высказывал твёрдую уверенность, что, в случае принятия данного плана, армия разместится на зимних квартирах во французских Эльзасе, Лотарингии и даже Бургундии[38]. Несмотря на возражения Нейпперга, опасавшегося разделения союзных сил, а также, так как основная тяжесть операции ложилась при этом на австрийскую армию, король Георг и союзный генералитет, в конце концов, одобрили предложенный план[39].
Однако политическая комбинация лорда Картерета в Италии ещё не была завершена и, чтобы вынудить венский двор пойти на уступки, Прагматическая армия замедлила военные операции. Несмотря на все представления и протесты со стороны Вены и настояния лорда Стайра, король Георг выдвинулся из Вормса на Шпейер лишь в конце сентября, то есть, после подписания Вормсского договора. Но уже слишком поздно, чтобы дать возможность осуществиться амбициозному плану Кевенхюллера. Военная целесообразность в очередной раз уступила политическим соображениям, а раздосадованный лорд Стайр после горячего разговора с лордом Картеретом подал в отставку, получил её и покинул армию, чтобы, по его собственным словам, вернуться к плугу[40].
Вернувшись из Ганау, принц Лотарингский к 14 августа собрал армию между Фрайбургом и Альт-Брайзахом (Alt-Breisach) и начал подготовку к переправе через Рейн. Однако так как эти приготовления продвигались очень медленно, маршал Куаньи, руководивший обороной реки на данном участке, успел принять необходимые меры и укрепить возможные места переправы. Обе попытки австрийской армии переправиться через реку, предпринятые 3 сентября у Альт-Брейзаха и Рейнвейлера (Rheinweiler) закончились неудачей. Лишь лёгкие войска под командованием полковника Менцеля и генералов Бараньяи (Baranyay) и Трипса (Trips) наводили ужас в приграничных французских территориях. К этому времени относится наделавший много шума манифест Менцеля, озаглавленный «К подданным Королевы во Франции», повсюду распространяемый его гусарами и обращённый к жителям Эльзаса, Лотарингии, Трёх Епископств и Франш-Конте, в котором он объявлял об освобождении их от «невыносимого французского ига» и призывал к восстанию. Манифест, впрочем, не достиг цели, так как одновременно Менцель грозил рассматривать сопротивление австрийским войскам в этих областях как неповиновение законному государю, за что обещал карать смертью. Маршал Ноайль отправил против Менцеля войска под командованием генерала Бершиньи (Berchiny), перед которым тот вынужден был ретироваться.
Принц Карл Александр Лотарингский (1712–1780). Командующий австрийской армией и брат супруга Марии-Терезии Франца-Стефана Тосканского. Мария-Терезия называла своего деверя Alter (лат. – второй, другой), имея в виду, что «первый» был её муж Франц-Стефан.
В середине октября Прагматическая армия, после медленного марша вперёд от Вормса к Шпейеру, повернула обратно к Рейну. Напрасно принц Карл Лотарингский настойчиво предлагал встать на зимние квартиры вдоль французских границ, чтобы облегчить начало следующей кампании. Англичане и голландцы настаивали на отступлении в Нидерланды, где можно было занять удобные квартиры, и даже угрозы герцога Аренберга, что он с австрийскими войсками останется на границе, не смогли изменить этого решения. Оказавшись в одиночестве, принц Карл был вынужден прекратить активные военные операции. Он распорядился срыть укрепления Альт-Брейзаха, занять сильным гарнизоном Фрайбург и разместил свои войска на зимних квартирах в Передней Австрии и Баварии. Несмотря на неубедительное завершение, общий итог кампании 1743 года в Германии был явно не в пользу Франции. Плохие новости в это время приходили в Версаль и из Италии. На севере полуострова войска бурбонской коалиции потерпели тяжёлое поражение при попытке прорваться через горные альпийские проходы, а на юге, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Англии и Сардинии, новому австрийскому командующему князю Лобковицу (Lobkowitz) удалось оттеснить войска сменившего Монтемара графа Гажа (Gages) к Пезаро и 20 октября занять Римини.
Потеря Баварии, поражение при Дёттингене, оставление Германии и, наконец, опасность вторжения в сами французские земли и угроза потери провинций, некоторые их которых уже давно было принято считать не только бесспорно французскими, но даже не приграничными (Франш-Конте, Три Епископства) – с такими вызовами королевство не сталкивалось со времён кошмара войны за Испанское наследство. Смерть в январе 1743 года кардинала Флери нанесла ещё один удар по внешней политике Версаля, лишив в кризисный момент французский кабинет министров его главы. Ещё в начале 1743 года, то есть сразу после печального завершения Богемского похода и потери Праги, французское министерство через своего агента в Базеле запросило австрийского посланника в Швейцарской конфедерации маркиза фон При (Prie) о том, какова будет реакция в Вене на мирные предложения со стороны Франции. Но так как французская сторона при этом поставила условие, что данные консультации должны будут вестись без участия Англии, венский кабинет даже не ответил на этот запрос.
Летом 1743 года, после потери Баварии, поражения при Дёттингене и приближения вражеских армий к границам королевства, французские предложения стали более определёнными. В конце июля 1743 года Бартенштейн получил от субинтенданта Страсбурга по имени Хатсель (Hatsel) два письма. В них венскому двору предлагалось прекратить военные действия и объединить усилия для возвращения Австрии Силезии, а также содействие в выборе эрцгерцога Иосифа римским королём, для чего у Версаля имелись все возможности, учитывая зависимость императора Карла VII от Франции. Из депеши Васнера в Вене также узнали, что Хатсель был отправлен ко двору близкого к австрийскому двору курфюрста Майнцского, чтобы предложить ему принять посредничество при переговорах с Австрией. Одновременно во Франкфурт из Лиссабона был переведён один из самых ловких французских дипломатов того времени шевалье де Шавиньи, а в Турине королю Сардинии были сделаны выгодные предложения. В этой связи, необходимо ещё раз упомянуть о послании короля Людовика Рейхстагу, которое также необходимо расценивать, как попытку примирения. Все эти дипломатические манёвры дали основания прусскому министру графу Подевильсу (Podewils) написать королю Фридриху: «Где-то идут большие переговоры».
Одновременно с попытками примирения с основными своими противниками французский кабинет пытался расширить число своих союзников. В этой связи было решено попытаться вновь договориться с прусским королём, побудить его вмешаться в войну и, тем самым, отвлечь неприятельские силы от французских границ. Положение было тяжёлым, и срочная необходимость в помощи отодвинула на задний план воспоминания о жестоком оскорблении, нанесённой королём Фридрихом французской короне в Бреслау. Однако прусскому королю настолько хорошо удавалось скрывать свои намерения за нарочитым равнодушием, что никто не смог до конца понять его замыслы. Английский и французский посланники, Гиндфорд и Валори (Valory), в июне-августе 1743 года отправляли к своим дворам депеши одинакового содержания – не надейтесь получить от этого человека ничего, что бы он вам не говорил; он будет действовать только, когда твёрдо будет знать, на чьей стороне сила или когда он почувствует угрозу своим личным интересам. Но пока король Фридрих демонстрировал свою отстранённость и непредвзятость ко всему происходящему. «Я ни за кого во всём этом, – сказал король, узнав о поражении французов при Дёттингене, – мне нравится наблюдать этих людей в бою и мне абсолютно всё равно, кто победит». Но одно было ясно – король Фридрих неустанно работал над восстановлением и усилением своей армии и укреплением крепостей, как в Силезии, так и на Рейне, готовясь к любому развитию событий и старательно дистанцируясь от обеих противоборствующих сторон. В этой ситуации, когда на официальные дипломатические каналы надежды не было, в Версале решили прибегнуть к помощи человека, как казалось, далёкого от большой политики.
Деликатное поручение должен был исполнить известный французский литератор и философ Вольтер, который в это время, находясь в немилости, жил в небольшом поместье на границе Шампани и Лотарингии вместе со своим интимным другом и музой, известным французским математиком и физиком маркизой дю Шатле (Châtelet). Идея использовать для тайной миссии известного писателя, по-видимому, исходила от знаменитого герцога Ришелье и государственный секретарь по иностранным делам (Amelot) возлагал на неё большие надежды. Французская сторона предполагала использовать близкие отношения Вольтера с прусским королём, с которым литератор давно поддерживал оживлённую переписку, несколько раз встречался и неоднократно получал от прусского короля приглашения ещё раз посетить берлинский двор. В юности, будучи ещё кронпринцем, Фридрих восхищался трудами Вольтера, а тот, получив известие о заключении мира в Бреслау, даже направил королю Фридриху восторженное письмо с поздравлениями. После такого открытого восхваления монарха-клятвопреступника, в адрес которого вся Франция в то время посылала брань и проклятия, его репутация честного человека и доброго гражданина была сильно подорвана. Кроме того, ранее Вольтеру уже приходилось исполнять подобного рода поручения кардинала Флери. К примеру, в 1740 году, когда кардиналу необходимо было выяснить планы молодого короля, или осенью 1742 года, когда также с заданием узнать намерения Пруссии он прибыл в Ахен, где в это время находился на отдыхе король Фридрих. С мая 1743 года с Вольтером велись переговоры и консультации, в результате которых литератор согласился, по его собственному выражению, покинуть Минерву ради Апполона и превратить своё изгнание в секретную миссию, получив за это обещание предоставить ему кресло во Французской академии наук[41].
Так как сохранение в тайне истинных целей данной миссии являлось необходимой предпосылкой для её успеха, в версальском кабинете было решено организовать настоящее представление. Для придания большей правдоподобности, в Париже был объявлен запрет на постановку трагедии Вольтера «Смерть Цезаря», что призвано было завершить образ гонимого свободолюбца и, тем самым, помочь тому получить должный приём в Берлине. У новоиспечённого дипломата не было ни доверительных писем, ни даже инструкций и в этой неофициальной миссии угадываются черты будущей секретной службы Его Христианнейшего Величества «Секрет короля» (Secret du Roi). В середине июня 1743 года Вольтер покинул Францию и направился в Голландию, где намеревался ожидать приглашения и паспортов от прусского короля. Остановившись в Гааге, новоиспечённый тайный агент немедленно завязал тесные отношения с посланником короля Фридриха в Республике Соединённых Провинций графом Подевильсом-младшим, племянником прусского министра. Ему удалось получить важную информацию о переговорах по поводу займа, которые прусский король вёл в Голландии. Ведение подобных переговоров указывало на существование у короля определённых финансовых затруднений, что, в свою очередь, позволяло рассчитывать на возможность привлечь его на свою сторону при помощи субсидий. Находясь в Гааге, Вольтер не пожелал оставаться бездеятельным наблюдателем и, в ожидании документов из Берлина, развил бурную деятельность на ниве дипломатии, чем доставил немало хлопот официальному французскому посланнику в Республике Соединённых Провинций маркизу де Фенелону. Однако в это время пришли необходимые бумаги, и Вольтер смог, наконец, покинуть Гаагу и направиться в Берлин.
Тёплый приём, оказанный ему королём Фридрихом, не должен был обманывать тайного посланника. Король и философ проводили многие часы за беседами, но практический результат их неизменно оставался неопределённым. На попытки Вольтера выяснить его планы прусский король отвечал уклончиво и подчёркивал, что у него нет никаких связей с Францией, что от неё он ничего не ждёт, ни на что не рассчитывает и, таким образом, не намерен инициировать переговоры первым. Вольтер сопровождал короля во время поездки ко дворам ряда германских князей, но во время этого путешествия также не смог добиться ничего определённого. Позиция короля Фридриха заключалась в том, что Франция должна оборонять себя сама, а его долг, как германского князя, состоит лишь в помощи находящемуся в тяжёлом положении императору, затруднения которого проистекают как раз от того, что Франция бросила его на произвол судьбы. 12 октября 1743 года Вольтер выехал из Берлина обратно в Брюссель, где его ждала мадам дю Шатле. Он возвращался с пустыми руками, не сумев ничего выяснить об истинных намерениях короля Фридриха, кроме того, что Его Прусское Величество старательно делал вид, будто занят лишь балами и театром.
29
«Трактат о разделе» (Partage-Traktat) – соглашение, заключённое во Франкфурте 19 сентября 1741 года под эгидой Франции, в котором Саксония присоединялась к антиавстрийской коалиции, целью которой являлся раздел земель австрийских Габсбургов после смерти императора Карла VI.
30
Заговор с целью низвержения императрицы Елизаветы и возвращения престола малолетнему Ивану VI, якобы возглавленный австрийским посланником Ботта д’Адорно (Botta d’Adorno). К заговору оказались причастны члены знатных семейств Лопухиных, Головкиных, Гагариных. В участии в заговоре была также обвинена супруга обер-гофмаршала М.П. Бестужева, брата российского вице-канцлера. Несмотря на то, что братьям Бестужевым (гофмаршалу и вице-канцлеру) удалось сохранить свои места, результатом заговора стало охлаждение отношений России и Австрии и уменьшение влияния при дворе английской и австрийской партий в пользу французской партии во главе с посланником Дальоном (d’Allion), лейб-медиком императрицы Лестоком и обер-гофмаршалом великого князя Петра Брюммером. В существовании заговора сомневались ещё современники описываемых событий. Так, по мнению английского посланника Вейча, французская партия использовала досужие беседы, которые вели «две старые сварливые женщины и пара молодых развратников», чтобы потом объявить о заговоре против императрицы и обвинить в причастности к нему Ботта, который на тот момент уже выехал из России и пребывал в Берлине.
31
Хотя официально о состоянии войны между Австрией и Францией будет объявлено несколькими месяцами позже.
32
Эти события получили название «Спора о диктатуре» (Diktaturstreit).
33
В Вене узнали, что Карл VII с началом новой кампании намерен возобновить враждебные действия против Австрии, и заключил для этого тайные соглашения с Францией и Пруссией, что было использовано как предлог для отказа от Нидер-Шёнфельдской конвенции.
34
Здесь, как нередко случалось в XVIII веке, проявил себя принцип «Convenance», как один из ключевых, наряду с Равновесием сил, принципов в международных отношениях эпохи Старого порядка, постулировавший, что территориальные изменения в Европе возможны только на основе консенсуса между ведущими державами, который мог быть достигнут при помощи некоторых уступок и компенсаций.
35
22 сентября 1743 года Мэтьюз писал австрийскому агенту в Генуе: «Хотя мне даны приказы делать всё, что от меня зависит для службы Её Величеству Королеве Венгрии, такого они не предусматривают».
36
Десятилетием ранее, во время войны за Польский трон, с подобной проблемой столкнулась Франция, когда в противоречие вступили интересы её союзников Испании и Сардинии, и под угрозу было поставлено само существование антиавстрийского союза.
37
По Венскому миру 1738 года супруг Марии-Терезии Франц-Стефан Лотарингский уступил герцогства Лотарингия и Бар бывшему королю Польши и тестю Людовика XV Станиславу Лещинскому, получив за это права на наследство Великого герцогства Тосканского после смерти последнего Медичи. Передача Лотарингии и Бара Станиславу Лещинскому во многом была условностью, позволяющей соблюсти династический порядок наследования, и после его смерти эти земли должны были быть отойти к французской короне, что и произошло в 1766 году.
38
Из письма Кевенхюллера президенту Гофкригсрата Гарраху (Harrach) от 21 июля 1743 года: «Если мы сможем договориться об этом плане, я ручаюсь своей головой, что мы займём квартиры в эльзасе, бургундии и лотарингии» (орфография сохранена – прим. авт.).
39
Принц Карл Лотарингский в письме Францу-Стефану хвалил Прагматическую армию, найдя её «великолепной и исполненной великих желаний…». Георг, по его мнению, также был настроен в пользу общего дела, но сильно зависим от своих советников. При этом принц был сильно разочарован отсутствием единства мнений в ставке командования Прагматической армии и сравнивал её штаб с республикой, где каждый имел своё мнение и, не боясь, его высказывал.
40
В разговоре с лордом Картеретом, категорический и последовательный сторонник активных военных действий, лорд Стайр, не сдержавшись, вскричал: «Я скорее размозжу себе голову выстрелом из пистолета, чем останусь здесь ожидать австрийскую армию». Покинув армию, Стайр вернулся к своим обязанностям посланника в Гааге.
41
Вернувшись из Берлина, Вольтер действительно получил прощение, место при дворе и был избран в члены Французской академии наук.