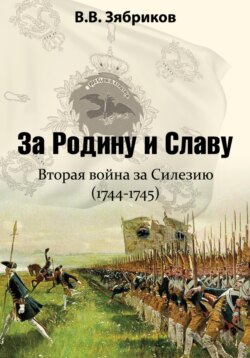Читать книгу За Родину и Славу. Вторая война за Силезию (1744-1745) - - Страница 6
Часть I
Мирные годы
Глава V. Решение короля Фридриха
ОглавлениеВ начале 1743 года французское министерство понесло тяжёлые потери. В январе друг за другом ушли из жизни государственный секретарь по военным делам Бретейль (Breteuil) и первый министр королевства кардинал Флери. Кардинал до последнего момента обманывал Европу относительно своего самочувствия, но 29 января 1743 года Франция лишилась своего министра, который, по выражению короля Фридриха, на два года пережил свою славу. После смерти старого австрийского канцлера Зинцендорфа (Sinzendorf), отставки Уолпола, изгнания Остермана ушёл последний государственный деятель той эпохи эпигонов, наступившей после войны за Испанское наследство. Смерть кардинала привела Францию в состояние растерянности. Людовик XV, который ранее был фактически отстранён от государственных дел, оставил кресло первого министра пустым, намереваясь самолично возглавить министерство. О смерти Флери он объявил, как объявляют о восшествии на престол. При дворе ходила шутка: «Кардинал умер, да здравствует король!» Однако король Людовик был молод и не имел опыта в государственных делах, так что министры оказались предоставлеными самим себе. Кардинал Тансен, которого Флери готовил себе в преемники, не обладад авторитетом своего патрона и быстро отказался от властных амбиций. Иностранные дела остались в ведении Амело, но в его решения постоянно вмешивались Тансен, Ноайль и Морепа (Maurepas). Эти министры придерживались настолько разных позиций, что их заседания часто превращались в оживлённые перепалки. Как шутили версальские насмешники, иногда они были такими шумными, что в это время можно было не услышать грома Господня. Король Фридрих также не упустил возможности съязвить по этому поводу. Однажды, когда во время одного оперного спектакля занавес не до конца опустился и остались видны ноги танцующих актёров, король Фридрих рассмеялся и сказал Валори, что это напоминает ему французское министерство – хаотическое движение ногами без головы.
Подобно настроениям в обществе, французское министерство было разделено на два лагеря. Одну партию, которую условно можно назвать «умеренной», представляли государственные секретари по морским (Морепа) и иностранным (Амело) делам, придерживавшиеся осторожной и взвешенной континентальной политики в духе покойного кардинала. Сторонники этой партии видели главную задачу французской политики в сосредоточении основных усилий на борьбе с главным врагом Великобританией. В пользу этого они готовы были отказаться от агрессивных действий в Германии и пойти на примирение с Австрией. Эта стратегия одновременно требовала тесного сближения с Испанией, флот которой позволял Версалю достичь паритета с Лондоном на море, а испанские колониальные владения были богатым рынком сбыта, где французские торговцы готовились потеснить своих английских конкурентов. Однако испанский союз, в свою очередь, также налагал обязательства помощи Мадриду в его внешнеполитических планах, которые были составлены Елизаветой Фарнезе и направлены на экспансию в Италии. Другая придворная партия, сторонники традиционной антигабсбургской политики[58], павшие было духом после поражений в Богемии, после смерти кардинала вновь подняли голову. В близком окружении короля эту партию представляли герцог Ришелье и фаворитка короля герцогиня Шатору (Châteauroux), полная желания стать при Людовике XV новой Дианой де Пуатье. Герцогиня приходилась племянницей Ришелье и крестницей Ноайля, которые привели её ко двору и представили Его Величеству. Опальный герцог Бель-Иль, пребывавший после своего бесславного возвращения из Богемии в Меце, также поддерживал тесные связи с этой придворной партией. Борьба между этими придворными группировками обострилась после поражения при Дёттингене и известия о заключении Вормсского договора и перехода короля Сардинии во вражеский лагерь, что делало положение Франции чрезвычайно опасным.
В последние годы кардиналу Флери становилось всё тяжелее сдерживать агрессивный напор сторонников войны в Германии, которые видели в кардинале препятствие для исполнения своих планов и добивались его отстранения от дел. Эта работа не прекращалась ни днём, когда короля Людовика убеждал в этом герцог Ришелье, ни ночью, когда прежняя фаворитка короля графиня де Майли уговаривала отправить в отставку этого немощного старика. Понимая, что над ним готова разразиться буря, кардинал добился согласия короля ввести в министерство две новые фигуры, которые должны были помочь ему отразить нападки противников. Граф Аржансон (не путать с маркизом Аржансоном, его старшим братом, который позже стал государственным секретарём по иностранным делам) был назначен военным министром, а кардинал Тансен был сделан министром без портфеля. Однако влияние сторонников эскалации конфликта было сильно не столько в кабинете министров, сколько в близком окружении короля Людовика и в этой борьбе партия войны одержала полную победу. Настояния Ришелье и сила обаяния герцогини Шатору увлекли молодого Людовика XV, наполнили его энергией и решимостью и внушили ему воинственное настроение. Были отданы распоряжения о проведении широких мобилизационных мероприятий, армия и флот получили приказ к активным действиям, а король даже пожелал лично возглавить армию, что должно было вселить уверенность в войска, боевой дух которых сильно упал после последних неудачных кампаний.
После подписания Второго Семейного пакта французский корпус под командованием герцога Конти присоединился к испанским войскам для вторжения в сардинскую Савойю и через Генуэзскую Ривьеру. Это создало новый фронт в Северной Италии, что отвлекло часть войск австро-сардинского союза. Положение войск антибурбонской коалиции ещё более осложнилось, когда Его Неаполитанское Величество разорвал нейтралитет и вновь вступил в войну, после чего граф Гаж перешёл в контрнаступление и вынудил Лобковица отступить за реку По. Также были активизированы действия на море, где франко-испанской эскадре, долгое время стоявшей на якоре под прикрытием пушек Тулона, было приказано прорвать блокаду. Адмирал Мэтьюз атаковал их, но неудачно и был вынужден отступить в Порт-Маон на Менорке, где несколько недель оставался в бездействии, занимаясь починкой пострадавших в сражении кораблей[59]. Активные приготовления вела в это время Франция и в непосредственной близости от английских берегов. Из Бреста к Гравелину и Дюнкерку подошла сильная французская эскадра, которая должна была прикрывать высадку первой партии десанта в 9 000 из 50 000 человек, которые были предназначены для высадки на английском побережье. Вторжение на остров должен был возглавить назначенный капитан-генералом Мориц граф Саксонский, будущий победитель при Фонтенуа, Року и Лауфельде. Эскадра насчитывала 29 линейных кораблей, тогда как у адмирала Норриса в Па-де-Кале было 25 линейных кораблей, из которых из-за нехватки команд в море мог выйти лишь 21 корабль. На помощь Англии пришёл сильный северо-восточный ветер, который разметал французскую эскадру, вынудив десант сойти на берег, а корабли вернуться в надёжный Брест. Эта неудача вызвала немало насмешек по другую сторону Канала, а английский посланник в России и будущий фельдмаршал лорд Тироли (Tyrawley) поздравил лорда Картерета с бесславным концом «смешной дюнкирхенской Дон-Кихотады».
Непосредственная угроза для Англии миновала, но исчезло и чувство неуязвимости. На Средиземном море было потеряно всё, чего удалось достичь за последние два года. Из-за угрозы вторжения Адмиралтейство не могло перевести туда ни единого корабля. Да и в самой Англии дела обстояли не лучше. Лучшие войска находились во Фландрии и в колониях и, хотя торговые круги приморских городов обязались выставить 14 кораблей, этого было недостаточно. Срочно изыскивались дополнительные средства – в эти тяжёлые для Англии дни торговцы Сити дали правительству заём в 3 миллиона фунтов, а Парламент одобрил новые гигантские суммы на содержание 40 000 матросов, 11 500 морской пехоты, 16 000 ганноверцев и 19 000 солдат для службы на острове[60]. Однако, в действительности, имелось едва ли половина от этого числа. Несколько позже, после объявления войны со стороны Франции, король Георг даже запросил помощь Пруссии на основании Вестминстерского оборонительного договора. Прусский король ответил на это, что согласен не только отправить установленное в договоре количество войск, но и лично во главе 30 000 солдат прийти на помощь, однако только если будет атакована Англия, а пока английские войска, находясь на чужой территории, сами выступают в роли агрессора. Это была явная бравада, и английское министерство отклонило такое чрезмерное предложение[61]. Также была затребована помощь у Республики Соединённых Провинций, которая по условиям оборонительного договора должна была состоять из 6 000 солдат и 20 кораблей. Однако, несмотря на одобрение этой помощи, адмиралтейства Амстердама и Роттердама были готовы поставить лишь 4 корабля и только через шесть недель. Молодой граф Подевильс писал, что морские силы в Голландии никогда ещё не были в таком жалком состоянии, как в этот период. Принимая это во внимание, неудивительно, что под впечатлением французских военных усилий партия мира в Голландии вновь приобрела в весе. Отъезд французского посланника Фенелона в декабре 1743 года был воспринят как признак готовящегося вторжения, а уже известный нам греффьер Фагель в сердцах сказал молодому Подевильсу: «Почему нам не предлагают мирного плана..? Поверьте мне, мы от всего сердца желаем мира».
Помимо непосредственной военной угрозы Франция в начале 1744 года бросила вызов самой системе английского государства, её религиозным устоям и Ганноверской династии, предложив сыну Претендента Карлу-Эдуарду Стюарту возглавить экспедицию на остров, целью которой было свержение Георга II и восстановление на английском престоле династии Стюартов. Согласно плану, разработанному кардиналом Тансеном, Молодой Претендент был призван стать знаменем, под которым должны были собраться не только сторонники Стюартов, но и все недовольные английским правительством. Из Рима, где он жил в довольно скромных условиях вместе с отцом и небольшим числом верных друзей, Карл Стюарт через Париж прибыл в Дюнкерк, но, так как буря не позволила осуществиться десанту французских войск, смелое предприятие было отложено. Появление Стюарта во Франции вызвало протест английского поверенного в делах, который на основании Утрехтского договора потребовал изгнания Молодого Претендента из королевства. Ответ Амело гласил, что Англия уже два года нарушает соглашения с Францией, и французский король считает себя вправе делать всё, что сочетается с честью и интересами Франции, не отдавая при этом отчёт сент-джеймскому двору. Логичным продолжением этой политики стало объявление королём Людовиком войны Англии 15 марта 1744 года, что покончило со странным положением вещей, когда Франция и Англия, солдаты и матросы которых сражались на суше и на море, официально продолжали оставаться в мире. Теперь положение разом изменилось. Ранее противники Франции думали, что она совершенно истощена и не сможет долго продолжать борьбу. Лорд Картерет в Ганау и сэр Робинсон в Вене в один голос утверждали, что мир с Францией или Испанией возможен в любой момент, но нужно добиться полного унижения версальского двора. Теперь Франция неожиданно вновь показала решимость сражаться, однако исход этого сражения казался всё ещё в высшей степени сомнительным.
Тем не менее, прибытие графа Ротенбурга в Париж не вызвало сенсации. Граф нашёл французский двор полностью поглощённым подготовкой к новой кампании, так что в отношении решимости Франции к борьбе надежды его государя были полностью исполнены. Но решимость эта была направлена в первую очередь против Лондона, тогда как основной целью прусского короля было сдерживание Австрии, с которой Франция пока формально находилась в мире. Граф Ротенбург обратился к герцогу Ришелье и нашёл в его лице деятельного помощника. Герцог, находясь в доверительных отношениях с герцогиней Шатору и пользуясь благосклонностью Людовика XV, сообщил им о приезде графа Ротенбурга с предложениями от прусского короля, который, однако, хотел вести переговоры непосредственно между венценосными особами, без привлечения министров. Король Людовик согласился отстранить Амело от участия в переговорах, назначив в помощь Ришелье герцога Ноайля и кардинала Тансена. Переговоры пошли неожиданно быстро. 16 марта Ротенбург написал королю Фридриху: «Мне кажется, настало время заключить договор с Францией; король, по-видимому, действительно решил забыть всё то, что произошло. Он распорядился передать императору, что даёт королевское слово не складывать оружие, пока он не даст тому удовлетворения». Вскоре от короля Людовика последовал новый знак благоволения – Ротенбург получил аудиенцию у герцогини Шатору, где его ждала встреча с Его Величеством. Вероятно, эта милость побудила графа нарушить инструкции своего короля и первому озвучить его предложения и условия, на которых король Фридрих готов был заключить новый договор с Францией. 11 марта Ротенбург изложил французской стороне шесть пунктов короля и получил на них положительный ответ. Возражения касались лишь отправки армии в Германию, что в Версале готовы были сделать только после того, как наступление прусской армии в Богемии заставит австрийцев Карла Лотарингского оставить в покое границы Франции и вернуться на защиту коронных земель.
30 марта король Фридрих направил Ротенбургу депешу, в которой, будучи очень доволен приёмом, оказанным графу в Версале, тем не менее, отчитал графа за то, что он, ослеплённый блеском Версаля, нарушил данные ему инструкции. Король напомнил, что договоры заключаются не ради удовольствий и что граф не должен был говорить первым, но дать сначала сказать другим, чтобы находиться в выигрышном положении того, с кем хотят заключить союз, не показывая, что он сам к этому стремится. Посчитав, что почва для переговоров достаточно хорошо подготовлена, прусский король также уточнил и расширил свои условия вступления в войну. Главным и непреложным условием выступления Пруссии оставались гарантии дружественной или, по крайней мере, нейтральной позиции России и Швеции, в чём Франция должна была оказать содействие через своих посланников в Петербурге и Стокгольме. Также подтверждалось условие передачи Пруссии северных округов Богемии, тогда как оставшаяся часть Богемии с Прагой должна была отойти императору. На этих условиях король Фридрих был готов атаковать Богемию и Моравию, но не ранее месяца августа, объясняя это необходимостью закончить военные приготовления.
Однако Франция должна была уже весной 1744 года начать активные действия на всех трёх театрах, в Германии, во Фландрии и в Италии, а также официально объявить войну Австрии. Этим прусский король хотел оградить себя от возможного обмана – при всех внешних знаках взаимного расположения, произошедшее в Бреслау забыто не было, и между обоими дворами продолжало сохраняться взаимное недоверие. После отхода армии Карла Лотарингского имперская армия должна была освободить Баварию. По мнению короля, совместное наступление прусской, имперской и французских армий в Германии, Фландрии и Италии лишит Австрию возможностей для продолжения войны и вынудит Вену к заключению мира. Король Фридрих готов был твёрдо придерживаться этих условий, даже если из-за этого пришлось бы отложить выступление. Особенно короля беспокоила позиция России – краеугольный камень разработанного им плана. Как он писал в «Размышлениях» 30 марта 1744 года: «Чтобы исполнить мой проект против королевы Венгрии, первым делом нужно тесно привязать к себе Россию и вовлечь её в предложенный мною план». И ниже: «Ротенбург говорит, что сейчас или никогда время объединиться с Францией; он совсем не замечает, что эта война ещё очень далека от своего завершения; что для низвержения Королевы Франция всегда будет нуждаться во мне, и что, если мои дела не устроятся таким образом, чтобы нанести удар в этом году, следующий будет не менее благоприятным». Всё зависело от вестей из Петербурга, но король рассчитывал, что ему удастся заключить союз с Россией до завершения переговоров с Францией.
Тем временем, переговоры во Франции, столь активно вопреки воле своего государя начатые Ротенбургом, продолжались. Граф почти каждый день бывал у герцогини Шатору, где он беседовал с королём Людовиком об организации прусской армии, рассказывал о победах своего государя. Король восхищался прусской дисциплиной и сетовал, что во французской армии таковой уже нет. Пример прусского короля настолько вдохновил короля французского, что Его Христианнейшее Величество решил лично возглавить поход во Фландрию и командовать войсками на поле битвы. Однако маршал Ноайль вспомнил более безопасный пример, когда король Людовик XIV командовал осадой Маастрихта. Осады редко заканчиваются капитуляцией или бегством осаждающих войск, и вместо славы Александра Великого королю Людовику пришлось пока довольствоваться лаврами Деметрия Полиоркета. Что касается практической стороны дела, то французская сторона хотела получить Ипр, срыть укрепления Люксембурга и передать Парму и Пьяченцу Дону Филиппу. Кроме того, во Франкфурте император Карл и Шавиньи согласились лишь на уступку Кёниггрецкого округа в Богемии. Но дальнейшие требования прусского короля о передаче Пардубиц (Pardubitz), равно как и городов Колин (Kolin или Neu-Kőln), Часлав (Czaslau), Куттенберг (Kuttenberg), Хрудим (Chrudim) и Гогенмаут (Hohenmauth) казались им чрезмерными. Король Фридрих был готов удовлетвориться линией Эльбы с Пардубиц, но без гарантий со стороны России, он не хотел подписывать ни единого документа, даже если бы ему предложили всю Богемию.
Хотя во Франкфурте император и проявлял некоторое упорство, во Франции, напротив, переговоры шли необычайно быстро и легко. 26 апреля 1744 года король Людовик объявил войну Австрии, разрушив, тем самым, последнюю надежду партии умеренных на сепаратный мир с Марией-Терезией, а несколько дней спустя Амело потерял уже давно шатающееся под ним кресло государственного секретаря[62]. Отставка Амело, павшего жертвой восстановления дружбы между берлинским и версальским дворами, сильно уменьшила влияние в совете графа Морепа, который уже не мог помешать воинственным намерениям своего государя. 3 мая французский король выехал к войскам, чтобы, по примеру своего прадеда, возглавить поход во Фландрию. 23 апреля вернувшийся в Гаагу маркиз Фенелон объявил Генеральным Штатам, что его государь намерен начать военные действия в Австрийских Нидерландах[63]. Версаль преобразился, и там, где раньше царили уныние и разочарование, ныне поселились решимость и сила. Серьёзность намерений Франции не вызывала сомнений и здесь всё шло согласно желаниям прусского короля.
Если успех, достигнутый во Франции, даже превосходил надежды короля, то в отношении позиции России продолжала сохраняться неопределённость. К концу апреля 1744 года, то есть, к завершению переговоров о союзе с Францией, договор о Тройственном союзе России, Пруссии и Швеции был также далёк от осуществления, как и несколько месяцев назад. Братья Бестужевы, отстранение которых от власти прусский король считал conditio sine qua non для поддержания добрых отношений с Россией, продолжали блокировать все усилия барона Мардефельда. 7 мая 1744 года король Фридрих написал Мардефельду, что, хотя императрица Елизавета не намерена чинить препятствий задуманному им большому предприятию, вице-канцлер Бестужев всегда сможет найти способ обмануть её, и пока он у власти, на Россию нельзя твёрдо рассчитывать.
Наступление тёплого сезона и приближение начала кампании оставляли прусскому королю всё меньше времени для раздумий. Необходимо было принимать решение. В этой ситуации король Фридрих решил заключить союз с Францией, не дожидаясь договора с Россией и Швецией, в надежде, что до назначенного срока выступления прусской армии удастся обеспечить, по меньшей мере, невмешательство петербургского двора. Условия договора с Францией были оговорены ещё до отъезда короля Людовика к армии. 12 мая прусский король написал письма Его Христианнейшему Величеству, герцогине Шатору и герцогу Ноайлю, который в то время фактически руководил военными и иностранными делами. В них король заверил короля Людовика и герцогиню в своей искренней дружбе и уважении, а также похвалил замысел Ноайля в сражении при Дёттингене, выразив одновременно сожаление в неудачном его исполнении. Со своей стороны, король Людовик в беседе с Ротенбургом сказал, что может понять мотивы, побудившие прусского короля заключить сепаратный мир в Бреслау, так как кардинал Флери за его спиной действительно готовил соглашение с Австрией. Но теперь, когда договор заключается непосредственно королями, никто во всём мире не сможет их поссорить и он видит в короле Пруссии доброго и верного друга. Обычные в таких случаях реверансы вежливости были сделаны и стороны могли приступить к составлению статей договора.
Граф Ротенбург и герцог Ноайль составили две мемории, одна из которых касалась военной стороны дела и содержала план кампании, а в другой стороны договаривались о совместных дипломатических шагах. Теперь, после того, как твёрдая решимость пришла на место чрезмерной осторожности, военные планы французского руководства поражали своим размахом и широтой поставленных целей. Ещё ранее, 27 марта 1744 года, фельдмаршал Секендорф предложил смелый план по наступлению 70-тысячной французской армии в Германии, целью которого был главный опорный пункт австрийских войск в Передней Австрии крепость Фрайбург. Падение Фрайбурга вынуждало австрийское руководство к возвращению операционной базы к своим границам, что обезопасило бы Францию от угрозы с востока. Но после объявления войны Англии главное внимание было перенесено от Рейна к Ла-Маншу и от проекта Секендорфа вынуждены были отказаться. Теперь, по настоянию Тансена и Морепа, в Версале намеревались нанести основной удар во Фландрии. План кампании предусматривал развёртывание главных французских сил, численностью 125 000 человек, против Нидерландов, тогда как в Италии принц Конти с 40 000 человек уже стоял у Ниццы, а в Эльзасе-Лотарингии должны были действовать маршалы Куаньи и Бель-Иль c 70 000 человек. Кроме того, в Германии французское командование могло рассчитывать на имперскую армию, числом 15–18 000 человек, стоявшей у Филиппсбурга. Считалось, что войск Куаньи, Бель-Иля и Секендорфа будет достаточно, чтобы сдерживать войска Прагматической армии и Карла Лотарингского. Прусская армия, численностью около 80 000 человек, в августе должна была вторгнуться в Богемию и Моравию, вынуждая австрийские войска Карла Лотарингского вернуться от Рейна на их защиту. Тогда имперская армия, преследуя австрийцев вдоль Дуная, должна была занять важную крепость Ингольштадт и освободить Баварию. Вторая мемория предусматривала заключение трёх договоров. Договор между императором, Пруссией, Пфальцем и Гессен-Касселем имел целью поддержать императора Карла VII и заставить Вену признать его легитимным правителем. Отдельный договор должен был быть подписан между императором и королём Фридрихом, по которому Пруссии отходили северные округа Богемии. И, наконец, между Пруссией и Францией должен был быть заключён наступательный союз. После отъезда короля Людовика и Ноайля к армии, с французской стороны эту работу продолжили кардинал Тансен и генеральный контролёр финансов Орри, который, из страха разделить судьбу Амело, принял сторону союза с Пруссией.
Король Фридрих согласился с обеими частями плана – военной и дипломатической. 13 мая в письме Ротенбургу он, выразив удовлетворение отставкой Амело, изложил свой план кампании против Австрии, начало которой должно было многих удивить. Если австрийская сторона и ожидала нападения, то она ожидала его из Силезии, так как это была единственная прусская провинция, имевшая общую границу с австрийскими землями. Но король Фридрих задумал нанести удар с другой стороны. Воспользовавшись положением вспомогательных войск Карла VII, дающих ему право прохода по всей территории империи, он решил 80-тысячной армией пройти через территорию Саксонии, войска которой не успели бы подготовиться к обороне, и вторгнуться в Богемию с неожиданного для противника направления. Для действий на силезском направлении был выделен лишь относительно небольшой корпус генерала Марвица (Marwitz). Король рассчитывал 1 сентября стоять перед стенами Праги, быстро взять город и затем продолжить наступление на Будвайз и Табор, тогда как Марвиц должен был вторгнуться из Силезии в Моравию и захватить Ольмюц, чтобы защитить новую провинцию короля от возможных атак со стороны Венгрии. При приближении армии Карла Лотарингского прусский король намеревался атаковать его, разбить и вынудить отступить в Верхнюю и Нижнюю Австрию, а самому расположиться на зимних квартирах вдоль их границ. С этих позиций король планировал начать наступление на Вену весной следующего года. Согласно данному плану, кампания 1745 года должна была венчать победоносную войну.
В письме Ротенбургу король Фридрих также выразил некоторые свои пожелания относительно дипломатических мер, которые должна была предпринять Франция. В первую очередь ему казалось важным заручиться союзом с Сардинией, которую необходимо было привлечь на свою сторону, предложив больше, чем ей было предложено по условиям Вормсского договора. Без этого, по мнению прусского короля, продвижение галлиспанцев в Италии столкнётся с бесконечными сложностями, а союз с Испанией станет слишком обременительным для всех его участников. Также король Фридрих советовал привлечь к союзу Саксонию, для чего курфюрсту Августу необходимо было предложить упомянутые ранее территории в Богемии. Кроме того, он считал необходимым использовать влияние французского посланника при петербургском дворе маркиза Шетарди на императрицу Елизавету, чтобы она вынудила курфюрста саксонского и короля польского Августа принять это предложение. На сговорчивость дрезденского двора также должно было повлиять присутствие в Саксонии прусских войск, во время их движения к богемской границе. Вместе с тем, король Фридрих не скрывал от графа Ротенбурга и своих опасений, предполагая, что после выступления Пруссии венский двор сделает в Версале заманчивые предложения. Однако король рассчитывал на верность Его Христианнейшего Величества союзническим обязательствам, а также на старое стремление Франции добиться ослабления Австрийского дома.
Тем временем, переговоры во Франкфурте о заключении союза германских князей были близки к завершению. Сопротивление императора Карла VII, упорно не желавшего передавать прусскому королю округа Колин и Пардубиц, было успешно преодолено. Ландграф Гессен-Кассельский также поставил условием своего присоединения к договору предоставление ему значительных территориальных уступок после реорганизации Империи (епископство Падерборн и даже некоторые имперские города, включая Франкфурт) и курфюршеского звания – этой извечной мечты Брабантского дома[64]. Однако королю Фридриху в личном письме удалось убедить принца Вильгельма Гессен-Кассельского отказаться пока от этих требований. 22 мая 1744 года договор между императором, королём прусским, курфюрстом пфальцским и королём шведским, как ландграфом гессен-кассельским, получивший название Франкфуртской унии, был подписан. Заявленной целью Унии являлось поддержание конституции Империи, восстановление и сохранение в ней мира и спокойствия, а также признание императора Карла VII со стороны венского двора и возвращение ему исконных владений. Споры вокруг австрийского наследства члены Унии договаривались решить путём переговоров при посредничестве имперских сословий и князей, но, в любом случае, после установления всеобщего перемирия. В сепаратной статье Франция, как гарант Вестфальского мира, приглашалась присоединиться к Унии, что и сделал именем своего короля Шавиньи. В тот же день король Фридрих ратифицировал договор.
24 июля 1744 года был подписан отдельный договор между императором Карлом и королём Фридрихом, в котором прусский король обязывался завоевать для Его Императорского Величества Богемию, за что Карл VII даровал в вечное владение ему и его наследникам округ Кёниггреца (Königgrätz) и расположенные к северу от Эльбы части округов Бунцлау (Bunzlau, совр. Болеславец), Лейтмерица (Leitmeritz, совр. Литомержице), а также владение Пардубиц с городом Колин. Император Карл гарантировал королю Фридриху всю Верхнюю Силезию и прежние завоевания, а прусский король взамен гарантировал императору Верхнюю Австрию. Франция также приглашалась к участию и присоединилась к договору в день его подписания. Однако, по требованию прусского короля, не желавшего раскрывать своих намерений до завершения военных приготовлений и выяснения позиции России, эти соглашения должны были держаться в тайне, а ратификация Унии, как и приглашение присоединиться к ней Саксонии и курфюршества Кёльн, были отложены на шесть недель. Необходимо отметить, что, несмотря на все усилия, число участников Унии со временем не увеличилось. Большинство князей Империи и имперские округа предпочли сохранить нейтралитет, не желая испортить отношения с Австрией и Англией. Также важно отметить, что в договоре об Унии содержалась статья о взаимной гарантии владений участников соглашения, включая Силезию и Глац, но политический вес стран-участников был слишком небольшим, чтобы успокоить прусского короля касательно надёжности своих недавних приобретений.
Сама по себе Франкфуртская Уния была почти безобидным союзом, но вскоре он был подкреплён более весомыми договорённостями. 5 июня 1744 года в Версале кардиналом Тансеном и генеральным контролёром финансов Орри от имени Его Христианнейшего Величества и графом Ротенбургом со стороны короля Пруссии был подписан франко-прусский договор. Согласно его статьям, король Фридрих обязывался произвести диверсию в Богемии, чтобы отвлечь австрийскую армию Карла Лотарингского от Эльзаса, а французские и имперские войска должны были его преследовать и освободить Баварию. Также французская армия должна была двинуться в Вестфалию для угрозы Ганноверу. По итогам войны Пруссия должна была получить земли в Богемии, указанные в договоре с императором от 24 июля, а Франция – ряд территорий в Австрийских Нидерландах с крепостями Ипр, Турне и Фурне. Договор содержал категорическое условие короля Фридриха о сохранении тайны и о том, что достигнутые договорённости имеют силу лишь при заключении договора с Россией и Швецией[65].
Это были, так сказать, максимальные условия, на достижение которых, вероятно, не рассчитывали ни в Версале, ни в Берлине. Ситуативный союз французского и прусского дворов основывался на одной общей цели – освобождение Баварии и недопущение гегемонии Габсбургов в Германии, что было одинаково опасно как для Пруссии, так и для Франции. Иными словами, целью возвращения Пруссии в войну было восстановление равновесия сил в Германии. Территориальные приобретения в Нидерландах и Богемии были, без сомнения, желательным сопровождением данной цели, но в политических расчётах они играли подчинённую роль. Несмотря на то, что король Фридрих считал, что территориальные приобретения в Силезии и к северу от Эльбы не могут быть достаточно защищены, пока сама Богемия остаётся под властью Габсбургов, отторжение этого королевства, равно как и важных крепостей в Нидерландах было возможно только лишь при очень благоприятном развитии военных операций.
Но даже при этом другие участники европейского концерта держав, прежде всего, Англия, приложили бы все усилия, чтобы этого не допустить. План раздела австрийских владений, который потерпел фиаско в гораздо более благоприятных политических условиях трёхлетней давности, теперь, когда на стороне Вены открыто выступили морские державы и Сардиния, был заключен договор с Саксонией, а Россия пребывала в неопределённости, казался совершенно невыполнимым. Кроме того, в Берлине и Версале, в первую очередь из финансовых соображений, не рассчитывали на продолжительный конфликт и планировали закончить войну за две военных кампании. А заключение быстрого мира было возможно лишь при возвращении к умеренным условиям, выдвинутым когда-то кардиналом Флери – признание Веной императора Карла VII с возвращением ему утерянных родовых владений. Как писал король Фридрих: «Главной моей целью во всём, что я предпринимаю, является ослабление Австрии и поддержка и возвышение императора; если бы не эти два пункта, то я охотно бы отказался от всех территориальных требований и предпочёл остаться в стороне». Таков был конец переговоров, которые, по выражению маркиза Аржансона, велись с прусской стороны с большой ловкостью, а с французской – с большой глупостью, так как интриги придворных партий поставили Францию перед угрозой войны на два фронта – во Фландрии и в Германии.
Выражаясь языком поэтов, франко-прусский договор был подписан под аккомпанемент осадных орудий армии Его Христианнейшего Величества, которая в это время открыла кампанию во Фландрии. Эта кампания была ознаменована первыми победами французского оружия и взятием ряда «барьерных крепостей» – Менина (4 июня), Ипра (22 июня), форта Кнокке (29 июня) и Диксмейде ((Diksmuide) 30 июня). В то же время герцог д’Аркур (Harcourt) от Мааса угрожал Монсу и Шарлеруа (Charleroi). Присутствие в армии Людовика XV вновь придало уверенности французским солдатам и офицерам, ожидавшим теперь, что их король будет воевать также энергично, как и охотиться. С приездом короля, французская армия вновь обрела единоначалие, были устранены разногласия и интриги между маршалами, оказавшие губительное воздействие на военные операции 1741-43 годов[66]. Во Фландрии, где предполагалось нанести главный удар, были собраны лучшие французские войска, но это делалось за счёт других театров военных действий и позже привело к плачевным последствиям. Объявив войну и атаковав «барьерные крепости», Франция вступила в полномасштабный конфликт с морскими державами и Австрией, что успокоило прусского короля, опасавшегося быть обманутым после своего возвращения в войну.
Примечательной особенностью франко-прусского договора стала дата его заключения. Ровно в тот же день двумя годами ранее был заключен прежний договор между двумя государями, который утратил силу после выхода Пруссии из войны сепаратным миром летом 1742 года. Но на этом удивительные совпадения не заканчиваются. Как весной-летом 1741 года король Фридрих нуждался в мощном союзнике, который отвлёк бы от него часть австрийских сил, так теперь Франции, была необходима помощь прусского короля, войска которого могли нанести неожиданный удар по незащищённым австрийским владениям и вынудить принца Карла Лотарингского спешно вернуться для обороны коронных земель. Как ранее в Потсдаме ждали месяца августа, на который было назначено выступление армии маршала Бель-Иля, так и теперь в Версале ждали наступления того же месяца, который король Фридрих определил для начала боевых действий прусской армии.
После того, как политическое решение было принято и нашло своё оформление в официальном договоре, вступление Пруссии в войну стало неизбежно и оставалось лишь вопросом времени. Для обсуждения детального плана кампании и координации военных усилий в курортный Пирмонт (Pyrmont), где в это время находился король Фридрих, прибыл бывший марешаль-де-ложи армии Богемии граф де Мортань (Mortaigne). Теперь, в чине имперского фельдмаршал-лейтенанта, он находился при армии Карла VII. Ещё со времён боевых действий в Богемии король знал Мортаня, как друга маршала Бель-Иля и сторонника активных действий против Австрии. 8 июня король и граф Мортань встретились в парке, где граф передал Его Величеству письмо от императора и замечания герцога Ноайля к плану кампании. Замечания эти касались, прежде всего, реакции союзников на возможные действия армии Карла Лотарингского. Герцог оговаривал, что если принц Карл останется с армией стоять у Гейльбронна (Heilbronn), с французских войск снимается обязательство по немедленному наступлению, так как переправа через Рейн на виду у австрийской армии была бы слишком рискованной. В этом случае герцог Ноайль предлагал сначала дождаться результатов прусской диверсии в Богемии, а когда принц Карл двинется против этого нового неприятеля, переправиться через Рейн и его преследовать. Имперская армия должна быть пополнена до 28–30 000 человек и готова к выступлению к 15 июля. Карл VII хотел, чтобы прусская армия начала наступление к этому же сроку. Также французская сторона была категорична в вопросе атаки Ганновера, на которую, при таком широком размахе, не хватило бы ни сил, ни средств и настаивала на том, чтобы Пруссия вступила в войну, по крайней мере, в июле 1744 года.
Эти предложения вызвали у короля Фридриха недовольство и подозрения. Они означали, что французская сторона намерена была сначала дождаться вступления Пруссии в войну и лишь затем действовать самой. Опасность заключалась в том, что если французы и имперцы не будут активно преследовать отступающую армию принца Карла, принц придёт в Богемию раньше, чем прусские войска смогут взять Прагу. Таким образом, король оказывался бы запертым перед лицом сильного противника на тесном пространстве между Эльбой и Силезией с ограниченными возможностями для снабжения своей армии. Он был бы поставлен перед выбором либо атаковать из невыгодной позиции австрийскую армию, имевшую опору в бастионах Праги, либо бесславно отступить в Силезию. И здесь также можно усмотреть удивительное сходство с событиями двухлетней давности. Тогда король, призывая французскую армию в Богемию, пытался избавиться от фельдмаршала Нейпперга, а сейчас сам вынужден был исполнять отвлекающую роль. Но тогда поход на Прагу для французов и их союзников закончился удачным штурмом, и шедшая на сикурс австрийская армия вынуждена была смириться с этим результатом. Теперь же, когда от взятия Праги зависел исход всей кампании, союзники должны были удерживать Карла Лотарингского как можно дольше, чтобы тот не пришёл в Богемию прежде, чем падёт её столица.
Сомнения прусского короля подтвердил граф Мортань, когда, в сообщении маршалу Бель-Илю о результатах этой встречи, он, в частности, написал, что Его Прусское Величество опасается, что Франция бросит его «когда он поднимет щит». В результате обсуждения стороны сошлись на том, что французы ограничатся взятием Фрайбурга в Передней Австрии и останутся на Верхнем Дунае. Прусская армия после взятия Праги должна была продвинуться до Табора и Будвайза и на этих позициях ожидать подхода принца Карла Лотарингского, которого будут преследовать имперские войска фельдмаршала Секендорфа. Затем король Фридрих рассчитывал атаковать и разбить австрийцев в сражении и занять зимние квартиры в Богемии. Прусский король согласился с датой выступления 15 июля, с условием, что к этому сроку будет заключен договор с Россией и Швецией. По возвращении Мортаня, прусский посланник во Франкфурте Клинггреффен сообщил королю, что Шавиньи остался доволен достигнутыми договорённостями, и теперь его тревожила лишь позиция русского двора.
Но в это время на Рейне произошли важные события, которые изменили планы прусского короля и заставили его нарушить поставленные им же условия и вступить в войну до завершения дипломатической подготовки. В конце июня 1744 года принц Карл Лотарингский открыл кампанию решительными действиями и, переправившись через Рейн у Майнца, угрожал вторжением в Эльзас и Лотарингию. Переправа произошла в зоне ответственности имперских частей, что впоследствии дало французской стороне повод обвинять фельдмаршала Секендорфа в предательстве. Французских войск оказалось недостаточно, чтобы помешать наступлению австрийцев, и теперь маршал Куаньи вместе с имперцами, в спешке отступал к Страсбургу, открыв для австрийских войск дорогу на Лотарингию.
Карл Лотарингский находился в зените славы. Даже король Фридрих сравнивал его с Юлием Цезарем и принцем Евгением Савойским, назвав операцию по форсированию Рейна образцом переправы через реку на виду у неприятеля[67]. Маршал Куаньи не мог сопротивляться численному превосходству противника, и настоятельно нуждался в подкреплениях, которые могли быть взяты лишь из фландрской армии. Какая польза была от французских успехов в Нидерландах, если теперь придётся останавливать там операции и переводить большую часть войск в Лотарингию для отражения австрийского наступления? Кроме того, такая сложная передислокация могла занять 3–4 недели, а в это время принц Карл мог захватить Эльзас и сломить, тем самым, недавно проявившуюся в Версале волю к борьбе. В таких обстоятельствах можно было опасаться выхода Франции из войны на условиях обмена захваченных «барьерных крепостей» на Эльзас и признания Франца-Стефана римским королём, после чего венский двор получал бы свободу рук для возврата Силезии. К этому стоит прибавить, что франко-прусский договор ещё только ждал ратификации, а заключение Тройственного союза России, Швеции и Пруссии стало почти невозможным после высылки из России маркиза Шетарди[68] и приезда в Петербург нового австрийского посланника графа Розенберга (Rosenberg), что служило верным знаком потепления в русско-австрийских отношениях после злополучного дела Ботта.
В данных условиях король Фридрих видел лишь один cпособ остановить принца Лотарингского и предотвратить выход Франции из войны. Получив 1 июля 1744 года известие о начале переправы австрийской армии через Рейн, король вынужден был принять неудобное и опасное для себя решение. И если прежде он скрывал свои намерения даже от близких министров и генералов, то теперь король пригласил к себе в Потсдам Подевильса и сообщил тому о заключении договора с Францией и предстоящем вступлении в войну. Причины и основания своего решения король представил в документе, названном «Экспозе мотивов, которые вынудили Короля предоставить вспомогательные войска Императору» (Exposé des motifs, qui ont obligé le Roi de donner des troupes auxiliaires à l’Empereur). В этом документе он обвинял королеву Венгерскую в насилиях, чинимых австрийскими войсками в Империи, в пренебрежении её конституцией и обычаями и, наконец, в неуважении к самому Императорскому Величеству. Там говорилось, что король прибегает к силе с сожалением и только после того, как исчерпал все возможности для примирения, так как его предложения посреднических услуг были отвергнуты Англией. «Племя древних германцев, – значилось далее, – которые столько веков защищали свою родину и свои свободы против мощи древней Римской Империи, ещё существует, и оно и сегодня будет защищать их против всех тех, кто осмелится на них покуситься». Король завершал экспозе уверением, что действует не в своих интересах, но «поднял оружие только, чтобы вернуть свободу Империи, достоинство Императору и спокойствие Европе».
Подевильс выразил несогласие со своим государем. Он по-прежнему не видел непосредственной угрозы от Австрии и Саксонии и считал, что от вступления в войну Пруссии в выигрыше останется лишь Франция. Она будет вести войну, как ей удобно, брать крепости в Нидерландах, ограничиваясь в Германии лишь обороной и наблюдая за спектаклем, который будет разыгрываться в Богемии и который отвлечёт туда все австрийские силы от французских границ. В таком случае, по мнению Подевильса, Пруссия возьмёт на себя всю тяжесть войны, вступив в которую, уже не сможет из неё выйти так же, как в прошлый раз, так как королю больше не предложат мира, подобному Бреславльскому. Граф Подевильс соглашался, что в интересах Пруссии оказать поддержку императору Карлу VII, но считал противоестественным спасать утопающего, рискуя собственной жизнью. План Его Величества, продолжал Подевильс, основывается на двух предпосылках – честность Франции и дружба или бездействие России, но если хотя бы одна из них не оправдается, война может стоить даже больше, чем потеря Силезии. И советовал, что «если у Вашего Величества нет сильного предубеждения против новой связи с Англией и Австрией, а отношения с Францией ещё не так близки, то, возможно, найдётся другой способ вызволить Кайзера из затруднений и вернуть ему его земли, а, быть может, ещё и больше». Свои сомнения граф Подевильс подал королю в письменной форме, и они были опубликованы под названием «Ремарки доброго германского патриота на документ, озаглавленный «Экспозе мотивов, которые вынудили Короля предоставить вспомогательные войска Императору» (Remarques d’un bon Patriote sur l’Ecrit intitulé Exposé des motifs, qui ont obligé le Roi de donner des troupes auxiliaires à l’Empereur). Такая форма общения министра со своим королём не должна удивлять читателя. В то время подобные памфлеты часто использовались в политической полемике. Как правило, они были анонимны, и могли принадлежать перу известных и влиятельных политиков. Но соображения министра уже не могли повлиять на решение короля, так как во время публикации этого документа в конце августа 1744 года прусские войска уже пришли в движение.
Генрих фон Подевильс, государственный и военный министр Пруссии (1695–1760).
Время покажет, насколько верны были предостережения опытного министра, но сейчас перед королём стояла одна задача – не допустить, чтобы военные неудачи на Рейне перечеркнули все дипломатические успехи последних месяцев. Необходимо было поддержать боевой дух в Версале, куда уже прибыл голландский уполномоченный граф Вассенар (Wassenar), который привёз одобренный Генеральными Штатами и Англией план по умиротворению враждующих сторон. По выражению прусского посланника в Вене графа Дона, это могло стать вторым изданием Утрехтского мира, и эти аналогии были вполне справедливы. После примирения Франции с морскими державами Австрия, оставшись в одиночестве и без субсидий, не смогла бы продолжать войну, и вынуждена была бы также заключить мир, рассчитывая при этом найти удовлетворение в другом месте. И место это было слишком хорошо известно прусскому королю, чтобы он мог спокойно наблюдать за происходящими событиями. Поэтому 12 июля, уже зная о спешном отступлении Куаньи и Секендорфа, король Фридрих написал Его Христианнейшему Величеству эмоциональное письмо, в котором сообщал, что тяжёлое положение Франции заставило его принять решение и выступить на помощь своему союзнику, не дожидаясь гарантий со стороны России и Швеции. Датой выступления прусской армии король назвал 13 августа, а в конце этого месяца намеревался быть под Прагой. Письмо было исполнено выражениями дружбы и убеждениями в общности интересов, которые «как никогда тесно связаны и неразрывны». Далее король просил поставить во главе армии Баварии маршала Бель-Иля, с которым у Его Прусского Величества сложились добрые отношения ещё со времён богемской кампании, и призвал к решительным действиям, «как действовали великий Конде, маршал Тюренн, маршал Люксембург и маршал Катина, …, которые стяжали бессмертную славу французским войскам, а для себя известность на все времена».
В тот же день, 12 июля, в не менее страстном письме к маршалу Ноайлю король Фридрих настойчиво потребовал активного преследования армии принца Карла и занятия Баварии, равно как и вторжения в Ганновер, без чего, как он выразился, «всё наше дело полетит ко всем чертям». Прусский король также призвал маршала к решительным действиям, выразив опасение, что в случае затягивания конфликта военные расходы достигнут чрезвычайных размеров, а успех будет всё более сомнителен. В качестве подтверждения своих слов король привёл в пример события 1741-42 годов, когда кардинал Флери, страшась решительных действий и больших расходов, упустил верную возможность покончить с гегемонией Габсбургского дома в Германии, из-за чего теперь продолжение этой войны обойдётся французской казне в три-четыре раза дороже. Как писал король далее: «Одним словом, я доверяюсь честности государя просвещённого и мудрого, который никогда за всю жизнь свою не нарушал своих обещаний…».
Для координации военных операций прусский король направил во французскую штаб-квартиру фельдмаршала графа Шметтау (Schmettau). Граф уже имел опыт подобного рода поручений во время кампаний в Австрии и Богемии 1741-42 годов, когда он в подобном качестве пребывал при штабе Карла-Альбрехта Баварского. Как и тогда, в его обязанности входило воодушевлять союзников на решительные действия. Граф был старым другом Секендорфа ещё со времён войны за Испанское наследство. Оба служили императору Карлу VI, но после его кончины покинули австрийскую армию и перешли на службу к другим государям. В те времена присягали не государству, а государю, после смерти которого не считалось бесчестьем найти себе нового сеньора. Теперь король Фридрих решил использовать это знакомство для своей пользы. В инструкциях графу значилось, что он должен побуждать короля Людовика к активным действиям против армии принца Карла, чтобы помешать ему вернуться в Богемию прежде, чем прусская армия возьмёт Прагу. Французы должны были атаковать его при переправе через Рейн, затем энергично преследовать и освободить Баварию. Кроме того, он должен был «не упускать ни единого повода, чтобы убеждать и доказывать королю Франции, что теперь и навсегда интересы Франции неотделимы от интересов Пруссии». Опасения насчёт верности Франции союзническому долгу не покидали короля Фридриха вплоть до начала кампании. В письме герцогу Ноайлю от 5 августа 1744 года, то есть, за неделю до выступления прусских войск, король предположил, что после начала военных действий австрийская сторона обратится в Версаль с мирными предложениями. Предвосхищая это, он выразил надежду, что Его Христианнейшее Величество «предпочтёт дурному миру, который навсегда лишит его доверия всех государей Европы, мир добрый, который навечно обеспечит ему славу и спокойствие». Мы умолчим об оценке благородного призыва к соблюдению союзнического долга со стороны прусского короля, за два года дважды нарушившего свои обязательства и теперь готового сделать это в третий раз.
Наряду с угрозой заключения сепаратного мира со стороны Франции, над королём Фридрихом давлела неопределённость в отношениях с Россией и Швецией. Проект Тройственного союза Пруссии, Швеции и России, как уже было сказано, потерпел неудачу, но там, где оказались бессильны самые ловкие посланники, успех принесла дипломатия совсем иного рода. Весной 1744 года при посредничестве короля Фридриха были заключены два брачных союза, которые призваны были обеспечить ему спокойный тыл во время будущих баталий в Европе. Эта была та самая брачная дипломатия, которая позже дала повод Вольтеру иронически называть прусского короля дядей всей Европы. 17 марта было оглашено, а 10 июня, сразу после возвращения короля Фридриха из Пирмонта, торжественно отпраздновано обручение сестры короля Луизы Ульрики Прусской с князем-администратором Голштинии Адольфом Фридрихом Гольштейн-Готторпским, под влиянием России избранного Риксдагом наследником шведской короны. А ровно через месяц, 10 июля 1744 года, состоялось обручение Софии Августы Ангальт-Цербсткой с наследником российского престола великим князем Петром. Оба из Голштинского дома, оба были избраны в наследники трона в других странах, и оба почти одновременно обручены с принцессами, которые были обязаны своими партиями исключительно усилиям короля Фридриха. Молодость и неопытность невест, вместе с влиянием, которые они приобретут вскоре на своих мужей, позволяли рассчитывать, что эти супружеские пары позволят управлять собой в интересах прусской политики. Данный расчёт очень скоро оправдал себя в Швеции. После брака Адольфа Фридриха с сестрой прусского короля влияние прусской партии в Стокгольме выросло настолько, что в Берлине могли уже не опасаться выступления Швеции против Пруссии, а в мае 1747 года стороны заключат желанный для прусского монарха оборонительный союз. Однако императрица Елизавета, от решений которой теперь зависели широкие планы и даже вся система короля Фридриха, пока не готова была занять определённую позицию. Несмотря на хитроумные интриги прусской партии при русском дворе, императрица Елизавета отвергала все попытки склонить её к заключению союза с Пруссией.
При этих попытках важную роль играла княгиня Иоганна Елизавета Ангальт-Цербсткая, мать будущей императрицы Екатерины Великой. Энергичная и амбициозная представительница младшей, Гольштейн-Готторпской, ветви Ольденбургского дома, внучка датского короля, сестра наследника шведского престола и мать будущей супруги императора Всероссийского, Иоганна Елизавета стремилась обернуть свою блестящую родословную в осязаемое политическое влияние. По прибытии в Россию и вплоть до своего отъезда княгине было отведено значительное место в расчётах прусского короля, с которым она состояла в переписке, и который пытался использовать в своих интересах её положение при русском дворе. Так называемый, «малый двор», возглавляемый великокняжеской четой и, конечно, Иоганной Елизаветой, стал инструментом короля Фридриха для проведения прусских интересов и опорой прусской партии при петербургском дворе. Высылка маркиза Шетарди была тяжёлым ударом для сторонников Версаля и Берлина (после заключения франко-прусского союза представители обеих стран сообща работали в Петербурге)[69], и на некоторое время княгиня Иоганна Елизавета стала главным её орудием. Однако настойчивость «королевы-матери», как метко назвал княгиню английский посол Тироли, в намерении уговорить российскую императрицу пойти на Тройственный союз возымела обратный результат. На очередной её совет выслушать предложения барона Мардефельда по поводу союза с Пруссией императрица в резкой форме посоветовала княгине не вмешиваться не в свои дела. Попытки подкупить вице-канцлера Бестужева, предпринятые сменившим маркиза Шетарди д’Альоном и бароном Мардефельдом, оказались безуспешными, как и интриги против него, единственным результатом которых стало удаление от двора брата вице-канцлера обер-гофмаршала Бестужева. Об этом писал лорд Картерет английскому послу Тироли: «Нет измышления, клеветы, лжи, на которую сторонники Франции не были бы готовы для удаления Бестужева».
Императрица Елизавета хорошо сознавала слабые стороны вице-канцлера, но пока Бестужев избавлял её от бремени государственных забот, он мог рассчитывать на благоволение российской императрицы. Подтверждением этой благосклонности стало назначение Бестужева канцлером в июле 1744 года. Не оправдался расчёт прусского короля и на нового вице-канцлера князя Воронцова, известного своими симпатиями к Франции и Пруссии, от которых он получил титул имперского графа и орден Чёрного орла. Но князь действовал настолько осторожно, что франко-прусской партии не удалось получить от этой привязанности никакого действительного результата. Также не увенчались успехом попытки французского и прусского дворов привлечь к Франкфуртской Унии великого князя Петра, который, как герцог Голштинский, был одним из князей Империи. Присоединение к Унии наследника российского престола сильно добавило бы влияния этому объединению, но предложение встретило категорический отказ императрицы Елизаветы, не желавшей участия великого князя в чужих для России ссорах. Противной стороне также не удавалось добиться от русского двора ничего определённого. Несмотря на явный успех с высылкой маркиза Шетарди, которого лорд Тироли называл «боевым конём наших врагов», запросы английского короля Георга о поставке вспомогательного корпуса для сдерживания прусского короля встречали лишь отговорки и увёртки. Бестужеву всякий раз удавалось отделываться от Тироли, ссылаясь на нежелание императрицы заниматься государственными делами. Очень кстати для русских министров пришлась поездка императрицы в Киев, что дало возможность отложить принятие решения.
А. Менцель. Императрица Елизавета выслушивает доклад вице-канцлера графа Бестужева-Рюмина.
Русский двор, не желая открытой конфронтации с Пруссией, пытался избежать вмешательства в конфликт и одновременно сохранить в силе обязательства по договору. Это требовало тонкой и осторожной политики от вице-канцлера Бестужева, связанного нежеланием императрицы вмешиваться в эту войну[70]. Этого же требовали большие затруднения в финансах и необходимость восстановления сил после войны со Швецией. Как остроумно охарактеризовал данную позицию русского двора неизвестный автор «Memoires de la reine de Hongrie…»: «Петербургский двор считал себя божеством, которое могло принимать одной рукой гинеи, а другой – луидоры». Опытный дипломат барон Мардефельд хорошо понимал эти мотивы русского двора. Он также понимал, что Петербург не выступит против короля Фридриха, пока не оправится от войны со Швецией, либо пока прусский король не будет угрожать непосредственно российским интересам. Таким образом, без формального подтверждения, но исходя из сложившейся ситуации, 23 июля 1744 года прусский посланник мог заверить своего государя, что «в ближайшие шесть месяцев Вашему Величеству нечего опасаться от Императрицы, но и не на что надеяться». В этой же депеше Мардефельд советует королю: «если государственные соображения привели Ваше Величество к необходимости начать войну, чтобы защитить свои владения, я считаю, что в его интересах войти в игру теперь же, нежели чем откладывать это до следующего года …», так как промедление может привести Россию в лагерь его противников. Однако на данном этапе король Фридрих получил главное – до весны 1745 года русская армия не двинется с места, и за это время необходимо было принудить Вену к заключению мирного договора.
Таким образом, внешнеполитические расчёты короля Фридриха за два года после заключения Бреславльского мира претерпели существенные изменения. Во второй половине 1742 года король-триумфатор спокойно смотрел на карту Европы, где в полную силу бушевал пожар начатой им войны. Заручившись двумя важнейшими для себя союзами, он ожидал, пока воюющие стороны истощат себя и будут готовы к общему миру, по условиям которого Пруссия получит твёрдые гарантии Силезии и Глаца. Договор с Англией защищал короля от посягательств Австрии на случай, если в Вене решатся заключить мир с Францией и попытаются вернуть утерянную Силезию. Финансовые возможности венского двора были ограничены и не позволяли выступить против Пруссии без согласия и помощи Его Британского Величества. Но, по расчётам прусского короля, Англия никогда не дала бы Австрии деньги на войну с Пруссией, тем более, если венский двор перед этим примирился бы с её извечным соперником Францией. Договор с Англией, помимо прочего, призван был продемонстрировать австрийскому министерству, что его цели находятся не на востоке, а на западе, в прирейнских провинциях Франции. На случай, если в Вене проявят несогласие с данной политической формулой и, в расчёте компенсировать английские гинеи русскими штыками, попытаются вовлечь Россию в будущую войну с Пруссией, король Фридрих предусмотрительно заручился поддержкой петербургского двора. Русско-прусский договор должен был стать надёжной гарантией, что, в случае попытки со стороны Австрии пересмотреть условия Бреславльского мира, восточные границы Прусского королевства останутся в спокойствии.
Однако результаты кампании 1743 года вынудили короля Фридриха к действию. Намерение Лондона двинуть Прагматическую армию в пределы границ Рейха вызывало воспоминания о походе герцога Мальборо и принца Евгения в Южную Германию, закончившегося разгромом франко-баварских войск при Гохштедте и оккупацией Баварии. Но сейчас от союзников не потребовалось даже этого – Бавария была захвачена стремительным наступлением принца Карла Лотарингского, а французские войска столь же быстро отступали к Рейну. Зная о твёрдом намерении венского двора получить компенсацию за утерянную Силезию, король Фридрих не мог допустить аннексии Баварии, что грозило бы восстановлением габсбургской гегемонии в Германии. Вместе с тем, поражения французских войск и угроза вторжения союзных войск в пределы Франции могли сломить и без того слабую волю французского министерства к сопротивлению и заставить его пойти на мир с Австрией, после чего вновь мог быть поставлен вопрос о пересмотре условий Бреслау. Протесты и даже угрозы из Берлина в адрес английского министерства из-за движения Прагматической армии в Германию не возымели действия. Попытки организации в Империи «третьей силы» из имперских князей в пользу гонимого и лишённого родной земли императора Карла VII также не привели к успеху, равно как и посреднические усилия с целью умиротворения Германии и возвращения императору Баварии в обмен на его разрыв с французским двором.
Начало 1744 года принесло королю Фридриху новые серьёзные беспокойства. Отсутствие упоминания о Бреславльском договоре в Вормсском трактате создавало важный и опасный для Пруссии прецедент, когда третья сторона (Сардиния) не признавала территориальных изменений лета 1742 года. Ещё более опасным сигналом было то, что этот трактат был заключён при посредничестве Англии, благожелательный нейтралитет которой являлся краеугольным камнем в системе прусского короля. Заключение якобы при английском посредничестве австро-саксонского договора и письмо короля Георга к Марии-Терезии, при всей сомнительности его происхождения, оформили в представлении короля Фридриха картину ближайшего будущего. У прусского монарха не оставалось сомнений, что после поражения Франции австрийская сторона, при помощи Саксонии и при возможной финансовой поддержке Англии, попытается взять реванш за поражение двухлетней давности. Это побудило короля Фридриха попытаться восстановить равновесие сил и пойти на сближение с Францией, где его ещё недавно проклинали как предателя и клятвопреступника. Обещаниями скорого вступления в войну он хотел удержать французское министерство от заключения мира с Австрией. Также необходимо было подтвердить или даже расширить союзные обязательства с Россией, в нейтралитете которой он не мог быть уверен, пока власть сохранялась в руках Бестужева.
Заключение договора с Францией перевело конфликт за австрийское наследство на новый уровень эскалации. Следствием договорённостей в Версале стало объявление Францией войны Австрии и наступление французской армии в Нидерландах. Несколько позже в войну должна была вступить Пруссия, армия которой, выступая под флагом вспомогательных войск императора Карла VII, открыла второй фронт против Австрии в Богемии. Успехи австрийских войск в Эльзасе вынудили короля Фридриха сбросить маску раньше времени и выступить, не дожидаясь гарантий со стороны России, каковые король прежде считал conditio sine qua non для участия в войне. Соглашения, достигнутые в 1742 году в Бреслау и Берлине, были отринуты и целью новой антиавстрийской коалиции вновь стали земли Богемии и Австрии. Вместе с этим, венский двор, не связанный более обязательствами по договору с Берлином, получил свободу рук для действий в Силезии, а возвращение этой провинции под скипетр Габсбургов отныне и на добрые два десятка лет вперёд станет главной внешнеполитической задачей венского кабинета. Исследователи расходятся во мнениях о целесообразности решения короля Фридриха вернуться в войну, неудачный исход которой не только погубил бы все его предыдущие достижения, но и, как предупреждал граф Подевильс, мог стоить намного большего, чем Силезия. Сам прусский монарх хорошо осознавал все риски этого предприятия, но считал, что время для выступления настало. Несколькими годами позже, в 1746 году, в «Истории моего времени» он напишет об этих событиях так: «Во время такого кризиса нужно решаться; худший выбор, который можно сделать, это ничего не выбрать».
58
Сторонники этой «партии войны», к числу которых принадлежал и будущий секретарь по иностранным делам маркиз д’Аржансон, были тесно связаны с опальным министром Шовеленом, в годы войны за Польский трон выступавшего против предложенных Флери умеренных условий мира с Австрией и за продолжение войны. Таким образом, противостояние этих партий при французском дворе является своеобразным продолжением конфликта покойного кардинала и опального министра.
59
Из-за чрезмерной осторожности французского адмирала де Кура (de Court) франко-испанский флот не смог воспользоваться достигнутым преимуществом, что дало повод испанцам и французам распространяться во взаимных обвинениях. Обсуждая битву при Тулоне, голландец граф Бентинк сказал графу Подевильсу-младшему, что испанцы снискали в этом бою славу, англичане – выгоду, а французы – позор.
60
В декабре 1743 года Парламент одобрил для этих целей сумму в 10 млн. фунтов стерлингов.
61
После опубликования 9 апреля 1744 года ответного манифеста на объявление войны со стороны Франции, английский посол в Берлине лорд Гиндфорд получил приказ затребовать от берлинского двора обещанную по договору помощь в числе 8 000 пехотинцев и 2 000 кавалеристов. Получив ответ короля Фридриха, что он не считает угрозу Ганноверу casus foederis, так как ганноверские земли короля Англии не включены в договор, а английские войска сами находятся на чужой территории, лорд Гиндфорд 17 мая повторил запрос, прибавив, что если в договоре не указаны отдельно земли короля, нельзя считать их исключёнными. Такая настойчивость рассердила прусского короля, и он составил английскому послу резкий ответ, который, впрочем, не был вручён. Позже, 23 июня, король Фридрих в более мягких выражениях разъяснил, что если при угрозе своим владениям Его Английское Величество имеет возможность использовать войска для прочих надобностей, то, следовательно, эти угрозы не столь велики, чтобы требовать у союзников помощи в их отражении. Прусский король здесь имел в виду нахождение английских и ганноверских войск в составе Прагматической армии в Германии.
62
После отставки Амело кресло государственного секретаря иностранных дел осталось вакантным, так как король Людовик, проявлявший последнее время необычайную активность, решил сам заниматься иностранными делами. Министр раздражал своего короля и герцогиню Шатору тяжёлыми и медлительными речами, а также частыми обвинениями в адрес прусского короля. Надо сказать, что король Фридрих платил Амело той же монетой, среди прочего, остро высмеивая его заикание. По мнению прусского короля, пока Амело сохранял место в королевском совете, Франция не могла быть надёжным союзником, что ставило под угрозу всю его систему.
63
Чтобы успокоить голландское общественное мнение, французский посланник также объявил, что король Людовик намерен завладеть крепостями «барьера» лишь на время, для размещения там депо и магазинов, и после завершения войны вернёт их обратно.
64
По злой иронии, этой мечте суждено было осуществиться лишь в 1803 году, когда данный титул утратил своё практическое значение
65
Король Фридрих в те дни говорил, что если бы узнал, что рубашка или даже кожа его проникли в эту тайну, он, не раздумывая, сорвал бы их со своего тела. Договор держался в тайне даже от императора Карла VII. Слухи о нём распространились сразу после его заключения, но подтверждения им не нашлось. После заключения Дрезденского мира договор, который не был даже опубликован, потерял свою силу и о нём забыли на многие годы
66
На это время приходится взлёт военной карьеры графа Морица Саксонского, состоявшего на французской службе с 1720 года и имевшего чин генерал-лейтенанта. Из-за его религиозных убеждений (лютеранин), монарших амбиций (герцогство Курляндия) и неоднократных угроз покинуть службу короля Людовика, французское высшее военное руководство с недоверием относилось к этому германскому принцу. Сам король считал его ненадёжным, подобно его кровному брату королю Августу. Но герцогу Ноайлю, прежде других сумевшего распознать военные таланты графа, удалось, наконец, преодолеть предубеждение короля и убедить его в верности и преданности графа Саксонского французской короне. Во время кампании 1744 года графу Морицу было доверено командование французской армией во Фландрии. Несмотря на отсутствие громких побед, эту кампанию называют одной из лучших кампаний графа Саксонского, а герцог Ноайль сравнивал её с кампаниями маршала Тюренна.
67
В «Истории моего времени» и «Общих принципах ведения войны».
68
Были перехвачены и, при помощи выданного камердинером Шетарди ключа, прочитаны письма французского посла, в которых маркиз, раздосадованный неудачами при русском дворе, позволил себе неосторожные выпады в сторону императрицы Елизаветы. 17 июня 1744 года ему был вручен приказ в течение 24 часов покинуть Россию. Высылка маркиза была организована с показательной оскорбительностью – он вынужден был вернуть полученные ранее от императрицы Елизаветы подарки вместе с орденом св. Андрея Первозванного, посажен под домашний арест, а до границы его сопровождал вооружённый конвой.
69
Король Фридрих даже опасался, что немилость Шетарди приведёт к осложнениям в его отношениях с Россией, но российская сторона заявила, что это дело касается лишь персоны маркиза и не повлияет на добрые связи с французским двором.
70
В 1741-45 годах Россия находилась в выгодном, но одновременно сложном положении. Россия была связана договорами одновременно с Пруссией (1740 и 1743 гг.) и с Австрией (1726 г.), что позволило петербургскому двору чувствовать себя в безопасности и даже претендовать на посредничество при разрешении конфликта. Такое положение, однако, требовало осторожной и взвешенной политики, чтобы избежать обвинений в неисполнении принятых обязательств и не допустить чрезмерного усиления одной из сторон. Интересно, что впоследствии, в начале Семилетней войны, русский двор оказался в подобном положении, будучи связанным обязательствами одновременно с Австрией и Пруссией. В этой связи, решение императрицы Елизаветы о вступлении в войну на стороне Австрии выглядит спорным, так как лишило Россию возможности проведения посреднической политики в выгодной политической ситуации, когда ведущие европейские державы оказались втянутыми в крупный конфликт.