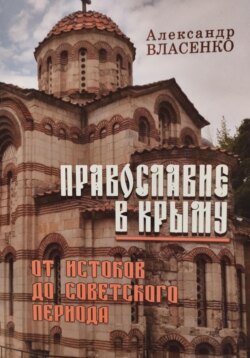Читать книгу Православие в Крыму - - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Переселение христиан из Крыма
ОглавлениеПо вопросу переселения христиан из Крыма в 1778 году существуют разные мнения, причем есть гипотезы, основанные на лжи и выдумках. Да и принятая за основную, версия причин переселения христиан не подтверждается фактами. Поэтому данному вопросу уделим немного больше внимания и сообщим некоторые подробности, которые позволят не предвзято оценить данное событие. Начнем с обстановки в Крыму, предшествующей переселению.
После заключения Кючук-Кайнарджийского мира[57], Крымское ханство стало независимым от Османской империи, а Российской империи отошли крепости Керчь и Еникале[58], запиравшие выход из Азовского моря в Черное море. Керченский пролив стал российским. Ситуация в Крыму была неопределенная и сложная. Хотя Турция и признала суверенитет Крымского ханства, но султан, являясь халифом (араб. «наместник, заместитель») мусульман-суннитов (наиболее многочисленного направления в исламе), сохранял в своих руках религиозную власть и утверждал новых ханов.
Крымские татары разделились на две группы – русской и турецкой ориентаций. Противостояние между группировками доходило до военных столкновений. В начале 1775 года протурецкая группировка поставила ханом Девлет-Гирея IV (в литературе встречаются различные варианты написания имен ханов, династии Гиреев, ныне чаще именуемых Гераями; мы же будем следовать традиции написания, идущей от историков XIX века), которого турецкий султан сразу же утвердил «в должности». Еще бы, нужный был человек. Ведь Девлет-Гирей, только «вступив в должность», обратился к султану с просьбой о разрыве договора с Россией.
Россия не оставляла без внимания сложившуюся в Крыму ситуацию и напрямую вмешалась в борьбу крымских политических группировок. Повод к этому нашелся. По Кючук-Кайнарджийскому миру Россия и Турция приняли обязательство в Крыму «гарнизонов и военных людей своих никаких не иметь». Однако в Кафе оставались турецкие войска. Поэтому в ноябре 1776 года, русский корпус генерал-поручика А. А. Прозоровского, вошел в Крым. Через месяц к нему прибыл на помощь Суворов с Московской дивизией.
Войска Девлет-Гирея, узнав о приближающихся к ним силам русского корпуса под командованием (на время болезни Прозоровского) Суворова, разбежались. В это время в Еникале высадился претендент на ханский престол Шагин-Гирей, на сторону которого перешла большая часть татарской знати. Девлет-Гирей, после неудачной попытки разбить русские войска, ушел в Стамбул. А пророссийски настроенный Шагин-Гирей в апреле 1777 года был избран ханом, с неограниченными правами, и стал последним крымским ханом.
Родившийся в Адрианополе[59], учившийся в Салониках и Венеции, несколько лет живший в Петербурге, знавший несколько языков, Шагин-Гирей решил навести порядок в правлении ханством. Об изменениях, введенных новым ханом, нам сообщает рукопись «События, случившиеся в Крыму в царствование Шагин-Гирей-хана», составленная караимом Рабби Азарья, сыном Ильи (бен-Ильягу), современником событий. Так, в частности, Рабби Азарья пишет, что «при своем избрании он (Шагин-Гирей – А. В.) обязался запретить чиновникам, брать самим жалование с платящих подати и десятины, и из пошлин, взимаемых прежде ими в свою пользу.
Все доходы взял он в свои руки, всякому же из них назначил определенное жалование, избрал 12 сановников, называемых муркас, которым вверил суд и расправу, так и администрацию Государства, и в финансовом отношении наблюдение за доходами, чтобы управители не взимали подати в свою пользу, по старому обычаю, но получали всякий по достоинству свое содержание из казны по третям, даже от Визиря отняли десятины и определили жалование из казны, куда Хан повелел вносить все десятины, взимаемые как от податных иноверцев (то есть Греков и Армян), так и от Мусульман и Татарских вельмож…
Шагин-Гирей-Хан приказал построить магазины (т. е. склады – А. В.) для складки разного хлеба, собираемого с десятин, и казармы для регулярного войска, образованного им по образцу гвардии, к которой присмотрелся во время пребывания своего в Петербурге. Призвав 12 Государственных сановников, дал им новые предписания, которыми отнимались от них произвольный суд и расправа; свою волю поставил им за закон; потребовал от них новый набор войск, чему они не противились, вследствие чего и посланы были писцы под начальством одного Князя, описать всё народонаселение по деревням, и назначили брать по одному воину с пяти домов, которые обязаны были снабдить этого воина оружием, лошадью и всеми нужными припасами».
Все эти «мероприятия», в основе своей, были направлены на выведение ханства из состояния средневековья. Но подавляющему большинству подданных такие новшества не понравились. Потери элиты и чиновников понятны. А простым подданным не нравилось платить налоги, да еще и как «гяуры», также не хотелось идти в регулярную армию, содержать ее. Куда проще делать налеты на соседние территории (по большей частью на российские земли). Но особое недовольство у «правоверных» вызывал образ жизни хана.
Историк и крымовед Ф. Ф. Лашков в своей статье «Шагин-Гирей, последний крымский хан» писал, что «более всего возбуждало удивление правоверных, это немусульманский образ жизни хана. Он в постоянных общениях с неверными, мало того он предан им; он вернейший союзник России, голосу которой внимает, с которой советуется. У него во дворце большая часть прислуги из христиан…Хан не ездит верхом как делали прежние ханы, а ездит в карете, ест сидя, за парадным столом, сервированным по-европейски и если не решается бриться, то по крайней мере прячет концы своей бороды под широкий галстук».
По словам Арсения Маркевича[60], Шагин-Гирей «отличался надменностью, поступал круто и неблагоразумно, раздражая татар, а Турция подстрекала их к мятежу против хана, и в начале октября вспыхнул открытый мятеж против него на всем полуострове». Ситуация осложнилась тем, что в Крым прибыл назначенный турецким султаном хан Селим-Гирей III, до этого уже занимавший этот «пост». Но, в конце февраля 1778 года, как отмечает Маркевич, «мятеж в Крыму прекратился, мятежные татары были обезоружены, и водворилась тишина. Селим-Гирей уехал в Турцию».
Безмятежную картину, рисуемую Маркевичем, портят замечания, сделанные Ф. Лашковым: «Таким образом междоусобная война, во время которой погибло более 12 тыс. человек в разных стычках, а множество стариков, женщин и детей от стужи и голода, окончилась, благодаря русскому оружию, в пользу Шагина. Казнив предводителей восстания, Шагин снова утвердился на престоле и строгими мерами решил поддерживать спокойствие». Непростая ситуация сложилась и во взаимоотношениях между конфессиями, о чем нас информирует А. Маркевич:
«В это время выплыл на свет и первостепенного значения вопрос о переселении крымских христиан – греков, армян и других в пределы России. Положение христиан в Крыму было тяжелым. Не касаясь более раннего времени, укажем, что сильные притеснения греков происходили в 1770, 1772 и 1774 годах. Христиане были обложены большими налогами, с ними обращались, как с рабами хана, им запрещено было строить храмы и ставить на них кресты. Неудивительно, что многие принимали магометанство, бывали случаи и ухода в Россию, а в 1777 году их вышло значительное число. Со входом русских войск в Крым явно обнаруживались симпатии к ним крымских христиан, которые смотрели на них, как на своих защитников и покровителей, чем возбуждали против себя татар. Положение христиан сделалось очень опасным; во время последнего бунта в Крыму боязнь мести сделалась очень возможной, и христиане изъявили желание переселиться в Россию, о чем было донесено Прозоровским».
Излагая сложившуюся ситуацию, Маркевич немного «путает» порядок событий. В ордере[61] от 25 февраля 1778 года, Румянцев[62] объяснял Прозоровскому, как действовать при отводе наших войск, что было необходимо по условиям мирного договора с Турцией, подавивших восстание против Шагин-Гирея. И, как бы, между прочим, вставил следующее предложение: «Христиан при сем случае приглашать на поселение в Азовскую или Новороссийскую губернию, видится тоже удобно, и господа губернаторы могли бы, сходственно имеющимся у них повелениям, их теперь приохочивать и переселять».
Екатерина II посчитала указание Румянцева о переселении важным, но решила «уточнить задачу». В рескрипте[63] от 9 марта, она писала Румянцеву, что «помянутый генерал-поручик должен усугубить все возможные для него способы уговаривать их, чтоб добровольно согласились перенести домовство свое в Новороссийскую и Азовскую губернию – где под покровительством нашим найдут они спокойную жизнь и возможное благоденствие. А особливо уговаривать к тому тамошнего митрополита, обнадежа его разными выгодами; хану же самому вразумить, что сие делается в предупреждение могущего им быть мщения от татар и может статься стороны татар и от турок, если оные в Крым прибудут». В этот же день Екатерина II указом озадачила и Потемкина, который, в свою очередь, разослал указания Азовскому губернатору Черткову (ордер от 10 марта) и Прозоровскому (два письма от 10 марта).
На полученные указания, Прозоровский 11 марта в рапорте Румянцеву писал: «Касательно христиан, об уговоре коих на выход ваше сиятельство предписывать изволите, то к сему в теперешнем положении и приступить не можно…». При этом, Прозоровский опасался, что «не только правительство, но и хан не согласятся на сие», и это «не иным чем как войною кончено и утверждено быть должно». Это ли не свидетельство того, что Прозоровский не мог писать Румянцеву – «христиане изъявили желание переселиться в Россию»?!
Да и сам Маркевич в дальнейшем подтверждает это: «Такая решительная постановка вопроса о переселении из Крыма христиан ошеломила Прозоровского…» Как могла «ошеломить» такая «постановка вопроса» человека, который сам докладывал начальству о желании христиан переселиться в Россию? И далее, Маркевич обосновывает экономическую составляющую переселения. По его мнению «в руках христиан горной части Крыма находились промышленность, садоводство и земледелие, обеспечивавшие доходы хана», и это было «одной из причин желания нашего правительства осуществить как можно скорее переселение, чтобы поставить хана навсегда в зависимое положение от России».
Заметим, что Маркевич не был первым, кто указал на экономическую подоплёку переселения христиан из Крыма. Первым стал известный российский военный историк XIX века А. Ф. Петрушевский. В своем фундаментальном труде «Генералиссимус князь Суворов», о выпавшем «на долю Суворова» в очень трудном деле – «исполнение операции по выселению христиан из Крыма», Петрушевский писал:
«Обладание Крымом в эту пору еще далеко не представлялось за Россией обеспеченным. Надо было и сделать новые ходы, чтобы приблизиться к цели извлечь из Крыма что можно на случай неудачи. То и другое достигалось переселением из Крыма христиан, преимущественно греческой и армянской национальностей. В их руках находились промышленность, садоводство и земледелие горной полосы, что составляло знатную долю доходных статей хана…»
Версию Петрушевского «продублировал» другой выдающийся военный историк Н. Ф. Дубровин. В предисловии к своему труду «Присоединение Крыма к России» историк писал: «В Крыму находилось в то время много христиан, произведение труда которых составляли главные статьи доходов хана. В руках христиан находилась промышленность, садоводство и земледелие всей горной части Крыма. С выселением их вся культура ослаблялась и доходы хана ограничивались».
Обращает на себя внимание, что и Дубровин, и Маркевич почти дословно повторили мнение Петрушевского о роли христиан в экономике Крыма и в доходной части бюджета Крымского ханства. Эта, ни чем не обоснованная, гипотеза указанных историков перешла и в советскую историографию. Вот что по этому поводу пишет современный исследователь Равиль Дейников, в своей статье «К вопросу о выводе христиан из Крымского ханства в 1778 году»:
«В советское время версия дореволюционных исследователей о выселении христиан из Крыма полностью вписалась в материалистическую, „марксистско-ленинскую” теорию исторического процесса». При этом Р. Дейников, ссылается на советского историка Е. И. Дружинину, которая, «фактически поставила жирную точку в рассмотрении причин переселения – не вдаваясь в глубокий анализ проблемы, она отмечала, что „в дальнейшем (после заключения Кючук-Кайнарджийского мира – Р. Д.) русское правительство стало готовиться к включению Крыма в состав России. Одной из важнейших мер в этом направлении являлось переселение из Крыма христианских жителей полуострова…
Поскольку именно христиане (греки и армяне) составляли основную трудовую часть населения Крыма, переселение их в Россию означало экономического ослабление ханства и ставило Крым в прямую зависимость от России”. Эта версия становится доминирующей в процессе изучения проблемы и неоднократно повторяется в разных вариациях и современными исследователями».
А выражения, приведенные Дружининой: «христиане (греки и армяне) составляли основную трудовую часть населения Крыма» и «переселение их в Россию означало экономическое ослабление ханства и ставило Крым в прямую зависимость от России» полностью соответствуют версии Петрушевского.
Вывод Дружининой о том, что «русское правительство стало готовиться к включению Крыма в состав России» ничем не обоснован. В период 1777–1778 годов вопрос о включении Крыма в состав Российской империи, как пишет Р. Дейников, «стоять не мог, так как, во-первых, оставались нератифицированными османской стороной многие пункты выгодного для России мирного договора 1774 г.; во-вторых, аннексия Крыма привела бы к серьезным внешнеполитическим осложнениям, которые нарушили бы хрупкий баланс во всей Восточной и Центральной Европе; в-третьих, подобные действия означали бы начало крупномасштабной войны с Османской империей, а к войне Россия была не готова как по внутренним, так и по внешнеполитическим причинам».
Отметим, что выводы Р. Дейникова основаны на сведениях, полученных им из документов заседания Государственного Совета Российской империи от 6 ноября 1777 года (Архив Государственного Совета. Т. 1. Ч. 1,СПб. 1869), а также указа (от 11 февраля 1778 г. № 37) императрицы – графу Румянцеву.
Теперь, что касается экономической составляющей переселения христиан. Начнем с того, что поступления от христиан не могли составлять основную часть доходов ханства. Ведь недаром, придя к власти, Шагин-Гирей обложил и мусульман такими же податями, как и христиан, которых было в несколько раз меньше. В рапорте от 10 июня 1777 года, Прозоровский писал Румянцеву, что этот факт татары «посчитали за наичувствительную обиду и к роду своему презрение…» Поэтому «и возрастает между народом молва и роптание…»
Современный украинский исследователь П. Н. Марциновский, проанализировав доходную часть бюджета Крымского ханства в 1777–1783 годах, констатировал, что «в 1777 году 85 % всех ханских доходов находились на откупе у русских купцов. Вряд ли ситуация коренным образом изменилась в следующем году. Это, кстати, ставит под сомнение традиционные выводы о причинах выселения христианского населения из Крыма в 1778 году».
Действительно, хорошее документальное опровержение экономической подоплёки переселения христиан. А далее Марциновский приводит следующий пример: «К тому же, сумма откупа с принадлежавшим христианам и оставшихся после переселения земель и садов составила, например, в 1780 году всего 1 500 рублей, что являлось лишь малой частью всего дохода». Это подтверждается следующими данными. При подведении итогов сведений о доходах, «собираемых при владении хана Шагин-Гирея», в сообщении Ф. Ф. Лашкова «О камеральном описании Крыма 1784 года», была выведена сумма среднегодового дохода ханства – 345 612 рублей 50 копеек. Простой расчет показывает, что сумма откупа в 1 500 рублей не составит и полпроцента от годового дохода ханства.
В начале XXI столетия, «благодаря» некотором украинским «исследователям», в частности, А. Герасимчуку, автору статьи «Зачем из Крыма изгнали греков? Как донецкими стали греки крымские…», мы узнали еще одну «причину» переселения христиан из Крыма.
Оказывается, «несмотря на то, что крымский хан Шагин-Гирей был усажен на престол с помощью суворовских штыков, он пытался Крымское ханство превратить в сильное независимое государство. Это никак не входило в планы Екатерины и Потемкина». Поэтому Румянцев предложил «вариант ослабления Крымского ханства путем вывода из Крыма основной категории налогоплательщиков. Таковыми в Крыму были греки, а также армяне и грузины, в руках которых была сосредоточена практически вся торговля ханства».
Если сказать кратко и мягко о вышеизложенной «гипотезе» – полная чушь. О том, что христиане не были основными налогоплательщиками при Шагин-Гирее, свидетельствуют приводимые выше данные. А о том, почему Шагин-Гирей не мог превратить Крымское ханство в «сильное независимое государство», мы расскажем, чтобы не отвлекать внимания читателей от вопроса исхода христиан из Крыма, в указанном примечании[64].
По нашему мнению очень правильный вывод сделан Р. Дейниковым о том, что «основополагающей причиной вывода христиан их Крыма в 1778 году являлось все же стремление России эвакуировать с полуострова в условиях гражданской войны и угрозы османской интервенции единоверное и традиционно благожелательно настроенное к России население. Ведь говоря о „восточном вопросе” во внешней политике Российской империи XVIII столетия, мы почему-то совершенно забываем о важнейшей составляющей этой политики – религиозной».
Идеология «Москва – Третий Рим», источником которой стало письмо псковского монаха Филофея великому князю Василию III (отцу Ивана IV Грозного), в Российской империи стала не только религиозной, но и государственной идеологией. Постулат Филофея, что «все христианские царства сошлись в твоем царстве (т. е. России – А. В.)», подразумевал не только православные царства, но и весь православный мир. Российская империя, по мнению современного этнолога и историка Светланы Лурье: «Это инструмент ограждения православного и потенциально-православного пространства и механизм поддержания внутри него определенной дисциплины, как бы в очень ослабленном виде – порядка внутри монастыря».
Опасения Екатерины II о возможном отмщении, которое «может статься стороны татар и от турок, если оные в Крым прибудут», высказанное Румянцеву в рескрипте от 9 марта 1778 года, были обоснованными. Ведь ситуация в Крымском ханстве с началом русско-турецкой войны 1768–1774 годов стала меняться в худшую сторону. За время войны на престоле сидело шесть ханов, три из которых по второму разу. Это никак не стабилизировало обстановку в государстве.
После войны, кроме всех бедствий, которые испытали жители ханства, государство очутилось в системном кризисе. Социально-экономические и административно-политические проблемы были увеличены этно-национальным кризисом: противостоянием крымских татар и ногайцев, мусульман и райя (немусульманского населения). Национальная политическая элита была расколота на «проосманскую» и «пророссийскую» партии. Все это привело к непрекращающейся гражданской войне. Смена ханов уже после войны и последующее восстание против Шагин-Гирея (события, о которых мы выше рассказывали) явилось ее продолжением. Заметим, что российский ставленник Шагин-Гирей вошел в Крым во главе ногайских войск.
Свой вклад в обострение отношений между мусульманами и христианами внес и лично Прозоровский. Так, 27 октября 1777 года, в своем рапорте Румянцеву, Прозоровский сообщает, что мятежные татары увезли в горы «своих жен и детей», и он (Прозоровский) хочет «послать вооруженных албанцев (так называли греков из Архипелага, активно поддерживающих русские войска в войне 1768–1774 годов. и эвакуированных в Россию, после снятия российским флотом блокады проливов – А. В.)… с тем, чтобы они там их грабили и истребляли бунтовщиков».
Об участии христиан в подавлении бунтовщиков пишет и Рабби Азарья.: «Греки и Армяне соединившись с Русским войском, грабили и убивали Мусульман и издевались над их религией, и потому с восстановлением мира и порядка они боялись, чтобы Татары не отмстили им за претерпенные от них гонения во время войны».
Представленные выше факты явно свидетельствует о том, что конфликт между мусульманами и христианами в Крыму был неизбежен. Ведь даже присутствие российских войск не защищало от ущемления христиан. А уж без русских войск все было бы еще страшнее. И участие христиан в «карательных» действиях русской армии против мятежников только обострило ситуацию.
Все это говорит в пользу религиозной составляющей переселения христиан. «При этом, – пишет Р. Дейников – вероятная выгода этого шага для развития пограничных и малозаселенных российских губерний не могла сравниться по важности задачи с религиозно-этической составляющей эвакуации христиан из потенциально враждебного им мусульманского региона».
Поэтому нельзя не согласиться с выводами Р. Дейникова о том, что «версия причин переселения крымских христиан в Россию в 1778 году, связанная с экономическим ослаблением Крымского ханства в преддверии аннексии Россией с одновременным заселением Новороссии представляется нам малоубедительной, а иногда и прямо опровергается официальными документами. Тем более не выдерживает никакой критики трактовка переселения христиан в качестве широкомасштабной экономической диверсии России в отношении Крымского ханства, направленной на подрыв его экономики и финансов».
Все вышеизложенное свидетельствует, что инициатива переселения христиан из Крыма принадлежала именно российскому правительству. Однако есть мнение, что инициатива переселения исходила от митрополита Игнатия. Причиной такого мнения стало следующее.
Прибывший в конце апреля 1771 года в Крым, митрополит Игнатий стал очевидцем того, что его единоплеменники греки, потомки смелых античных греков, поселившихся в Крыму еще в VII века до Р. Х., стали подавленным и униженным народом, перенявшим нравы, обычаи, одежду и даже язык новых властителей полуострова татар и турок. Приезд митрополита Игнатия произошел после того, как русские войска, в ходе войны с Османской империей, взяли Крым. А этот факт обострил и так непростые отношения между христианами и мусульманами. Выше мы приводили примеры гонений на самого митрополита.
Все это побудило митрополита Игнатия 29 сентября 1771 года, как пишет Православная Энциклопедия, написать «в Святейший Синод прошение о принятии его епархии в юрисдикцию Русской Церкви». В ноябре этого же года, митрополит обратился к Екатерине II с просьбой принять крымских греков в подданство Российской империи. Но не дождавшись ответа, 8 декабря 1772 года он снова направил Екатерине II письмо с аналогичной просьбой. Но ни в одном письме владыки ничего не говорилось о каком-либо переселении. Тем более в 1777–1778 годах от митрополита не поступало никаких предложений по этому поводу. Его самого нужно было убедить в необходимости переселения христиан. И дело это было непростое.
Так, 4 апреля 1778 года, в рапорте Румянцеву, Прозоровский сообщал, что «всемерно старался» митрополита Игнатия, прибывшего к нему с резидентом при хане Андреем Дмитриевичем Константиновым, к переселению «наклонять, обнадеживая как самого его, так и народ под покровом ее императорского величества благодейственным состоянием и всеми преимущественными выгодами».
На это, пишет Прозоровский, митрополит дипломатично заметил, «что может быть сие возможно, и я надеюсь, что народ согласится, однако прежде уверить не могу, пока не отберу прямо их мыслей». Также владыка сказал, что на праздник Пасхи представится случай, «где люди будут в собрании суть лучшие и я могу под непроницаемым секретом с людьми значащими посоветовать и прямой ответ дать». Видно боялся владыка последствий «утечки информации».
О второй подобной беседе, произошедшей в том же составе, Прозоровский сообщает Потемкину письмом от 18 апреля. Беседа, судя по результатам, была более продуктивной. Поэтому, как свидетельствует Маркевич, митрополит «23-го апреля 1778 года, в день св. Пасхи объявил пастве о своем соглашении с русскими властями по этому поводу и составил записку об условиях переселения».
Теперь нужно ответить на вопрос – переселение было добровольным или насильственным. В российской историографии этот вопрос специально не рассматривался, поскольку нет свидетельств насильственного вывода христиан из Крыма. «Однако в ряде современных украинских исследований – отмечает Р. Дейников – иногда присутствуют весьма тенденциозные высказывания на этот счет». Причем, зачастую, при этом приводятся ничем неподтвержденные цитаты и фразы, вырванные из контекста.
Так, упоминаемый выше А. Герасимчук в своей статье, говоря о насильственном переселении христиан, якобы цитирует неназванную статью из «Известий Таврической ученой архивной комиссии» (ИТУАК) 1899 г. № 30: «когда в 1778 году греков переселяли из Крыма, то многие из них, не желая покидать родные края, приняли мусульманство и сказались татарами. И до сих пор в некоторых селениях Южного берега татары соблюдают христианские обычаи и носят чисто греческие фамилии (Кафадар, Барба и т. п.) с прибавкой специфического „оглу” (сын)».
Приведенная цитата интересна тем, что в упоминаемом номере ИТУАК нет никаких материалов, связанных с переселением христиан из Крыма. Скорее всего, эта цитата взята из домыслов какого-нибудь «исследователя», подобного автору статьи. О других «фактах», приводимых подобными «исследователями» в качестве подтверждения «насильственного переселения» христиан из Крыма, читатель узнает из примечания[65].
Конечно же, были греки, которые, чтобы не уезжать из Крыма, принимали мусульманство. Как были и татары, которые, чтобы уехать из Крыма, принимали христианство. Основной причиной этого были смешанные браки и нежелание разрыва семей. Возможны и другие причины. Вряд ли какой хозяин с радостью воспримет перспективу переселения из обжитых еще предками мест в незнакомую местность. Тем более узнав, что местность раньше называлась «Дикая степь». А находится она почти за 1000 верст от родной стороны. Но страх за жизнь семьи все же перевешивал страх неизвестности.
Не в пользу сторонников насильственного переселения христиан свидетельствует рапорт (от 25 июля 1778 года) Суворова князю Потемкину. Суворов сообщает о нахождении: «В опасности жизни и имений здешние христиане частью еще поныне» А поэтому: «все против того должные осторожности взяты и войскам в том строгие по приличеству приказы даны». Особый интерес представляют предложения Суворова в области финансовых взаимоотношений российской власти с татарами и переселенцами:
«Татар должно за христиан удовлетворить в некоторых партикулярных (т. е. частных – А. В.) долгах, коих и они тем заплатить будут не в состоянии, или заменою их недвижимого в некоторых не самознатных (не самых значительных – А. В.) суммах…Далее, христиан надлежит удовлетворить за их тратимое недвижимое (потерянную недвижимость – А. В.), особливо сады. Тем паче, что многие только от того их пропитание имели. Тако ж, по последнему замешательству (имеется в виду восстание против Шагин-Гирея – А. В.) разные изчезшие и уехавшие татарские чиновники им были должны, хан тех имение отписал на себя, яко мятежничье; должно те долги христианам за хана отдать; татарам заплатить за купленных их рабов христиан».
И это хотят назвать «депортацией», то есть принудительной высылкой? Ниже будут приведены и другие примеры заботы Суворова о переселенцах. Считаем, что любому не предвзятому человеку выше представленных фактов достаточно, чтобы убедится в отсутствии даже намека на «депортацию». А сомневающихся, думаем, убедят другие примеры, приводимые ниже.
Продолжим о подготовке к переселению. После того, как митрополит Игнатий объявил на праздник Святой Пасхи о переселении, дело сдвинулось с места. Тем более, что с 27 апреля вместо Прозоровского в командование войсками в Крыму вступил решительный и активный Суворов. И первым делом Суворов обратил внимание на военные дела. Ведь Турция усилила свои военные приготовления в Измаиле и Очакове, двинула свои войска к границе, начала строить мост через Дунай. Был усилен флот в Черном море. К турецкой флотилии из 7 судов, находившихся в Ахтиарской бухте, подошло в конце мая еще несколько судов из Синопа. А в Очакове к концу мая было уже пятнадцать судов.
О том как турецкие корабли ушли из Ахтиарской бухты 18 мая Суворов рапортовал Румянцеву: «Сего месяца на 15-е число по три батальона дружественно расположились с обеих сторон Инкерманской (Ахтиарской) гавани с приличной артиллерией и конницей и при резервах вступили в работу набережных ее укреплений… С полуночи на 17-е турки, выстрелив из пушки, стали убираться в поход; за противным ветром пошли буксиром».
С приближением начала переселения христиан, Стамбул активизировал свою подготовку к высадке войск в Крыму. В Черное море вошло более 170 турецких кораблей. С турецкой стороны было получено «Письмо капитана-паши Гази-Гасана-сераскира морского – начальнику флота российского», которое Суворов переслал Румянцеву в рапорте от 6 июля. Турецкий адмирал писал, что если российские корабли не уйдут из Черного моря, которое есть «наследственная область» султана, то он сочтет их разбойничими и будет топить, «тогда не гневайтесь».
Военные приготовления турок были подкреплены отказом Османской империи от контрибуционных выплат России по Кючук-Кайнарджийскому миру, воинственной риторикой и даже антихристианскими действиями. Посол России в османской империи Александр Стахиевич Стахиев сообщал руководителю российской дипломатии графу Никите Ивановичу Панину о том, что «нынешний топчи-баши (начальник артиллерии) Ахмет-бей на Перском (Пера в то время – дипломатический квартал Стамбула – А. В.) христианском кладбище обучал канониров производить скорострельную пальбу из пяти или шести вновь вылитых пушек».
Все это привело к тому, что 28 июня А. Стахиев подал мемориал (ноту) с просьбой о разрешении российской дипломатической миссии выехать на родину. А это означало разрыв дипломатических отношений, то есть, к началу июля Россия и Турция стояли на пороге войны, которая грозила перерасти в общеевропейский конфликт. Территория Крымского ханства должна была стать одним из театров военных действий. Однако, достойный ответ Суворова турецкому адмиралу и принятые меры по обеспечению безопасности крымских берегов, свели на нет все планы османов.
Создавшиеся внешнеполитические условия создавали дополнительную мотивацию для христианского населения Крыма для переселения в Российскую империю. Хотя, большинство крымских христиан, об этом ничего не знало, но знали «старшины и знатные люди». Вот они то, через своих духовных лидеров, подали Постановление крымских христиан с просьбой о принятии их в российское подданство и выводе их в пределы Российской империи.
В рапорте от 17 июля Суворов пересылает Румянцеву письмо митрополита Игнатия с двумя просьбами от христиан Крыма. Первая связана с получением монаршей грамоты, подтверждающей обещания, данные переселенцам. Вторая, «о нуждах при подъеме встречающихся, и о первом продовольствии по прибытии христиан в селения». При этом к рапорту было приложено Постановление крымских христиан. Главное в этом постановлении изложено в преамбуле:
«Все общество крымских христиан, греческого, армянского и католического законов, вступая в подданство всероссийское, с согласия и доброй воли, чрез преосвященнейшего митрополита Игнатия и просят ее императорского величества милости высочайшего покровительства и привилегии на вечность для них и потомков их от всероссийского скипетра представленных в непреложное право на основании следующих артикулов». И далее конкретные «артикулы».
Кстати, христиане «армянского и католического законов», не просто были упомянуты в Постановлении крымских христиан. Маркевич пишет: «Архимандрит Петр Маргос и патер Иаков согласились с условиями переселения, выработанными митрополитом Игнатием для греков, и сделали обращение к армянам, которые переселением были вообще довольны, сожалея только о недвижимом родовом имуществе, за которое, конечно, Суворов обещал им вознаграждение».
Суворов был не просто исполнителем, но и заботливым главой огромного христианского «семейства», и разумным советчиком для своих начальников, в вопросах связанных с переселением. Пример заботливости Суворова о переселенцах нам дает записка (от 17 июля) графу Румянцеву, которую мы приводим целиком:
«1) Под своз христиан, не имеющих подвод, потребно 6 000 пароволовых (т. е. запряженных парой волов – А. В.).
2) Место желанное было по Днепру от Казы-Кермена в гору. Но когда там селить нельзя, то просят поселить в Екатеринославку с уездом его, дабы по малой мере с Днепра рыбною ловлею и пригоном сверху Днепра же лесу довольствоваться могли.
3) Хлеб, тяжелые вещи, разные товары, а буде можно и винограды принять под образом покупки под свою защиту, а за то деньгами или чем удовлетворить, дабы одни только домы и лавки остались прежним их владыкам, а на поселении строить на место их другие; вещи же тяжелые перевозить по времени.
4) При новости, не дать места и какому их обременению: всем снабдить, во всем охранять, с одного на другое место не водить, отчего, разорясь, не роптали бы на судьбу.
5) Лето проходит, дома не поспеют. Отвесть в селениях квартиры: в Новоселице, в Каменке, в Протовчах, Чаплынке и прочих по Ореле (река, левый приток Днепра – А. В.) деревнях. Чтоб между хозяевами квартир их не было распрь, свесть два дома под образом постоя в один, таким образом, целая половина селения опростана будет для помещения христиан.
6) Защитить от всех разгневанных сим случаем хана и правительства и препроводить в целости.
7) В пути скудных провиантом снабжать, а по прибытии на место и всех как семенами, так и провиантом, доколе новый хлеб родится, пропитать».
В тот же день, когда была направлена записка графу Румянцеву, Суворов отправляет рапорт светлейшему князю Г. А. Потемкину. В нем он докладывал, что выход христиан из Крыма может быть готов в течение месяца. Поэтому и просил поторопиться с повелениями, «дабы усердие не охладилось и внутренние препоны не возросли». Суворов приводит Потемкину ориентировочное количество жителей, на которое увеличится Россия от переселения христиан из Крыма:
«Ревизия прибавляет России душ обоего пола: греков купцов 3 000, хлебопашцев 12 000, армян купцов (ибо они не хлебопашцы) армянского закона 5 000. Католического закона 1 200, я всего обоего пола больше 20 000 душ. Успех после покажет, много ли их в Крыму останется; есть ныне нежелающие».
Подготовка к переселению христиан происходила без официального сообщения об этом хану, хотя ему, скорее всего, это было известно. Хотя, пишет Суворов, «светлейший хан и правительство ведение сего не открываются и с нашей стороны им о том ничего еще не объявлено. Последственное их неминуемое негодование в большее сомнение приводит. Легче бы было, если бы ваша светлость особливо к хану о том объясниться вашею высокою особою соизволили, и к тому подарки. Хотя против целого народного волнования уже благовременные меры принять надлежит».
Суворов конкретизирует суммы затрат и говорит об одновременном массовом «выходе»: «Полагается при выходе подарить преосвященному митрополиту 3 000 руб., прочим до 5 000 (здесь указана сумма на всех – А. В.), а на подъем за подводы не меньше 50 000 рублей и ныне не без подарков, о чем я и его сиятельству графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому донес. Надлежит им подняться всем в раз».
Не забывает Суворов и о моральных факторах воздействия, поэтому и пишет: «Удостойте, светлейший князь, высоким вашим писанием митрополита в имени всего общества, весьма он сей милости от вашей светлости ожидает». Моральное воздействие письма от второго лица в государстве играло огромную роль.
Отметим, что опасения Суворова о вреде замалчивания переселения христиан оправдались. Хану Шагин-Гирею от крымской элиты поступила жалоба на Суворова и резидента Константинова на то, что они совращают местных греков и армян к переселению. Хан ответил «жалобщикам», что это ложные слухи. Однако обратил внимание Суворова и Константинова на идущие толки о переселении и о волнении местных жителей. При этом Шагин—Гирей передал Константинову заявление евпаторийских греков и армян о том, что они довольны своим подданством хану и не думают никуда уходить, «хоть саблями рубить их станут».
Не получив ответ на письмо в тот же день, хан, на другой день, 22 июля, выразил по этому поводу свое неудовольствие Суворову, а также просил ответить о христианах. В своем ответе хану Суворов объяснил задержку ответа из-за перевода. Но раскрыть планы переселения христиан пришлось. Суворов, в частности, объяснил хану:
«Императрица Всероссийская, снисходя на просьбы христиан, в Крыму живущих, о избавлении их от предгрозимых (угрожаемых – А. В.) бедствий сущего истребления, которым огорченные во время бывшего мятежа татары мстить им при случае удобном явно обещались, по человеколюбию и долгу христианского закона, всемилостивейше соизволяет переселить их в свои границы, надеясь, что вы, светлейший хан, не токмо высочайшей воле покровительницы своей прекословить не будете, но и благоспешествовать не оставите, поелику все, что до особы вашей касается, предохранено и награждено будет».
Положение сложилось тяжелое. Татары стали воздействовать на христиан «и угрозами, и обещаниями, и лукавством». Хан, выехав из Бахчисарая, прекратил все сношения с Суворовым и даже с резидентом Константиновым. Не принимал резидента, даже когда тот просил аудиенции высочайшим именем. Ханское правительство решило ходатайствовать в Петербурге об отмене переселения и просило у Суворова отсрочки начала переселения на 25 дней. Суворов отказал в отсрочке, ведь многие христиане уже были готовы к выезду.
Хлопоты о переселяемых христианах по-прежнему занимали Суворова. О его предложениях, касающихся финансовых расчетов российской власти с татарами и христианами, мы рассказывали, когда обсуждали гипотезу о насильственном переселении христиан. В рапорте Потемкину, где говорится о расчетах, Суворов затрагивает и продовольственные вопросы:
«Зерновой провиант, фураж и сено велено от меня российским начальникам снимать от христиан под верные квитанции, по которым определяется чинить расплату в Перекопе и Арабате, по провиантскому департаменту; тут должна быть казне некоторая прибыль. Тако ж приказано уже комиссии провиантской заготовить им проходной провиант, примерно на один месяц, до Александровской крепости (ныне г. Запорожье – А. В.) на Днепре, потом их довольствовать чрез неусыпное попечение г. Азовского губернатора».
Такое попечение о продовольственном положении переселенцев можно назвать депортацией? В приводимых ниже примерах заботы Суворова о переселяемых христианах, мы также объясним, что подразумевалось под словами «тут должна быть казне некоторая прибыль».
Резидент при ханском дворе А. Константинов письмом от 25 июля известил Суворова, что личной беседе с ханом, тот, в частности, сказал: «выводите христиан, никто не препятствует». После этого ситуация изменилась. В письме Румянцеву от 26 июля, хан хоть и просил отмены переселения, но писал, что если отмена не возможна, то «не оставить его высоким своим пособием», поскольку «нарекания на него среди подвластного ему народа увеличиваются.
Также хан издал «Повеление ко всем в крымских городах каймаканам[66]», в котором сразу же заверил о невмешательстве в этот процесс: «Оттщетившиеся (здесь: оставившие – А. В.) нас и пред сим давшие уверение Российской Империи о переселении своем в ее державу греки и армяне, кто именно таковы, без всякого опасения и боязни имеют о себе объявить с тем, чтоб к таковым со стороны нашей никакого (не было) касательства и препоны».
Повеление хана не обошло стороной и вопрос добровольности переселения: «кто ж добровольно идти не желает, таковых ни с одной стороны приневоливать не буду, и останутся каждый при своем месте спокойно». Чем не ответ приверженцам гипотезы «насильственного переселения»?
Небольшая заминка с началом переселения произошла по следующему поводу. Митрополит Игнатий не удовольствовался уверениями Суворова о льготах для греков. Поэтом и обратился к Румянцеву с просьбой присылки грамоты от императрицы с подтверждением льгот переселенцам, из-за «малодушия здешних православных христиан». Поскольку, как писал владыка, «пока они не увидят за рукой ее величества подтвержденною священную грамоту, то не осмеливаются отсель отлучиться, ниже (здесь: в значении «и» – А. В.) на мои слова веру не имеют».
В ответном письме Румянцев заверял греков о таких благодеяниях, о которых они и предположить не могут. Обещал лично передать их просьбу императрице. В общем, уговорить греков, а в действительности митрополита Игнатия, без документа («Жалованная грамота» была подписана только 21 мая 1779 года) удалось.
Начало переселения сдерживало отсутствие подвод. Суворов, в рапорте от 30 июля, сообщает Румянцеву о вторичной просьбе к Азовскому губернатору, «о наипоспешнейшем сюда отправлении прежде требуемых мною, сперва двух тысяч, а за ними и еще достальных четырех тысяч губернских подвод, партиями одной за другою и так чтобы ни одного дня не было без таковых в Крым пребывающих».
Далее Суворов объясняет необходимость «поспешного» прибытия подвод возможным изменением татарами «принятыми ими намерениев и опасны по внутренним и наружным беспокойствам». Вместе с тем, Суворов сообщает об отправке небольшого количества переселенцев:
«К Александровской крепости чрез Перекоп отправлено из Бахчисарая в начале, обоего пола: грузин девять душ, да сего течения 28-го числа мещан греков мужеского пола тридцать три, женского тридцать семь душ с приличным эскортом на подводах, всякого звания, казенных, полковых и партикулярных (здесь – «наемных» – А. В.), а затем и другой небольшой транспорт дня через три готов будет».
Интенсивная переписка между российскими представителями (Суворовым, Румянцевым, резидентом Константиновым) между собой и со светлейшим князем Потемкиным, а также с Шагин-Гиреем, свидетельствует о большом внимании к переселению христиан. Чтобы информировать Румянцева о ходе переселения и возникших трудностях, 7 августа Суворов отправил сразу два рапорта.
В первом рапорте полководец докладывает, что расходы «на сих христиан непрестанно умножаются». Это он связывает, в первую очередь, с расходами на выкуп рабов-христиан, «из коих есть много семейных». Семьи тоже нужно было выкупать, «поелику (потому что – А. В.) в рассуждении такового выводу христиан нет приличности и сих в неволе оставлять…»
Затем необходимо было выплатить христианам за «остающиеся зерновые произращения» (пшеницу, ячмень, рожь, просо, сено, солому). Причем по ценам, назначеным «духовными и стариками». Не хотел Суворов обидеть и солдат, которым предлагал оплатить «за молотьбу и помол зернового хлеба». По расчетам Суворова, несмотря на неурожай, «на заплату, с сеном и соломой, выйдет сумма больше восьмидесяти пяти тысяч рублей».
Теперь объясним, о какой «прибыли для казны» писал Суворов. Взяв крымские цены («за остающиеся зерновые произращения») и прибавив к ним расходы «за молотьбу и помол», он сравнил их с ценами, по которым «подрядный провиант сюда в Крым» поступает. Цена крымская, конечно же, дешевле (например: пуд сена покупается за 10 коп, а в Крыму это стоит 4 коп.). Потому Суворов пишет, что «здесь от христиан казна выигрывает около ста тысяч рублей, что заменяет убыток впрочем на них употребляемый».
«После донесение моего вашему сиятельству от 30-го июля, – пишет Суворов – отправлено на казенных, полковых и партикулярных повозках, а несколько и на собственных их, городских жителей из разных мест, действительно по рапортам обоего пола показанных, тысяча сто двадцать две души».
Об «Акмечети», поселении, возле которого был основан Симферополь, Суворов пишет: «Все уже без остатка разного рода христиан, греки, грузины и армяне тридцать три семьи числом всех мужеска и женска полов сто восемнадцать душ выехали». А в конце рапорта Суворов сообщает интересный факт:
«Странно ваше сиятельство есть, что козловские (евпаторийские – А. В.) некоторые татары объявляют свое желание также выехать в Россию за христианами, а с таковою ж просьбою и здесь к г. полковнику Бандре человек до десяти приходили, однако ж им сказывается, что на то от вышней команды повелений нет».
Второй рапорт на эту же дату посвящен транспорту. Суворова обеспокоило уведомление Азовского губернатора «о наряде вместо шести, двух тысяч подвод», что явно будет недостаточно для вывоза имущества переселенцев. При этом Суворов сообщает, что «некоторые усердствующие…за собственные деньги и не дешевой ценой покупают повозки и лошадей, дабы как наипоспешнейше отправиться в предь лежащий им путь». Вот еще один факт, опровергающий версию насильственного переселения христиан.
О ходе переселения Суворов регулярно информирует Румянцева. Благодаря этому мы имеет возможность видеть, как шел процесс переселения. Так к 7 августа выехало, как выше указано, 1122 человека, к 18 августа выехавших было уже 3896, а к 30 августу из Крыма выехало 17 575 христиан. В сентябре положение дел, по сравнению с началом переселения, улучшилось. Об этом мы узнаем из рапорта (от 8 сентября) Суворова графу Румянцеву:
«Число действительно отправленных в Азовскую губернию христиан простирается до 20 000 обоего пола душ и как ныне в фурах недостатка нет и губернские ежедневно партиями прибывать начали, то уповаю вывод оных кончить не позднее 20-го числа настоявшего месяца».
Суворов также сообщает о немногочисленных христианах, остающихся зимовать в Крыму, а также о состоянии запасов зернового хлеба и сена. Но бо́льший интерес представляет окончание рапорта, где Суворов пишет:
«Принимающие секретно святое крещение здешние татары уезжают вместе с христианами в Россию, во многих из них возрастает к тому ежевременное желание, в чем от меня препятствия чинить не велено».
Выше мы приводили факт обращения евпаторийских татар с просьбой о разрешении выезда в Россию. Теперь перед нами подтверждение факта их переезда. Вот тебе и насильное переселение. Уже через 10 дней после рассматриваемого рапорта, 18 сентября, Суворов рапортует Румянцеву: «Вывод крымских христиан окончен! Обоего пола отправилось в Азовскую губернию 31 098 душ».
Суворов отчитался за выход христиан после того, как отправились в путь их духовные лидеры митрополит Игнатий, архимандрит Маргос и католический патер Яков. Однако современный исследователь С. А. Калоеров, автор статьи «О переселении греков в Приазовье…», уточняет:
«На самом же деле выход был завершен 16 сентября, когда в путь отправилась последняя партия, прибывшая в Александровскую крепость 29 октября в составе 299 человек. Духовные руководители переселения, отправившиеся в путь 18 сентября, прибыли в Екатеринослав 24 октября. После 18 сентября также были выходящие из Крыма христиане. Это видно из соответствующих документов, хотя сведений о численности выходящих нет».
Принципиального значения добавление Калоерова, конечно, не имеет. Суворов посчитал окончанием выхода христиан отъезд духовных лидеров, что никак нельзя считать неверным. К тому же, сам Калоеров пишет, что и после 18 сентября «были выходящие из Крыма христиане». В этой части рассматриваемое дополнение является еще одним свидетельством того, что насильственного переселения не было, раз и после официального завершения выхода христиан были еще «выходящие из Крыма христиане»
К рапорту от 2 октября, отправленному светлейшему князю Потемкину, Суворов прилагает «ведомость всему бывшему здесь по выходу христиан денежному расходу, который хотя и ныне еще частью продолжается, но уже весьма небольшим количеством». Согласно этой ведомости расходы на переселение составили 75 029 рублей 92 копейки. Самая крупная статья расходов по этой ведомости – «на путевое продовольствие», которая составила 23 345 рублей 67 копеек Это на «депортированных», что ли?
Не осталась без вознаграждения крымско-татарская элита. В начале 1779 года Шагин-Гирей получил 50 тыс. рублей. Такая же сумма была выделена на ханских братьев, беев, мурз и ханских чиновников. Даже с учетом этих сумм и расходах, о которых Суворов писал, что они «частью» продолжаются, «но уже весьма небольшим количеством» общие затраты на переселения не могли превысить 180 тыс. рублей[67].
Согласно ведомости, приложенной Суворовым к рапорту от 18 сентября, из 31 098 вышедших из Крыма христиан было: 18 335 греков, 12 383 армян, 219 грузин, 161 волох. В Крыму остались зимовать 288 христиан, в том числе 60 греков и 228 армян. В Александровской крепости, куда направлялись христиане, и где они проходили регистрацию, карантин и ставились на казенное довольствие, было зафиксировано меньшее количество переселенцев.
«Согласно данным Ведомости земского комиссара капитана Булгакова от 27.12.1778 известно, – пишет Р. Дейников – что через эту крепость прошли 30 960 человек. По сравнению с данными Суворова, это количество на 408 человек меньше. Вероятнее всего, это погибшие в дороге люди…»
Несмотря на то, что вероятно умершие в дороге (слово «погибшие» здесь не уместно, поскольку не было ни катастрофы, ни бедствия, ни намеренного уничтожения и т. п.) христиане-переселенцы составили очень незначительно число (всего 1,3 % от общего количества, по данным Суворова), убыль переезжающих не осталась без внимания исследователей. Возник, как пишет Дейников, «серьезный дискуссионный момент в исследовании проблемы переселения христиан из Крыма – ситуация с их возможной массовой гибелью уже в пределах Российской империи». Рассматривать этот «момент» не является нашей задачей, но примерное количество умерших и основные причины этого, без детализации, мы оставить не можем.
Проанализировав статистические данные и сведения других исследователей, Дейников пишет, что «убыль бывших крымских христиан за 3 года с момента переселения составила около 4 тыс. чел., большая часть которых, судя по всему, погибла. Это весьма значительная цифра, которую с полным основанием можно поставить в „заслугу” со знаком минус организаторам переселения, аппарату Новороссийского края в целом и Азовской губернии в частности, уездным и интендантским службам на местах. Однако эта убыль все же существенно ниже данных, которые приводятся некоторыми исследователями».
Справедливости ради отметим, что обещанные земли христианам были выделены уже во второй половине 1779 года. Грекам было отведено 744 тыс. десятин[68]. Им самим разрешалось определять где, на отведенных землях, строить город и села. Как писал архиепископ Херсонесский и Таврический Гавриил, «вышедшие из Крыма греки основали и обселили двадцать селений и сверх того город Мариуполь».
Армянам было отведено 86 тыс. десятин земли, рядом с крепостью святителя Димития Ростовского (на месте крепости был основан г. Ростов-на-Дону). Им было разрешено основать город и пять селений. Основанный армянами город Нахичевань-на-Дону ныне составляет часть Пролетарского района Ростова-на-Дону.
В заключение подведем краткие итоги. Вывод христиан из Крыма состоялся по инициативе российского правительство. Данное «мероприятие» было поддержано духовными лидерами крымских христианских общин. О причинах и других аспектах переселения предоставим слово Р. Дейникову:
«Основой этого шага было, в первую очередь, стремление России эвакуировать с полуострова в условиях гражданской войны и угрозы османской интервенции единоверное (и просто христианское – А. В.) и традиционно благожелательно настроенное население. Важнейшую роль при принятии данного решения, несомненно, играла активно выстраиваемая в то время идеологическая концепция российского экспансионизма – истинно христианское царство, задача которого не только защита православных, но и изгнание турков из Европы. При этом, нет каких-либо данных о применении насилия российскими войсками при обеспечении эвакуации крымских христиан в Россию».
57
Кючу́к-Кайнарджи́йский мир – мирный договор между Россией и Османской империей, заключенный в лагере у деревни Кючук-Кайнарджи (ныне Болгария) 10/21 июля 1774 года, завершивший первую турецкую войну Екатерины II.
58
Еникале́, Ени-Кале – турецкая крепость возле Керчи, на берегу Керченского пролива.
59
Адриано́поль, ныне Эди́рне, город в северо-западной европейской части Турции, расположен на реке Эврос (Марица) на границе с Грецией, в 20 км от границы с Болгарией и в 235 км от Стамбула; основан римским императором Адрианом (117–138 гг.).
60
Марке́вич, Арсений Иванович (1855–1942) – историк Крыма, активный член, с 1908 года председатель, Таврической ученой архивной комиссии.
61
О́́́́рдер (фран. ordre – «приказ, порядок», от лат. ordo – «ряд, порядок») – предписание, распоряжение, документ, устанавливающий или закрепляющий определенный порядок.
62
Румя́нцев-Задуна́йский (в дореволюционных источниках довольно часто пишется – Румянцов), Петр Александрович (1725–1796) – русский полководец, генерал-фельдмаршал; указом от 10 июля 1774 года Екатерина II повелела присоединить к фамилии наименование Задунайский «для прославления перехода через Дунай»; в описываемое время был командующим войсками Юга России, генерал-губернатор Малоросии.
63
Рескри́пт (лат. rescriptum – «ответное письмо») – в Российской империи с начала XVIII в. правовой акт (личное письмо императора), в частности, данный на имя высокопоставленного лица с выражением ему благодарности, объявления о награде или возложении на него поручения.
64
Шагин-Гирей получал деньги от России еще до возведения на трон. Прозоровский в письме (от 9 июля 1777 года) российскому посланнику в Стамбуле А. М. Стахиеву писал: «Между тем же скажу я вам положение, на каком иногда пособии его светлости делаю деньгами; сначала к достижению сего предмета, который ныне утверждением его на ханстве свершен, дана была ему комисская сумма в пятьдесят тысяч рублей, только по прибытии его сюда ничего уже не осталось, почему и принужден я был на просьбу его несколько тысяч от себя дать…» Пишет Прозоровский и о том, что может дать десять тысяч, «под образ займа». Следовательно, только вступив на трон, Шагин-Гирей получил от русских более 60 тысяч рублей (Прозоровский не указал какую сумму дал). Если предположить (как Р. Дейников, который, очевидно, посчитал, что хану меньше 5 тыс. рублей давать неудобно) сумму более 65 тыс. рублей, то это составит 18,8 % от рассчитанного годового дохода ханства 345,6 тыс. рублей (о чем выше писалось). С чего бы это давать деньги правителю страны, чью экономику Россия хочет подорвать?
Екатерина II и Потемкин прекрасно знали, что легитимность власти Шагин-Гирея была под сомнением, поскольку он не был утвержден в своем звании халифом всех мусульман суннитов – османским султаном. Российский посланник в Турции А. Стахиев, посетив муфтия (высшее духовное лицо мусульман), в письме от 22 января 1778 года, графу Н. Панину, (с именем которого связаны все вопросы внешней политики российского правительства в период с 1763 по 1783 годы) передал слова муфтия о том, что «хорошо, если бы российский двор перестал защищать Шагин-Гирея и не старался бы делать ханом такую свинью и собаку…» Императрице и Потемкину волноваться не было необходимости. Как верно пишет Р. Дейников, что «в этих условиях хан не был способен на проведение сколько-нибудь самостоятельной политики, которая бы не устраивала Петербург. Он был зависим в финансовом плане, легитимность его власти держалась на российских штыках, а в дальнейшем – на российской дипломатии».
65
В работе Р. Дейникова приводятся данные из статьи «Опыт принудительного освобождения христиан» некоего Е. Княгинина. Там, в частности, Княгинин утверждает, что «в ответ на многочисленные жалобы правитель Малороссии граф Румянцев строго наказал Суворову (сменившему в апреле 1778 г. кн. Прозоровского на посту командующего Крымским корпусом российских войск – Р. Д.), чтобы ни один казак с плетью за крымскими христианами не гонялся». Дейников пишет, что «среди опубликованных писем Румянцева-Задунайского за 1778 г. мы не смогли обнаружить того „строгого наказа” Суворову». Не нашли такого «строго наказа» и мы. Есть только письмо Румянцева (от 2 сентября 1778 г.) Шагин-Гирею, в котором граф отмечает: «Но как ваша светлость между прочим упоминаете и об употреблении принуждения, то в отвращение сего…сделал я весьма строжайшее запрещение, и по сему оному отнюдь не вижу таких причин, которые б могли наносить вашей светлости досаду». Из труда А. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов», мы узнаем, что Суворов жаловался своему приятелю Турчанинову, секретарю Потемкина, на командующего: «Румянцов недоволен, разжигаемый ханом, чрез последнего передает строгое запрещение насильственного вывода христиан, когда ни один казак с плетью ни за кем не гонялся». Отсюда и взял Княгинин «казака с плетью». Мы полностью согласны с выводами Р. Дейникова: «На наш взгляд, подобное использование источников для „доказательства” верности собственной концепции вряд ли можно признать корректным с научной точки зрения. В этой связи, когда нет доказательств реального насилия российских войск при переселении христиан, приведенная А. Герасимчуком цитата из статьи некого В. Джувага – „Переселением греков руководил генерал А. Суворов. Оно происходило жестоко. По семейному преданию, моих предков-греков зарубили солдаты за отказ переселяться” – выглядит, по крайней мере, фантастической. Также как и цитируемая многими украинскими авторами фраза из статьи археолога и нумизмата А. Бертье-Делагарда (о нем см. примечание 108 – А. В.): „выходили христиане с горькими рыданиями, бегали, скрывались в лесах и пещерах, мало того, принимали мусульманство, лишь бы только остаться в родной земле”. Однако, во-первых, г-н Бертье-Делагард никогда не занимался серьезно указанной проблематикой, во-вторых, статья „Керменчик (крымская глушь)”, откуда эссе по итогам археологической экспедиции по поиску античных и раннесредневековых артефактов; в-третьих, указанная фраза вырвана из контекста взята цитата была опубликована в виде художественно-познавательного критики автором действий российских властей в XVIII в., потерявших „с выходом христиан…лучших посредников «Таврическая епархия», епископа Гермогена (Добронравина). Данные из книг Хартахая продолжают использовать и современные авторы, например, упоминаемый в тексте настоящей книги, А. Герасимчук.
66
Каймака́м (тур. «местоблюститель, наместник, заместитель») – в Османской империи глава администрации уезда; в русских текстах XVIII века ошибочно писали «каймакан», что сохраняется в отдельных текстах до сих пор.
67
В книге Ф. Хартахая «Христианство в Крыму», впервые изданной в 1864 году, читаем, что «вывод христиан обошелся правительству в 230 тыс. руб. ассиг.» Откуда взялась эта сумма неизвестно. Не профессионализм Хартахая как историка отметил еще А. Бертье-Делагард (см. раздел «Монастыри начала ХХ века»). Однако вышеуказанная сумма была приведена в книге «Таврическая епархия», епископа Гермогена (Добронравина). Данные из книг Хартахая продолжают использовать и современные авторы, например, упоминаемый в тексте настоящей книги, А. Герасимчук.
68
Десяти́на – старая русская единица земельной площади, использовавшаяся в России до введения метрической системы и равная 1,09 гектара или 109,25 «соток» (2 400 квадратных саженей).