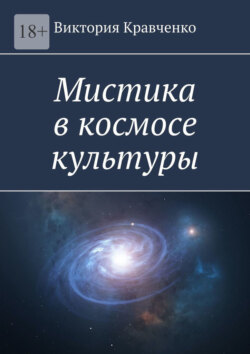Читать книгу Мистика в космосе культуры - - Страница 4
Предисловие
В. Мистика как явление и представление
ОглавлениеС большой благодарностью мы отмечаем труды целого ряда авторов, проведших огромную обобщающую работу, что позволяет, лишь ссылаясь на соответствующие исследования, не останавливаться на истории разработок конкретных проблем.
Необходимо упомянуть классическую работу Эвелин Андерхилл «Мистицизм» (первое издание 1911 г.)11. Она впервые рассматривала мистицизм как результат общечеловеческого универсального опыта взаимодействия человеческих существ с Абсолютом, вне зависимости от различий конфессий и религиозных традиций. Причем именно опыта практического (или, если угодно, праксеологического), а не абстрактно-теоретического или религиозно-схоластического. Андерхилл, будучи католичкой, тем не менее, мистицизм рассматривала как нерелигиозное явление. А полемизируя со знаменитым трудом У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта», видела необходимость выведения исследований мистицизма не только за рамки известных религий, но – и исключительных претензий психологии на рассмотрение мистических явлений. Нам близок ее интерес к работе Р. Бекка «Космическое сознание», которая дала ей ведущие идеи для современной интерпретации мистицизма. Именно Э. Андерхилл влияла на воззрения нескольких поколений первой половины ХХ в. целым рядом своих содержательных и оригинальных работ по важнейшим проблемам мистицизма, формулируя их смело и актуально. В чем значение тех личностей, которые, в отличие от большинства, обретают мистический опыт? Какую роль играют мистические опыты и их результаты в жизни общества? Как соотносятся между собой религиозный и мистический опыты? Как теология и учения различных церквей воспринимают мистические опыты?.. Таким образом, именно английской исследовательнице и ее авторитету, главным образом, мы обязаны тем, что теория, история и различные практики мистицизма стали предметом не только устойчивого общественного интереса, но – и постепенного формирования научных подходов и школ, как на Западе, так и в России.
Не умаляя значения известной работы У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта» для формирования интереса к необычным религиозным и мистическим опытам, в том числе, в самых широких слоях читающей публики во всем мире, все-таки подчеркнем профессиональное стремление Джеймса изучать мистику преимущественно в рамках психологической науки. Сегодня в Европе и США проблемами мистицизма занимаются многие школы в рамках культур- и социо-антропологии, психологии, психолингвистики, психофизиологии и т. д. Наиболее интересные и перспективные, с нашей точки зрения, наработки психологов и нейрофизиологов в области исследования мистики с помощью современного оборудования мы рассмотрим в соответствующей главе.
С конца 1990 гг. академическое признание получили независимые исследования западного «эзотерицизма», занятые рассмотрением «тайного» и «запретного» знания, преимущественно оккультного, но и мистического, долгое время находившихся вне поля научных исследований и преследуемых официальными религиями.12 Некоторые результаты западных ученых- эзотерицистов мы, конечно, будем отмечать в нашем исследовании.
Однако необходимо обратить внимание на неоцененные до сих пор на Западе достижения русских философов и, если можно так сказать, психо- философов, работавших за пределами России. Именно они определили совершенно уникальные подходы к изучению и интерпретации мистики и мистицизма, поскольку изначально стояли на особых основах их исследования – религиозно-философских, философско-практических и психолого- философских. О существенных различиях эзотерики и мистики, эзотерицизма и мистицизма в их европейском и русском представлении уже изданы специальные статьи.13
Всегда с восхищением и почтением обращаюсь к работам выдающегося ученого -синолога и оригинального философа Е. А. Торчинова (1956—2003), с которым мне посчастливилось общаться в связи с защитами моих диссертаций (Евгений Алексеевич был у меня вторым оппонентом на защите кандидатской и первым оппонентом на защите первой докторской диссертаций.) Ему, занимавшемуся исследованиями психотехник в восточных философских системах, чрезвычайно импонировал мой деятельностный подход к мистике. Кроме того, ученый горячо поддержал развиваемую мной тему русского мистицизма (которая сейчас мной трактуется в рамках целостной этно- культурной парадигмы), в то время как целый ряд философов 1990-х годов, когда я училась в докторантуре, скептически относились к подчеркиванию национальных особенностей в проявлениях и описаниях мистического опыта в русской культуре, не только потому что вовсе отрицали философский подход к мистицизму, но и поскольку не признавали национальной специфики мистицизма. С Евгением Алексеевичем мы обменивались своими книгами и увлеченно их обсуждали. Его поразительная и вдохновляющая человеческая и научная щедрость в личном общении, потрясающие лекции, беспримерная эрудиция, несомненно, помогли мне утвердиться в выбранном направлении исследования.
Несмотря на естественные разногласия (скажем, я не во всем принимаю трансперсональную трактовку мистики и соответственные подходы к определению мистического опыта), кардинальные принципы моих исследований были сформированы под безусловным влиянием Е. А. Торчинова. Это – исследования мистики и мистицизма в разнообразных аспектах кросс- культурного взаимодействия, с превалирующим интересом к древневосточным истокам мистических традиций; особое внимание к мистическим практикам, выявляющим не только общие духовно-практические, «делательные» методы, но и специфические – личностные и национальные аспекты мистической активности конкретного мистика; подчеркивание уникальных этно- культурных особенностей трактовки результатов мистического познания и многое другое.
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемое исследование является творческой интерпретацией и, в известном смысле, логическим развитием учения Л.Н.Гумилева. Будучи космистом, автор концепций «этногенеза» и «пассионарности» не успел или не смог довести до конца теоретическое построение своих гениальных прозрений, учитывая личные обстоятельства (четыре ареста, два из которых привели к двум лагерным срокам) и жесткие рамки советской науки.
В нашей работе подчеркивается и развивается культурологический и гуманитарный аспекты концепции этногенеза, в то время как Лев Николаевич, опираясь на свою широчайшую эрудицию историка, явно тяготел к естественнонаучному рассмотрению этого процесса. Однако заложенный им в основу его учения принцип междисциплинарности позволяет и даже предполагает обоснование выдвинутых им идей в философском, культурологическом, религиоведческом и прочих собственно гуманитарных аспектах.
В настоящем исследовании подчеркнуты философско-культурологическая и философско-религиоведческая составляющие этнической теории, которые во времена научной активности Гумилева и не могли быть развиты – в условиях засилья марксистско-ленинской философии и воинствующего атеизма. Понятно, что данная книга не претендует на то, чтобы реконструировать возможные подходы Гумилева к этим проблемам, если бы он мог высказать свое личное мнение на этот счет. Достаточно того, что в некоторых рассуждениях он прямо касается интересующих нас вопросов, и даже есть специальные работы, посвященные истории религии, например, бон.14
Даже в историческом плане мы вынуждены распространить учение Гумилева на, так сказать, доисторический период, который, по существу, стыкуется только с гумилевскими гипотезами о судьбах кочевых народов. Но мы берем за основу системный принцип рассмотрения этногенеза, закономерности его фазового развития, определяемые взрывом и затем постепенной энтропией пассионарности. Мы развиваем гумилевское понятие об «этническом поле», вводя свое понятие «культурного поля»; усиливаем заданную Гумилевым био-психологическую составляющую путем детального рассмотрения значения эмоций, переживаний и чувств; уточняем проблему источников энергий культурного развития, с привлечением современных психологических, космологических и философских теорий. Используя материалы современных полевых этнографических исследований, мы, безусловно, опираемся не столько на исторический, сколько на философско-культурологический ресурс, что позволяет рассматривать гумилевские концепции только в качестве отправных моментов.
Представляется необходимым и даже закономерным развитие этно- социальных аспектов гумилевской теории этногенеза, далеких от марксистских схем, а с привлечением результатов развития современной социальной и культурной антропологии.
Из недавних научных работ о мистике/ мистицизме остановимся лишь на некоторых. Об исследовании сущности и понятия «мистического опыта» в западной литературе написала объемную монографию Т. Малевич.15 Для того, чтобы подробно разбирать ее собственные взгляды на «мистический опыт» и характеризовать даваемые ею оценки целого ряда исследователей, нужно написать отдельную книгу, которая все равно не исчерпает затронутого необъятного предмета исследования. Потому в соответствующем моменте своего текста я ограничусь ссылкой на те определения «мистики» и «мистического опыта», которые сформулированы в указанной работе Т. Малевич и выскажу свое мнение по их поводу, а главное – подчеркну бесперспективность, с моей точки зрения, попыток выявить более-менее «общепризнанные» дефиниции, имеющие отношение к области мистики и мистического. Особенно, если четко не определена собственная позиция исследователя – философская, религиозная, праксеологическая…
Безусловно, важную роль играют исследования мистицизма как особого феномена на различных ступенях культурно-исторического развития человечества, в частности, рассмотрение «всплеска» мистицизма в эпохи культурных кризисов. Сборники, объединяющие работы видных ученых, философов, религиоведов, начинавших свои исследования еще в советское время, не теряют своей оригинальности.16 По крайней мере, они отражают марксистскую философскую и социокультурную позицию, которая приводит к конкретным историко-философским и социокультурным выводам по поводу функционирования мистицизма как множества религиозно-мистических направлений. К сожалению, в данном аспекте нет возможности рассмотрения самого феномена «мистики» (как и «мистического опыта»), поскольку он изначально предполагается на уровне «…стойких мистических настроений, концептуальных идей и социально-утопических проектов…»17, а также особого рода «знаний» в области обыденного человеческого сознания и поведения, которые и оформляются в бесконечное разнообразие направлений «мистицизма».
11
Underhill E. Mysticism: A Study in the Nature and Development of Man’s Spiritual Consciousness.1911.
12
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism/ Ed. By W.J.Hanegraaff. Leiden: Brill, 2006.
13
Кравченко В. В. Мистицизм в русской философии // Русская философия. Энциклопедия. Изд.2. М.: Книжный Клуб Книговек, 2014. С.382—383: Кравченко В. В. Русский мистицизм как образ «Другого» для западного эзотерицизма // Вестник Тверского госуниверситета. Серия «ФИЛОСОФИЯ». 2020. №3 (53). С. 174—187; Кравченко В. В. Русские мистики на Западе: столкновение менталитетов // Вестник МГОУ, серия «Философские науки». 2021. №4. С. 97—106.
14
Гумилев Л.Н, Кузнецов Б. И. Бон (Древняя тибетская религия) // Доклады ВГО (Всесоюзного географического общества). Вып. 15. Этнография. Ленинград, 1970.
15
Малевич Т. Теории мистического опыта. Историография и перспективы. М.: ИФ РАН, 2014.
16
См.: Мистицизм: теория и история / Отв. ред.: Е.Г.Балагушкин, А.Р.Фокин. М.: ИФРАН, 2008.
17
Мистицизм: теория и история, с.5.