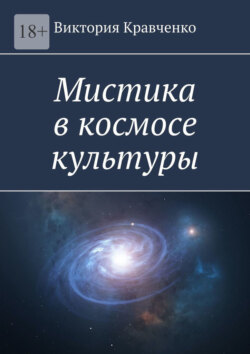Читать книгу Мистика в космосе культуры - - Страница 7
Часть первая.
Мистика в истории и теории
Глава 1.
Предыстория современного понимания мистики
(в свете этно- энергетической концепции культурного поля (ЭЭКК))
1.2. Магия и ее этнокультурные трансформации
Оглавление…там, где человек видит недостаточность своих знаний и своего рационального подхода, он обращается к магии.
Бронислав Малиновский
О понятии магии
В большинстве научных и справочных изданий магия понимается как совокупность обрядов (действий, ритуалов), призванных сверхъестественным образом воздействовать на явления природы, людей и духов. Магическое воздействие, исходя из данного определения, основывается на убеждении в существовании неких «сверхъестественных» сил; по некоторым же определениям магии в ней предполагается наличие даже сформированной веры в «сверхъестественное» (по аналогии с религиозной верой).
Среди множества определений магии, рассматривающих ее как совокупность определенных действий и процедур, выделим необычное, которое дала Розмари Эллен Гуили в своей «Энциклопедии магии и алхимии».
«Высшая сила, возникающая вследствие управления внутренней энергией и сверхъестественными силами и сущностями с целью вызвать изменения в мире физическом».111
Р. Э. Гуили также цитирует определение магии, данное известным оккультистом Францем Бардоном, с которым мы не можем не согласиться.
«Магия – величайшее знание и высшая наука из существующих на нашей планете. Она изучает законы не только метафизики, но и метапсихики, существующие и применимые во всех измерениях. С незапамятных времен высшие знания всегда были известны как „магия“».112
Рассматриваемая как исток и результат, а не только как процесс взаимодействия высшей энергии в сочетании с человеческим усилием (внутренним или внешним), – магия становится фокусом проявления той Тайны, которая постоянно присутствует в жизни отдельного человека, общества и природы. Какую «высшую силу» мы имеем в виду? Наглядно это можно продемонстрировать на Шкале энергий, которые мы восприняли из теории Дж. Г. Беннетта о «драматической Вселенной» (см. в конце нашей книги Приложение 1). От Механических энергий, свойственных Природе, под влиянием культивирующих воздействий человек был простимулирован к использованию более высоких Энергий жизни, вверх – от Е8 к Е5.
Энергии Жизни
Е5! Чувствительная энергия! Осознание и избирательное
внимание
Е6! Автоматическая энергия! Рефлексы и ассоциации
Е7! Жизненная энергия! Жизненность, воспроизведение
Е8! Конструктивная энергия! Катализ и аутосинтез
Как показано в моей монографии «Симфония…», в созданном этнокультурном поле продуцируются и используются различные виды энергий, потому что «энерготипы» членов этноса управляются энергиями различного уровня. Для поддержания и создания базовых условий для дальнейшего развития энергополя большинство членов этноса используют Энергии жизни: обычные (гармоничные люди) пользуются автоматической энергией Е6 и редко – чувствительной энергией Е5; инертные люди существуют на основе сочетания жизненной энергии Е7 и автоматической Е6.113 Страстные таланты и гении – от энергии жизни Е5 до творческой энергии Е3. Супер- страстные пассионарии, непосредственно находящиеся под воздействием Учителей или мощной внешней культивирующей силы, могут воспринимать и использовать космические Вселенские энергии – от Е4 и выше. (См. Приложение 1).
Таким образом, в рождающемся и развивающемся этносе «…каждый энерготип находится на „пересечении“ энергий, что определяет значительное разнообразие индивидуальных психических организаций, жизненных и социокультурных позиций, способов деятельности и т.д.».114
То, что мы называем «магией» – это процесс и результат реализации Вселенских энергий, которые воспринимаются и реально используются супер-страстными и страстными членами племени.
Сама способность управлять подобными энергиями и добиваться необыкновенных эффектов в земной Природе воспринимается как «волшебство», а люди, обладающие этими способностями, и называются «волшебниками» или «магами» (колдунами, ведьмаками и ведьмами – от слова «ведать», знать).
При этом еще раз подчеркнем: магия прямо и непосредственно связана с культурным полем и эгрегором всего, всецелого данного племени. Необходима энергетическая «основа» воспринятых и «проработанных» энергий у всех обычных членов племени. Соответственно, должна быть создана эмоциональная общность жизни в племени, что проявляется в разработанных и всеми почитаемых мифах, в уважительном отношении к носителям древних традиций (в диапазоне от обыденно-привычного приятия до благоговения и фанатичного почитания), в развитии определенной традиции обращения к Иному.
Этническая магия всегда уникальна, поскольку создана на основе неповторимого пересечения и сочетания используемых в данном племени энергий, в свою очередь, варьирующих по интенсивности, особенностям проявления и т. п. Магия – это всегда некий «отпечаток» этнического энергополя.
С точки зрения коллективной и индивидуальной психологии магия – это совокупность методов гармонизации соотношения сакрального и земного в жизни реального сообщества.
При этом нельзя сбрасывать со счетов и значения природного и социо-культурного ареала, где проживает и развивается племя.
В конце концов, не исключено, что начало экспансии в фазе пассионарного подъема племени связано, в том числе, с интуитивными или извне предписанными поисками более мощных природных энергетических потоков, использование которых способствует ускорению развития племени. (Вспомним, как мифологически описано переселение догонов из местности возникновения племени в Судане в нынешний ареал Бандиагары: под предводительством первопредка Лебе, после смерти превратившегося в змею, догоны по подземному переходу перешли на место нового обитания). До сих пор многие исследователи удивляются, что догоны живут в чрезвычайно неблагоприятной для жизни местности, находя логичные этому объяснения – желание спрятаться от агрессивных племен или европейских и мусульманских миссионеров и т. п. С нашей точки зрения, в Бандиагаре, вероятнее всего, сложились уникальные природные энергетические потоки, которые служат для догонов естественной «подпиткой», позволяющей им в течение как минимум тысячелетия находиться в инерционной фазе (и, если верить в возможность их нынешних контактов с Сириусом, напрямую подпитываться еще и Вселенскими энергиями).
Социокультурное окружение предполагает, в первую очередь, плодотворное общение с ближайшими племенами, постоянные экономические, политические, духовные связи.
Говоря о магии, мы считаем необходимым подчеркнуть ее изначальную связь именно с африканскими племенами, а потом уже распространение разновидностей магических практик на Ближний и Передний Восток, по мере расселения племен из Африки; соединение магии с формирующимися древними религиями и культами и т. д. в средиземноморском культурном ареале. В настоящий момент, к сожалению, недостаточно информации по этой проблеме. Но мы уверены, что дальнейшее открытие реальной древности Африки и ее до сих пор неизвестных духовных достижений даст богатейший материал в исследовании истоков и разнообразия древнейших форм магии в общечеловеческой культуре.
Разнообразные виды магии – это результат разработанных комплексов энергий, которые в процессе культурной диффузии распространяются в различных культурных полях, обретая довольно устойчивые проявленные черты, в первую очередь, разработанные практики, а также утварь, артефакты и т. д.
Определение Р. Э.Гуили позволяет отграничить, так сказать, подлинную магию от целого ряда манипуляционных систем, использующих природные и человеческие силы, и преследующих исключительно низменные и сиюминутные цели примитивных (по своему существу, а не только первобытных) представителей человеческого рода.
Подчеркнем: рассматривать магию ТОЛЬКО как совокупность необычных практик, пусть и с обращением к сверхъестественным силам, значит искажать исконную суть данного явления. О магических практиках подробнее поговорим далее.
Еще одна важная и редчайшая сторона в подходе Р.Э.Гуили к рассмотрению истоков самого термина «магия» – подчеркивание происхождения этого слова: оно пришло в средиземноморский культурный ареал благодаря грекам, которые, в свою очередь, использовали наименование мидийского племени, известного своими магическими умениями.115
Как известно, во многих справочных источниках «магами» часто называются только зороастрийские жрецы, что верно лишь отчасти.
Маги – одно из шести древних Мидийских племен (+ бусы, паретакены, струхаты, аризанты, будии). Мидийские племена Геродот называл ариями, скорее всего, это было их самоназвание. Они прибыли на территорию современного Ирана, скорее всего, в конце 2-го тыс. до н.э. – в начале 1го тыс. до н.э. из Средней Азии (возможно, Северного Кавказа и Прикаспия).
Известная британская иранистка Мэри Бойс, рассматривая предысторию зороастрийцев, отмечала, что их далекие предки, протоиранцы, примерно в начале II тысячелетия до н.э. расселялись на огромной территории от Волги до Западной Сибири. Они населяли также территорию нынешнего Северного Казахстана, а их близкие родственники – протоиндоарии жили южнее,116 по данным других авторов, постепенно продвигаясь к полуострову Индостан.117
Постепенно ассимилировав неарийские племена в период упадка Ассирии, Элама и Вавилонии, мидийские племена в 7 в. до н.э. (673 г. до н.э.) были объединены первым царем Мидии Дайукку (Дейок), построившим столицу Экбатан. Мидия была одним из важнейших политических и культурных центров Древнего Ближнего Востока, наряду с Вавилонией, Лидией и Египтом. В 553 г. до н. э. Мидия была завоевана Киром Великим. И только после этого мидяне приняли зороастризм, а скорее всего – соединили его со своими племенными магическими практиками. При этом, видимо, именно мидийские жрецы пользовались особым авторитетом, но с объединением древнеиранских племен и упрочением зороастризма, как религии «осевого времени», племенные представления и духовный авторитет мидян в глазах победивших племен и народов поблекли, для внешних наблюдателей навсегда слившись с зороастрийской традицией. (Подобный процесс включения развитой жреческой традиции одного племени в единую религию объединенных племен в государстве или регионе – мы рассмотрим подробно в следующем параграфе на примере прасунского племени в Северном Кафиристане. Как отмечал исследователь К. Йеттмар, «…кафиры являлись религиозной общиной, жрецами которой было племя прасунцев. Известна такая организация у иранцев (где маги считаются одним из шести „кланов“ мидийцев) и у индийцев (брахманы)».118)
Об основных истоках и сущности магии
…магия – это знание, которое учит практическому применению законов природы низшего уровня к высшим
законам духа.
Франц Бардон
Несмотря на поглощение зороастризмом магических практик мидийцев, важные для нас реликты древнеарийской жреческой магии в зороастризме сохранились.
Исследуя древнейшие представления протоиндоиранских племен, Мэри Бойс отмечала, что в основе древнеиранских представлений о божественном лежало приписывание особой сознательной силы всем существам и предметам, силы, называемой «манйу» (по- авестийски – «маинйу», от глагольного корня «ман» – думать). Эти силы наполняли землю, воду и огонь; но также «…существовали Маинйу мира и изобилия, Маинйу раздора и голода. Были и Маинйу качеств и чувств, таких как смелость и радость, ревность, жадность и тому подобные. Они, таким образом, воспринимались не как абстракции или составные части характера самого человека, но как активные независимые силы, к которым он может обращаться с молитвой или умиротворять их и которые, если человек им позволит, могут войти в него и влиять на него в лучшую или худшую сторону».119
Нетрудно увидеть, что авестийские «маинйу» соответствуют современной трактовке «энергий», присущих предметам, явлениям и людям, при этом представляющим собой «активные независимые силы», которые осознаются человеком в их влиянии на него, а также могут им использоваться или вынуждать его им, силам, противостоять.
М. Бойс отмечала: «Авестийское „маинйу“ чаще всего передается словом „дух“, и если эти духи были добрыми, то они почитались, а некоторые из них даже превозносились до такой степени, что могли действительно называться „божествами“ и призывались по имени во время богослужения ясна».120
Совершенно очевидно, что авестийское «манийу» и созвучно, и близко по значению термину «мана», принесенному западными антропологами из Меланезии и Полинезии. Первым это понятие описал Роберт Генри Кодрингтон (1830—1922), англиканский миссионер и один из признанных этнографов, изучавших меланезийские племена, их быт, мировосприятие и язык.
По представлениям аборигенов Меланезии и Полинезии, «мана» – некая сверхъестественная сила, носителями которой могут быть отдельные люди, животные, различные предметы, а также духи. В магии мана применялась для установления хорошей погоды, получения обильного урожая, лечения болезни, успеха в любви и в сражении…
Как отмечал М. Элиаде: «Для меланезийцев мана – это таинственная и активная сила, которой наделены некоторые индивиды, а также обычно души умерших и все духи. Грандиозный акт сотворения мира не был бы возможен без мана божества; глава клана также обладает мана; англичане покорили маори, потому что их мана оказалась сильнее; богослужение христианских миссионеров обладает мана, превосходящей мана местных ритуалов».121
Аналогичные представления о магической силе обнаруживаются и у других племен в разных регионах мира: у ирокезов Северной Америки – «оренда»; у племен сиу-Дакота – «вакан» или «ваконда»; у племени понгве в Африке – «еки».
Подобное представление о некоей «магической силе» предположил в древнеминойской культуре на Крите историк Ю. В. Андреев. Он замечал: «Подобно многим первобытным народам минойцы могли возлагать ответственность за происходившие вокруг них большие и малые события не только на конкретных духов, богов или иных существ, наделенных признаками божественных индивидов, но и на некую безличную, часто лишенную определенной формы магическую силу, которая могла быть просто разлита в окружающем пространстве или же свободно перемещалась в нем наподобие шаровой молнии или болида. Нечто подобное, по всей видимости, представляла собой столь чтимая обитателями островов Меланезии и Полинезии мана. Эта сила могла проявить себя или найти свое материальное воплощение в любом явлении природы, животном, растении, человеке или неодушевленной вещи».122
Многие десятилетия европейские и американские этнографы связывали магические «силы» почти исключительно или преимущественно с «духами» и «миром мертвых», обнаруживая категорическое непонимание самой сути «первобытного» или «примитивного» миропонимания аборигенов. Неудивительно, поскольку большинство западных ученых, включая признанных классиков, изучали предвзятую этнографическую литературу и никогда не жили бок-о-бок с реальными аборигенами.123 Современная этнографическая литература, опирающаяся на полевые исследования, дает богатейшие материал о реальной жизни и, главное, представлениях реликтовых племен. Потому можно вполне обоснованно критиковать взгляды классических и современных «анимистов» и «аниматистов», считающих, что древние люди и современные аборигены выстраивали какие-то «философские рассуждения» о смерти и таким образом создавали примитивные, а затем все более развитые религии.
В действительности, по нашему убеждению, древние люди и современные аборигены никогда не думали и не рассуждали о смерти, а всегда думали только о жизни! Другое дело, что они видели различные проявления жизни, и в своих далеко нефилософских умозаключениях принимали в расчет наличие некой Иной реальности, которую понимали вполне прозаически и практически, в своей племенной культуре получая устойчивый навык постоянного ритуального взаимодействия с этой Иной, оборотной стороной ЖИЗНИ!
Чрезвычайно популярная и затем яростно раскритикованная концепция «анимизма» Тейлора, с нашей точки зрения, была попыткой выразить в терминах европейской культуры идею «двойственности» всех вещей и явлений в мире, характерную для примитивного миропонимания. Идею, более удачно сформулированную в концепциях «партиципации» Люсьена Леви-Брюля и «оборотничества» А.Ф.Лосева.
Люсьен Леви-Брюль, исследовавший природу пра-магического, как «сверхъестественного» (в современном понимании) в мышлении дикарей, исходил из убеждения, что «…коллективные представления первобытных людей не являются, подобно нашим понятиям, продуктом интеллектуальной обработки в собственном смысле слова. Они заключают в себе в качестве составных частей эмоциональный и моторные элементы, и, что особенно важно, они вместо логических отношений (включений и исключений) подразумевают более или менее четко определенные, обычно живо ощущаемые партиципации (сопричастия)».124
Наряду с концепцией Л. Леви-Брюля, для того, чтобы подчеркнуть особость первобытного «магического мышления», обратимся к феномену «оборотнической логики», о которой писал А.Ф.Лосев. По его мнению, в собирательско- охотничий период в пробуждающемся мышлении человека отсутствовало понятие субстанции, и для общей смутной и нерасчлененной сферы человеческого мышления и сознания была характерна «оборотническая логика». Это означало, по словам философа, что «… ни в какой вещи человек не находит ничего устойчивого, ничего твердо определенного. Каждая вещь для такого сознания мажет превращаться в любую другую вещь и каждая вещь может иметь свойства и особенности любой другой вещи». Отсюда следует, что «…отдельный человек не отделял себя ни от своей общины, ни от природы. … это значит, что он может мыслить себя каким-нибудь другим индивидуумом (одним или многими), мыслить себя носителем его сил и находиться во власти иллюзий такого перевоплощения или оборотничества».125
Для древних людей реальность была полностью слита с «неизвестностью» и ощущение таинственного/непознаваемого проницало все связи и отношения человека с миром, т.е. сама «удвоенная» реальность была насквозь таинственна. По сообщению Л. Леви- Брюля, например, игороты с Филиппинских островов убеждены в том, что «все предметы имеют невидимое существование так же, как и видимое». Потому основополагающей чертой коллективных представлений первобытных людей в отношении природы является то, что в каждом предмете – «… действие неизменно признается реальностью и составляет один из элементов представления о предмете».126
Иначе говоря, таинственное было неотъемлемо присуще природным и созданным самим человеком предметам, оно носило действенный характер, причем действие объектов было неявным, но по своему значению считалось более существенным и жизненно-значимым, чем явные, так сказать, поверхностные связи и взаимодействия. Леви- Брюль подчеркивает, что все мироощущение первобытных людей было пронизано этим убеждением в том, что существуют «… силы, влияния, действия, неприметные, неощутимые для чувств, но тем не менее реальные».127
В первобытные времена «пра-магия» или древнейшая магия существовала как смутное представление и об окружающем мире, и об ответе действием на внешние (по отношению к человеку) и, как правило, скрытые («таинственные») влияния, силы, воздействия. Смутные представления о мире отражались в насыщенных базовых эмоциях128, совокупность которых и формировала первичное культурное поле этноса.
Ответное действие на влияния окружающего мира предполагало лишь приблизительное знание того, на что и как нужно отвечать. Результативность ответа не могла быть гарантирована, и человек никогда не мог быть уверен в правильности своего действия. Потому в психологическом плане нужно подчеркнуть высокую тревожность примитивных людей. За точку относительного постоянства взаимодействий со «скрытой реальностью» принималась удовлетворительная наличная ситуация, и максимум усилий племени, как «коллективной личности», был направлен на поддержание стабильности существования. Отсюда – постоянство внешнего вида построек, одежды, утвари, украшений, орнаментов и т. п. У членов племени существовало глубочайшее убеждение в том, что даже форма предмета, сделанного человеком (а также орнамент, цвет и т.д.) может оказывать на него и других людей сильное влияние.
Таким образом, в первобытную эпоху здешняя реальность в восприятии древних людей была слита с Иной, потому Тайна проницала все связи, отношения человека с миром; двойственная реальность была насквозь магичной. «Первобытная магия», как и «мифическое мышление», носили действенный и вполне реальный характер для примитивного мышления, а иногда – более существенный и жизненнозначимый, поскольку действие предмета на человека составляло неотъемлемый элемент представления об этом предмете.129
Можно сказать, что первобытная «партиципация» (по Л. Леви-Брюлю) и «оборотническая логика» (по А. Ф. Лосеву), проводившие полную «аналогию», например, между членами племени и тотемом, в своей кульминации «подменяли» и зеркально «отражали» их взаимоотношения в обычной жизни: тотем мог съесть (реально или символически) члена племени, «отправляя» его в запредельный мир; а во время периодически проводимого священнодействия члены племени поедали тотема, «возвращая» его к первопредкам и через него получая коллективный непосредственный доступ к Иному.
С ростом населения и постепенным смешением этносов во время коллективных церемоний трудно было привлечь всех присутствовавших к традиционному ритуалу, который уже совмещал магию и различные виды художественного творчества, искусства.
Как замечал Ю.М.Лотман, «…архаический обряд требует архаического мировоззрения, которое искусственно создать нельзя. Слияние актера и зрителя подразумевало слияние искусства и действия. …Это состояние бесконтрольного возбуждения, в которое приходит исполнитель в процессе своего творчества и которое в экстатических формах …завершается полным изнеможением. <…>»130
Появлялись исполнители культовых «представлений» и заинтересованные зрители, а главное – выделились особые люди, обладавшие необычными способностями, которых сегодня называют «шаманами» (у разных народов их именуют шаманами, ведунами, волхвами, колдунами…). Они были способны вне массовых праздников устанавливать «связь» с запредельным миром посредством индивидуальных техник, которые частично передавались по линии культурного наследования (от старого шамана к его преемнику), но главное – в результате переживания уникального личного опыта установления связи с Иным (мирами духов «верхнего», «среднего» и «нижнего» миров) и прохождения особых обрядов посвящения.
Маги (жрецы, шаманы, колдуны…) в древности аккумулировали изначальное тайнознание и народные представления, совмещали в своей деятельности «жреческие» и обыденные функции. Потому даже фрагменты изначальной Тайны они могли приоткрывать в общедоступной форме, расширяя круг если не посвященных, то приобщенных к тайноведению.
Мы далее будем более подробно говорить о различиях между магией и религией, но уже сейчас можно четко сформулировать нашу позицию: магия никоим образом не может считаться предшественницей религии! Еще раз повторим: магия – это этническая «интерпретация», деятельное освоение Тайны Иного и драматизация мифов. Можно совершенно определенно говорить о мифо- магическом миропонимании древних людей, которое закономерно трансформировалось в религиозное (подробнее в следующем параграфе).
Магия, как и миф, всегда присутствовала в человеческой культуре и всегда будет существовать, как в традиционных, этнических формах, так и в позднейших проявлениях, входя в сложные конгломераты с различными сторонами культуры – религией, наукой, искусством, политикой, различными видами творчества, особенно в тех, в которых есть риск, опасность, неопределенность…
В конечном счете, сущность магии составляет именно понятие «силы», некоего непостижимого «свойства» или «качества», в разной степени присущих предметам, людям и явлениям земного мира, но в значительно большей мере – проявлениям и «существам» мира Иного. При этом нельзя забывать, что для примитивного сознания Иное – это оборотная сторона здешней реальности, тоже реальность, но непознанная.
В определенном смысле, применяемое нами понятие «пассионарной энергии» также довольно близко по смыслу подобного рода понятиям, однако в нашей интерпретации энергия пассионариев представляется «сверхъестественной» обычным и инертным людям; в действительности, все виды энергий, рассматриваемые нами по шкале Дж. Г. Беннетта, имеют вполне естественное, земное и космическое происхождение, хотя во многих своих характеристиках и возможностях они пока не изучены человечеством.
В действительности, наше понятие «пассионарной энергии» ближайшим образом связано с более разработанными и важнейшими категориями: в китайской философии – «ци»131 и в древнеиндийской философии – «прана»132. Заметим, что у суфиев есть понятие «барака». В конце концов, в христианстве существует понятие «фаворский свет» и «энергии», описанные в исихастском учении Григория Паламы и его последователей… В русской традиции есть понятие «жизненная сила», а в богословии – «благодать».
Магия в этнокультурной динамике
Магические формулы проецируются в область эфира.
Розмари Гуили. Энциклопедия Магии и Алхимии
В свете этно-энергетической концепции культуры «магия» зарождалась и развивалась с момента появления конкретного этноса. Она явилась наиболее ранним в истории развития этноса деятельным воспроизведением мифологических представлений, связанных одновременно с ежедневной жизнью древней общины. Возможно, был даже некий этап творческого создания (или освоения данного извне образца) магии – так сказать, Пра- магии – как первичной этнической «интерпретации» мифов, представленной в деятельно-творческой форме. Она воплощала собой способ деятельного соединения здешней и Иной реальности.
Как мы рассматривали в предыдущем разделе, мифы с древнейших времен разделялись на тайные жреческие и народные (фольклор).
Магия была напрямую связана с Тайнами – и первоначального (космогонического, теогонического) мифа, и обыденных, общеплеменных мифов. На первых этапах формирования этноса, в процессе складывания традиции передачи полученных «извне» знаний и практики выживания в новой социокультурной среде133, некая пра-магия выступает как способ гармонизации и стабилизации племенной жизни, освоения и «оземления» Тайны, оформленной в миф.
О жреческом мифе М. Элиаде писал: «Рассказать священную историю значит открыть тайну, ведь персонажи мифа не человеческие существа, они боги или Герои- строители цивилизаций, а посему их gesta134 составляют тайны. Человек может узнать их только в том случае, если ему их откроют».135
Если жреческая магия была «дана» человеку в готовом виде (как наследие и некая «программа» на будущее), то обыденная магия, – с одной стороны, включавшая некоторые элементы тайнознания, а с другой, признававшая тайны человеческого бытия, – была неразрывно связана с повседневной практикой выживания племени, что в значительно большей степени влияло на формирование общеэтнического менталитета племени. Оба уровня магии соотносятся с тайнами, восходящими к мифическому Началу Времен, к непостижимым деяниям древних. Потому основная особенность магии состоит в том, что она практически использует неизвестные (непостижимые?) закономерности как полученное в готовом виде «ноу-хау», приемы, способы деятельности, доверяя традиции (в конечном счете, древнейшим Учителям).
Бронислав Малиновский, признанный социальный антрополог, специально изучавший магию у меланезийских племен, писал: «…когда социолог приступает к изучению магии там, где она до сих пор продолжает господствовать, <…> т.е. у дикарей, до сих пор еще живущих в Каменном веке, – к своему разочарованию он встречается с совершенно трезвым, прозаичным и даже грубым ремеслом, служащим чисто практическим целям, опирающимся на примитивные и неглубокие верования с незрелой и ограниченной идейной основой и с простыми и однообразными практическими приемами».136
Безусловно, мы далеки от подобного, крайне- функционалистского одностороннего понимания магии, да еще при отсутствии рассмотрения ее динамики, видового разнообразия и пр.
Но мы согласны с Б. Малиновским в главном: в магии нет веры, в ее позднейшей европейской трактовке. Подчеркнем еще раз: в древнейшей магии еще нет веры; в ней, как деятельном освоении мифа, есть доверие к традиции, и если проявляется некое «творчество», оно также неизбежно вписано в традиционные представления этнического менталитета. И если можно говорить о «магии вообще», то, видимо, стоит признать некое «ядро» первобытной магии, которое, как космическое реликтовое излучение, через века и тысячелетия несет в себе вполне различимые основополагающие черты «пассионарного взрыва» и начала конкретного этногенеза.
В упоминавшемся нами австралийском племени аранда в священных местах на «пути первопредков» до сих пор совершаются обряды интичиума (магического размножения тотема) и обряды посвящения юношей, достигших половой зрелости.137 В современном племени догонов почти тысячелетие проводятся обще- племенные священнодействия в рамках установленной традиции, естественным образом включающие в себя пра- магические представления, связанные с изначальной Тайной происхождения людей от первопредков с Сириуса. Это, как мы увидим далее, уже пра- мистическая «вертикаль», постоянно присутствует в основе «мифо-магического мышления».
Народная магия, по нашим представлениям, как «горизонталь» земного обыденного бытия, зарождалась в непосредственной культурной деятельности людей, когда они на свой страх и риск приспосабливались к неизвестным условиям жизни, вынужденно изобретая приспособления, способы выживания (как сейчас в народе говорят – «лайфхаки»), стремясь при этом максимально оставаться в пределах предписанной изначальной традиции. Так, Б. Малиновский, изучавший быт, как он полагал, в «классической стране магии, в Меланезии»138, подчеркивал, что только «…там, где человек видит недостаточность своих знаний и своего рационального подхода, он обращается к магии».139
Как показывают современные археологические данные, на самых ранних этапах исторического развития для первобытного дикаря магия была совокупностью таких действий, операций, заклинаний и т.п., которые никоим образом не были оторваны от обычных хозяйственных операций, вызванных насущными жизненными потребностями.
Большинство современных ученых считают, что на протяжении многих тысяч лет человечество не имело представления о «сверхъестественном», о «духах», т.к. для представления человеком таких воображаемых «существ» в природе ему необходимо было достичь довольно высокого уровня развития сознания, особо изощренного мышления. Обыденный же магический обряд можно рассматривать как «обычную реакцию» аборигена на конкретное жизненное событие, преображенное в примитивном сознании на основе двух важнейших элементов – коллективности и высокой эмоциональной напряженности. Эти элементы вычленяет Джейн Харрисон, рассматривая процесс труда первобытных людей. При этом она подчеркивает важнейшую отличительные черты первобытного человека – его активность и безотчетное стремление к самостоятельной деятельности. «Дикарь – это человек действия. Вместо того, чтобы просить бога сделать то, что он хочет, он сам делает это или старается сделать… Когда дикарь хочет, чтобы было солнце, или ветер, или дождь… Он собирает свое племя и исполняет танец солнца, или танец ветра, или танец дождя».140
Далее, анализируя место магии в трудовом процессе, она пишет: «Коллективность и эмоциональная напряженность – два элемента, которые обращают обычную реакцию в обряд – особенно среди примитивного народа, – они крепко связаны и поистине едва ли отделимы. Индивид – дикарь – слабая личность; высокое эмоциональное напряжение вызывает в нем и поддерживает чувство социальности; то, что чувствует племя, – священно, это – дело ритуала…»141
Значение эмоций и их развитие для становления и совершенствования человеческой культуры подробно описано в моей монографии «Симфония человеческой культуры»142. При этом эмоции понимаются как энергетическая основа формирования культурного поля, незаменимое «топливо» человеческой культуры. Эмоции, развиваясь в переживания и чувства, в значительной степени определяли пути развития культуры конкретного этноса, а также формы взаимодействия культур различных этносов (племен).
В первобытной пра-магии необходимо не только подчеркнуть эмоциональное значение ритуалов, но и техники выработки определенных коллективных эмоций и их высокого накала, а также сохранение этих техник в самом ритуализированном поведении и действиях, ведущих к формированию развитой магии, и сохраняющихся как ее отличительные черты. Именно через ритуал, непременно сопряженный с высокой коллективной эмоциональностью, пра-магия не только объединяла отдельных членов племени в единый коллектив, но также «соединяла» племя одновременно с окружающим миром и с миром Иного, т.е. объединяла обыденное и сакральное, известное и непостижимое, естественно-природное и «сверхъестественное»…
Таким образом, на протяжении веков и тысячелетий магия зарождалась и развивалась как коллективное действо, как неотъемлемая часть существования и деятельности конкретного племени, причем параллельно в двух направлениях: сохранения изначальной Тайны происхождения (на основе жреческих мифов) и постижения тайн окружающего мира (на основе профанных мифов). Основные ритуалы, совмещавшие эти уровни мифов и деятельности, в древности могли быть осуществлены только коллективно, одновременно являясь основой поддержания высокого энергетического уровня этнического культурного поля, обеспечивая его совершенствование и развитие.
Уникальность каждого этно- культурного поля в разные исторические эпохи (с учетом различных фаз развития ведущих этносов в этно- энергетических сегментах единого культурного поля человечества) естественно предполагает неповторимость каждого взаимодействия с Иным (непостижимым, непознанным). Характерные особенности этих взаимодействий «читаются» в основополагающих мифах конкретной культуры, в первую очередь, космогонических и этногенетических.
Этно-энергетический подход к понятию «духов»
…нельзя сказать, что этот дух полностью находится в нас; что он не является фактором наши действий: он принадлежит нашей душе и, стало быть, принадлежит нам, но не до конца, ибо мы являемся конкретными человеческими существами, а он представляет собой нечто большее, чем проживаемая нами жизнь…
Плотин. Эннеады
(О присущем каждому демоне)
Известно, что в научный оборот термин «мана» был введен религиоведом Э.Б.Тейлором (в русской транскрипции и религиоведческой традиции – Тайлор), создавшим теорию «анимизма» (от лат. «анима» – душа, дух) и полагавшим, что представления о «духе» (душе) являются началом религии.
В своей классической работе «Первобытная культура» Тейлор писал: «Анимизм характеризует племена, стоящие на весьма низких ступенях развития человечества, он поднимается отсюда без перерывов, но глубоко видоизменяется при переходе к высокой современной культуре. <…> Анимизм составляет в самом деле основу философии как у дикарей, так и у цивилизованных народов. И хотя на первый взгляд он представляет как бы сухое и бедное определение минимума религии, мы найдем его на практике вполне достаточным, потому что, где есть корни, там обыкновенно развиваются и ветви».143
Не погружаясь в долгую полемику, отметим, что Тейлор, стоя на европоцентристской позиции, не скрывая колонизаторской психологии, взирал на дикарей все же с более-менее трезвой точки зрения, признавая непосредственную преемственность культуры – от первобытного состояния к высоко цивилизованному. И в этом – бесспорная заслуга классика мировой культурологии. И даже против историко-культурной трансформации анимизма трудно возразить.
Однако принципиальное несогласие вызывает его основной религиоведческий тезис: «Анимизм есть минимум определения религии».
Во-первых, анимистические представления – это не причина, а следствие развития мифо- магических представлений. Так, «мана» даже для современных меланезийцев – это сначала некая «сила», а уже потом – «дух». При этом персонификация «силы» в «духе» даже у реликтовых племен происходит не так однозначно, как это представлялось религиоведам и антропологам XIX и начала ХХ в. Как мы видели, сам «дух» у племени пираха воплощается в реальном человеке, как правило, всему племени известном; причем «дух» не «подселяется», а как характерный художественный «образ», требует полного «перевоплощения» от своего «представителя». Не случайно Эверетт назвал это обычное в племени «явление духов» – «театром пираха»144. В действительности, это яркий пример того «оборотничества», о котором писал А.Ф.Лосев (когда человек мыслил себя носителем чужих сил и находился во власти иллюзий такого перевоплощения или оборотничества). И остальные «духи» пираха вполне естественным для индейцев образом «являлись» им в материальных телах ягуаров и змей, бледнолицых европейцев и индейцев других племен и т. д.
Как мы видели выше, и у зороастрийцев «маинйу» – это некая «сила», «качество» и т.д., а отнюдь не какое-то бесплотное «существо» со злым или добрым «характером», действующее по своей воле, в соответствии со своими целями и т. д.
Во-вторых, даже употребление слова «дух», а тем более «душа» – это отражение ментальности Тейлора, воспитанного в европейской культуре; более того, это результат откровенного переноса позднейших религиозных представлений (в первую очередь – поздне- языческих средиземноморских и, конечно, христианских) на мировосприятие аборигенов реликтовых и тем более – древних племен. Чего стоит только образ «дикаря-философа» (абсолютный оксюморон!), «рассуждения» которого как бы воспроизводит Тейлор. Первый невозможный момент в этих гипотетических «рассуждениях» – о наличии души у мертвых или спящих; второй – попытка «соединить жизнь и призрак» и т.д.145
С нашей точки зрения, появление понятий о «духах» в мифо-магическом мышлении древних людей – это результат вынужденной «профанации» некоторых элементов тайного знания в среде непосвященных, которая была необходима в связи с сохранением самого Знания, а также для формирования и развития менталитета племени, совершенствования культурного поля, стимулирования творческого начала членов племени и т. д.
Так, в материалах по исследованию фольклора и религии чукчей В.Г.Богораз-Тан отмечал, как трансформируется в обыденных представлениях обычных представителей племени основная идея примитивного сознания – двойная природа вещей (то, что Л. Леви-Брюль называл «партиципацией», а А. Лосев – «оборотничеством»).
В.Г.Богораз-Тан писал: «…Вещи имеют двойную природу: свой обычный вид и другой, более или менее человекоподобный. Обе формы вполне материальны, и вещи могут свободно менять их одна на другую. Так, каменные топоры и молотки, употребляемые в хозяйстве, превращаются в людей, а потом опять ложатся на свое место в прежнем виде. <…> Как прямой вывод из идеи о двойной природе вещей возникает представление о том, что одна из двух сущностей, свойственных им, – внешняя, другая – внутренняя, скрытая под обычной формой. А поскольку она скрытая, она вообще невидима человеческому глазу, но тем не менее она все же способна к выходу из внешней оболочки и тогда представляется в виде человеческого существа. Так возникает первое представление о различии между материальной формой и жизненной силой, которая в ней содержится. Появляется дух, или „гений“, „леший“, „водяной“ антропоморфного вида. Он вообще невидим, нематериальный предмет представляет его постоянное местообитание, которое он может покидать, принимая свой настоящий, человекоподобный образ».146
Итак, предположим, появление представлений о разнообразных «духах» – это вид системной «профанации» древнейших мифов, в которых действовали непостижимые обычному аборигену существа и происходили невероятные события. Поскольку мир представлялся целостным, а все непостижимое и невероятное было связано с Иной, оборотной стороной реальности, формировались представления о «духах», имевших и материальные воплощения (в виде животных, часто – необычных), но и некие «квази-материальные» образы.
В нашем исследовании мы обращаем внимание на то, что у древних племен происходила персонификации отдельных сил/энергий, которые рассматривались как «духи», а по мере формирования более четкого абстрактного мышления – как «боги», «божества». (О переходе от мифо-магического мировоззрения к религиозному мы будем рассуждать в следующем параграфе.)
Так, в мифологии индейцев сиу-Дакота «вакан танка» – это не только «сила», но и «великая тайна»; эта таинственная «сила» воплощается в иерархии нескольких классов духов. Термин «вакан» иногда употребляется в значении «великий дух».
В контексте нашей этно-энергетической концепции культуры мы можем рассматривать образы «духов» как вполне ощутимые для сенситивных «жрецов» (шаманов, колдунов, ведунов и т.п.) некие сгустки различных видов энергий, которые по- особому остро воспринимаются и «познаются» ими во время инициаций. «Жрецы» вводят в обиход словесные обозначения и образы этих сгустков энергий, характерных для тех или иных ареалов обитания племени. В рамках современных геофизических знаний они вполне научно могут быть интерпретированы как определенные геомагнитные, электромагнитные, тектонические, атмосферные (северные сияния) и пр. постоянные излучения, характерные для определенной местности. Во взаимодействии с организмами людей и их психикой подобные явления могут формировать определенные симптомы, реакции, феномены, которые можно образно обозначить, как «духи».
Как мы видели в выродившейся духовной культуре пираха, индейцы, представлявшие «духов», также создавали иллюзию того, что они живут в джунглях, откуда вещают таинственными голосами или непосредственно являются соплеменникам.147
Для нашего нынешнего исследования нет необходимости подробно излагать энергетическую концепцию «духов», достаточно только подчеркнуть тот момент, что, например, шаманские «духи» в своем большинстве связаны с природной средой – духи воды, земли, человеческих болезней и т. п. Для шаманов и их соплеменников духи не «сверхъестественны», они так же существуют в природе, как и все известные животные, растения и т. д. У чукчей, например, отмечается устойчивое иерархическое представление о духах. Так, леса, реки, озера, горы имеют своих «хозяев» или «владельцев». «Различные виды зверей и деревьев также имеют своих „хозяев“, которые живут вместе с ними в лесу. Каждый вид деревьев имеет отдельного „хозяина“. Только береза не имеет хозяина, и поэтому люди с ней обращаются без всяких стеснений, как с „безразличной“ и ничьей».148
Зачастую «духи» воспринимались как злые сущности. В. Богораз-Тан в своей книге приводит рисунки чукчей, изображающие злых духов, отдаленно напоминающие злобных волков или собак; австралийские аборигены изображали духов как маленьких человечков с большими головами; африканские маски представляли жуткий облик духов или каких-то монстров, чтобы духов отпугнуть…
В полном соответствии с древнейшими «близнечными мифами», злые и добрые духи находились или в прямом «родстве», или, по крайней мере, в теснейшем взаимодействии. В отличие от первопредков- близнецов (о которых речь шла в предыдущем параграфе), духи могут не иметь отношения к происхождению данного этноса. Однако они, будучи «хозяевами», постоянными жителями определенной местности или покровителями определенной духовной сферы (здоровье, «профессия» – охота или рыболовство; умение – резьба по дереву или кости; вязание и т.п.), духи прямо и непосредственно связаны с человеком.
Разнообразие духов определяет и многообразие формирующейся пра- магической деятельности, будущих видов магии.
Так, предвидение будущего и гадания на предстоящие события – один из видов древнейших форм общения с духами, которые, заведомо имеющие отношение к сфере Иного (оборотной стороне реальности), знали и прошлое и будущее.
Предвидение часто связывалось со злым мифическим первопредком (братом-близнецом), и к нему первому обращались за советом, а за непосредственной помощью – к доброму «близнецу».
Е. Котляр отмечала в народной магии догонов: «Чтобы обеспечить успех какого-либо дела, следует сначала посоветоваться с Йуругу (путем гадания), а затем обратиться к культу Номмо (дары алтарям, приношения)».149
У древних славян были представления о злой сущности, которую они называли Див или Диво150; она предсказывала несчастья. Так, в «Слове о полку Игореве», когда Игорь, невзирая на небесное знаменье, отправляется к Дону: «збися дивъ, / кличетъ връху древа: / велит послушати / земли незнаемъ…» («встрепенулся Див – / кличет на вершине / древа, велит/ прислушаться – земли незнаемой…». А когда половцы вторглись на русскую землю – «уже връжеся див на землю» («уже бросился Див на землю»).151
Этнограф XIX в. Я. Головацкий, углубленно изучавший славянскую демонологию, отмечал, что древнеславянский Див позже ассоциировался с «Чернобогом», мрачной, смертоносной и злой сущностью, – противником Белобога, сущности светлой, животворной и доброй.152
Некоторые исследователи славянской мифологии полагают, что у многих древних славянских племен были образы Белобога и Чернобога, которые часто представлялись как добрая и злая силы; при этом злому Чернобогу поклонялись тщательнее и регулярнее, видимо, считая, что Белобог и так добрый, и лишний раз его просить не нужно.
Нетрудно догадаться, что жреческая/сакральная и профанная/народная – обе мифологические и пра-магические традиции стали прототипом того, что в западной средиземноморской культуре стали называть «белой» и «черной» магией. В действительности, и в том, и в другом истоках существуют те элементы, которые с точки зрения обычных людей могут быть названы и «черными» и «белыми»: гуманными и антигуманными, полезными и вредоносными, моральными и аморальными…
Не нужно забывать, что в примитивном миропонимании мораль тоже только складывалась. А поскольку, как мы показали в монографии «Симфония», развитая мораль имеет отношение к высшим универсальным чувствам, – в первую очередь, к Совести и Любви, – которые формируются на высоком уровне цивилизации, то рассматривать примитивные традиции и обычаи со строго моральной точки зрения – все равно, что проверять интеллект аборигена с помощью теста на IQ.
«Духи» могут говорить на особых языках, как и животные (не обязательно тотемные), и эти языки понятны только магам (шаманам).153 Напомним, что и в выродившейся культуре индейцев пираха, человек, «превратившийся» в духа, говорил особым голосом и на особом музыкальном языке, как и тот индеец, который на том же языке в импровизированной «песне» рассказывал содержание своего сна (который для него был особой явью). В племени догонов жрецы сохраняют особый язык «сиги-со», на котором проводились важные церемонии, транслировалось изначальное Знание, а для обычных членов племени – это был специальный язык, на котором «духи» первопредков общались со жрецами…
Некоторые важные «формулы» из языка «духов», жреческих возгласов или заклинаний шаманов становились необходимыми элементами «народной» магии, и этим формулам, изречениям, фразам – придавалось особое магическое значение самим по себе, и они, как магические словесные «мемы», транслировались в позднейшие поколения этноса и даже в другие культуры.
В отличие от современного понимания природы, для «мифического» миропонимания людей во всех природных вещах всегда есть элемент непостижимой Тайны, связанной с Великой Тайной мироздания, а также глубинное признание того, что взаимодействие природных объектов никогда не будет постигнуто человеком до конца… Потому и вселенская «партиципация», и «оборотничество» вещей могут быть постигнуты только особым образом, вне закономерностей обыденных событий и отношений, т.е. «магически». И признается столь же иное, – магическое взаимодействие людей с вещами и явлениями, будь они природные, социальные, индивидуальные. Это специфическое взаимодействие способно привести к необычным, но желанным результатам. Понятно, что в древнейшие времена прерогатива «пра-магических» практик принадлежала магам, знавшим и ритуалы, и «магический» язык.
Шаманизм как особая ветвь магической традиции
Само слово шаман вошло во все европейские языки из русского языка. В русский язык слово шаман попало в первой половине XVII века из языка эвенков… Одни ученые …сравнивали его с древнеиндийским словом шрамана – «слушающий», другие усматривали в нем связь с названием сомы – священного напитка древних иранцев…
А.А.Бурыкин. Шаманы те, кому служат духи
Учитывая различия в условиях формирования и развития конкретных этносов, мы должны подчеркнуть и совершенно очевидное различие в сформированных традициях передачи магических знаний и практик. Необходимо учитывать, что в племенах, живших к чрезвычайно тяжелых климатических и природных условиях (в приполярных областях, в непроходимых джунглях, в безводных пустынях и т.п.), трудно было сохранить «в чистоте» линию «жреческой» сакральной преемственности, в особенности, если жрец был один в племени.
В предыдущем параграфе мы упоминали, что сформированные у африканских племен жреческие сообщества хранили изначально полученное знание (от первопредков или культурных героев). Именно жреческие тайные знания о Сириусе были открыты Гриолю племенем догонов; известны шесть тайных обществ, сохраняющих древнейшие тайны, в племени бамбара (с разным «уровнем доступа» в соответствии с пройденной инициацией!)…
Однако у племен других регионов сформировались другие традиции освоения и передачи магических тайн. Одна из них – это сибирский шаманизм.
Мы солидарны с теми исследователями, которые считают Сибирь родиной мирового шаманизма154, считая шаманскую магию специфически отличной от африканской. Для нас важен тот факт, что в бытующем до наших дней шаманизме как бы «законсервированы» исходные основы древнейшей магии евразийского континента, которая, трансформируясь в позднейшие исторические эпохи, сохраняла свои главные «принципы».
К сожалению, в отличие от африканских магических традиций, в сибирском шаманизме не сохранилось явственных следов знаний, полученных от первопредков. Но в нем более определенно сформировалась интересующая нас линия «пра- мистических» представлений на фоне магической практики.
В древнем сибирском шаманизме проявились основные линии преемственности единой – и сакральной, и народной магии, веками (тысячелетиями?) сохраняемой в племенных культурах. В отличие от африканских реликтовых племен, культура сохранившихся племен на бывшей территории СССР за последние 100 лет подверглась существенному воздействию атеистической идеологии. И хотя важнейшие характерные особенности сибирского шаманизма сохранились, необходимо учитывать, что некоторые сакральные знания ушли в «подоснову» известных сегодня шаманских традиций.
Целый ряд исследователей шаманизма (Уно Харва, Георга Ниорадзе и др.) доказали, что центрально-азиатский шаманизм тесно связан с доисторической культурой сибирских охотников, а шаманские традиции и техники исследователи находят у первобытных народов Австралии, Малайзии, Южной и Северной Америки… М. Элиаде утверждал: «Недавние исследования ясно показали шаманские элементы в религии охотников времен палеолита».155 Как свидетельствуют современные археологи, древнейшие палеолитические стоянки, обнаруженные в Сибири, относятся примерно к периоду 100—120 тысяч лет назад, в связи с переселением народов с территорий, ныне принадлежащих республике Алтай, Казахстану, странам Средней Азии. Принятая сегодня версия появления человека на территории Африканского континента предполагает именно там наличие истоков мирового шаманизма. Однако современные шаманы признают родиной шаманизма остров Ольхон на озере Байкал. Именно там находится знаменитая скала Шаманка, внутри которой, как считается, в далекой древности проходили первые посвящения шаманов.156
Заметим, что личный опыт будущего шамана часто не зависел ни от его желания, ни от возраста, ни от происхождения… Как правило, уже при рождении будущий шаман имел какую-то «метку» о своем предназначении (родимое пятно, шестой палец на руке или ноге, тот или иной вид уродства и т.д.). Как отмечают исследователи шаманизма, в каждом регионе существует особая «иерархия» шаманов, определявшаяся их родословной. Так, в тувинском шаманизме, как показывают исследования М. Б. Кенина- Лопсана, «Шаманы, по народным поверьям, могли происходить от шаманов- предков, духов земли и воды, небожителей, злых духов… Принадлежность к той или иной категории определяла место шамана в шаманской иерархии, возможности воздействия на людей и т.д.»157 Самыми «сильными» и «настоящими шаманами» считались те, что вели свое происхождение от предков-шаманов. Как отмечал известный этнограф и исследователь шаманизма начала ХХ в. Ф. Я. Кон, почетные потомственные шаманы имели среди предков по 8—10 шаманов.158
«Призвание» к деятельности зачастую начиналось с так называемой «шаманской болезни», которая представляла собой страшное испытание на грани жизни и смерти (необъяснимое заболевание, умопомрачение). В процессе болезни будущий шаман, как правило, видел собственную смерть, когда духи расчленяли и поедали его тело, а затем на голый скелет духи «наращивали» новую плоть, что позволяло ему затем беспрепятственно пересекать «черту», разделяющую миры людей и духов.159
После успешного прохождения «шаманской болезни», и/или, у некоторых народов, прохождения «школы» у старого шамана (например, у ненцев обучение могло продолжаться до 20 лет, а у тувинцев – от 3- 7 до 10 дней160), будущий молодой шаман проходил обряд посвящения. Это могло быть совместное камлание неофита с опытным шаманом, во время которого они путешествовали по Нижнему миру (как у тувинцев); или это был обряд «оживления бубна», как у народов Алтая и якутов.161
Признанный соплеменниками, новый шаман начинал лечить болезни людей, которые, по шаманским представлениям, вызывались злыми духами, путем призвания добрых духов, с которыми у шамана были почти родственные (по плоти и крови!) взаимоотношения. Шаман также искал потерянные предметы, видел на далекие расстояния, даже перемещался по воздуху, предсказывал будущее, освящал различные предметы и объекты, провожал души умерших в последний путь и др. Еще раз подчеркнем: в деятельности шаманов магия прямо и непосредственно была связана с обыденной жизнью племени.
Таким образом, в ходе исторического развития в каждом племени постепенно выделялись «профессионалы» и «организаторы» коллективных действ. «Профессионалы» знали все обрядовые и ритуальные стороны магии, они «призывались» высшими силами (духами, богами) к сохранению племенных мифов, верований и обычаев, к постоянной «магической» активности, получая обязанности и возможности помогать соплеменникам не только во время важных событий, но и в решении ежедневных проблем.
Социальная прослойка шаманов (колдунов, ведунов, волхвов и т.п.) формировалась внутри определенных этносов, сохраняя уникальные особенности обыденных практик, мифологических представлений, в целом – основные черты этно-культурного поля, ярким выражением которого всегда была магия, как постоянно поддерживаемая связь между человеческим (земным) и иными мирами (духов, предков, сверхъестественных существ и т.д.). Таким образом, в каждом племени формировалась своя магическая система, изначальная племенная магия была уникальной.
Но общечеловеческие жизненные универсалии – этапы жизненного цикла отдельной человеческой и общей коллективной жизни естественным образом определяют основные направления общераспространенной мировой магической практики: свадьбы и похороны, лечение и разрешение конфликтов, предсказание будущего и поиски потерянных вещей…
С позиции рационального мышления, магию можно понимать как «иллюзорную технику», но она далеко не бесполезная в жизни конкретного этноса, поскольку ее назначение – помогать решению проблем реальной жизни. Коллективные танцы, песни, заклинания первобытных людей – все это, по словам Дж. Томсона, «… меняло их субъективное отношение к реальности и косвенно меняло саму реальность».162
«Ядро» первобытной магии
У шамана в сердце шумит ковыль,
А в душе вечно борются тьма и свет.
Он легко реальность раскрошит в пыль,
Ведь, по сути, реальности вовсе нет.
/…/
В песнях шамана – птичьи крики,
Птиц, не живущих под нашим небом,
Танец шамана – прошлого лики,
В нем растворяется быль и небыль.
Катерина Чумакова
Как мы выяснили, истоки магии находятся в первобытных мифологических представлениях и практике древних людей, когда оформилось некое «ядро» того явления, которое мы сегодня называем «магией». А затем, с развитием различных культур и этнокультурных ареалов появлялось разнообразие магических форм и практик.
«Ядро» первобытной магии163 можно охарактеризовать следующими чертами::
1. Магия – это реализованные Вселенские энергии, которые воспринимались и реально использовались супер-страстными и страстными членами племени в начале этногенеза.
В примитивных племенах исходное представление о магии основано на осознании «двойственной» природы всех предметов, явлений и событий окружающего мира: наличии «скрытых», невидимых, но не менее важных аспектов бытия. В онтологическом плане в магии бытие целостно, в нем «высшее» неразрывно связано с «низшим»; «культурное» – с «природным»; сакральное и профанное «переплетено». Однако уже в древнейшей магии выстраивалась некая иерархия как явлений. так и членов племени по степени приобщения к извне полученным «сверхъестественным» знаниям.
Магия может рассматриваться как некая «высшая сила», возникающая вследствие управления внутренней энергией и таинственными силами и сущностями с целью вызвать изменения в мире физическом. А также как величайшее тайное знание и высшая «наука».
2. Фигура мага (древнейшего жреца, шамана и т.д.) оказывается неоднозначной – он и обычный человек, и могущественный знаток «тайн», обладающий некими скрытыми силами. Так, в африканских племенах традиционными являются закрытые жреческие сообщества, сохраняющие сакральные знания, полученные от первопредков или культурных героев.
В сибирском шаманизме в течение тысячелетий была выработана другая линия преемственности сакральных знаний. Пройдя «шаманскую болезнь», шаман получал от духов новое духовное «тело», позволявшее ему непосредственно проникать в иные миры – низшие и высшие. Его деятельность также двойственна: он использует внешне обычные предметы, которые в его манипуляциях проявляют необычные свойства, дают неожиданные результаты и т. д. В нашей этно-энергетической концепции культуры мы рассматриваем «духов» преимущественно как сгустки различных видов энергий, которые по- особому остро воспринимаются и «познаются» сенситивными людьми.
В антропологическом плане магия рассматривает человека как существо, способное воздействовать на природные процессы, обращаясь за помощью к Иному, как к некоей «обратной стороне» бытия. В древнем этносе маг – пассионарий, активный участник целостного бытия; даже признавая неподвластные ему «законы Вселенной», он способен участвовать в жизни «духов» и познваать закономерности проявления и применения «тайных сил». А главное для мага – это способность проявить и осуществить свою личную волю, как правило, во взаимодействии с высшими силами.
3. В обыденной жизни племени магия – это совокупность практик прямого взаимодействия со «скрытыми» сторонами бытия ради достижения практических целей – выживания, обеспечения и безопасности потомства и т. п. При этом важна исходная установка именно на прямое и силовое воздействие человека на предмет, живое существо, природный объект, соотнесенное с разрешениями духов, в древнейших религиях – «богов» и т. д. В гносеологическом плане магия, усматривая нераздельность природного и «сверхъестественного», признает возможность в определенной магической практике прямо воздействовать на «сверхъестественное», направляя его на решение земных проблем. Маг убежден в принципиальной возможности их определенным образом «познать» (отсюда – позднейшие представления об иерархии магического знания и всесилии «высшей магии», хотя само «познание» и его методы, как правило, не имеют ничего общего с тем, что в западноевропейской культуре называется «наукой»).
Особый статус магического действа всегда подчеркивался использованием особого «тайного» языка, необычным инструментарием, атрибутикой и т.п..
4. Высокий эмоциональный накал магических практик, определяемых жизненной важностью поставленных целей, характеризующихся предельной остротой любопытства, страха, восхищения, агрессии и т. п. Если в древнейших магических ритуалах огромную роль играла именно коллективная синхронная практика (массовые танцы в необычных костюмах под гипнотизирующие ритмы ударных инструментов, специальные выкрики, ритуальные действия и т.д.), то в позднейшие исторические эпохи появилась определенная вариативность достижения высокого эмоционального напряжения. В некоторых современных магических практиках массовые действа по-прежнему играют существенную роль (например, в вуду или в викке). Но в индивидуальной работе с клиентами позднейшие маги (ведуны, ворожеи, колдуньи и пр.) могут достичь хоть какого-то положительного результата только в случае, если между магом и клиентов возникает необходимое эмоционально-энергетическое напряжение (усилия мага + безусловная вера клиента; в крайнем случае – специальные усилия мага по введению клиента в измененное состояние сознания или гипноз).
5. В нравственно-этическом плане магия признает амбивалентность как явлений, так и человеческих поступков. Как правило, в магии отрицается и абсолютное добро, и абсолютное зло; приверженцы магии решают конкретные земные проблемы (отдельных этносов, семей или личностей), не давая им этической оценки.
6. Магия является неотъемлемой частью культурного кода данного этноса (племени, народа, нации, сообщества…), одной из ключевых сторон его самоидентификации, определяя основные внешние символы, практики, способы взаимодействия членов сообщества между собой и с представителями других сообществ и т. д. Маг (шаман, колдун, ведун и т.п.), как в древние времена, так и сейчас, всегда подчеркивал свою этническую принадлежность особым костюмом, атрибутами, декоративными элементами, речевыми оборотами, поведенческими особенностями, способами действия и т. п.
7. Магическое действо представляет собой особую систему ритуалов, действий и практик, которые формируются в определенном культурном поле и несут на себе его неповторимую энергетику, а затем подвергаются этнокультурным трансформациям в зависимости от менталитета, эпохи, уровня культурного развития и т. п. Сам процесс трансформации магических практик – предмет особых серьезных исследований.
8. В древнейшей магии не было и не могло быть никакой веры, поскольку в мифо- магическом мировосприятии примитивного человека и в его неразвитом сознании не было способности абстрактного мышления, необходимого для того, чтобы воспринимать несуществующее в обыденной жизни. Но у дикаря было полнейшее ДОВЕРИЕ к традиционной памяти о встрече с Первыми Учителями и переданным ими знаниям и умениям. Традиционная память сохранялась посредством ритуалов, в первую очередь, предназначенных для обеспечения высокой эмоциональной солидарности племени и глубокого общего переживания от как бы «повторяющегося» события первой Встречи, определившей и культуру, и саму жизнь племени. Это же доверие к племенной традиции сохранялось и во всех других, в том числе, частных магических процедурах, естественным образом предполагавших полученные извне «сверхъестественные» силы.
9. В значительном большинстве этнических культур магия являлась обычным «ингредиентом» разнообразных культурных практик – и обыденных, и интеллектуальных, и творческих и пр. При этом она не становилась основой миропонимания и мировоззрения, чем был и остается миф, а на определенных историко-культурных этапах – религия.
С развитием и усложнением культурных практик «магическое» постепенно отделялось от «обыденного», как параллельно в духовной сфере «сакральное» отделялось от «профанного» (и формировались первые религии), а позже, наряду с «религиозным», в ходе развития теоретического и абстрактного мышления, возникало «оккультное», «эзотерическое», наконец, «мистическое». Формировавшись в течение тысячелетий, магия в ее разнообразных формах и проявлениях существует и сегодня.
Кратко об особенностях магии в древних
цивилизациях
Безымянное есть начало неба и земли,
Обладающее именем – мать всех вещей.
/…/
Вместе они называются глубочайшими.
Переход от одного глубочайшего к другому —
Дверь ко всему чудесному.
Дао Дэ Цзин
Не имея возможности и особой необходимости подробно исследовать пути развития и трансформации магии в древних цивилизациях, обозначим только важнейшие для нас моменты в аспектах, необходимых для нашего дальнейшего исследования мистики.
Остановимся на тех особенностях древней магии, например, Китая, которые уже были исследованы выдающимися синологами.
В Китае традиция поклонения первопредкам (и родовым предкам) остается незыблемой в течение тысяч лет. В наиболее архаичных мифах прародительницей вещей и людей (но не мира!) считалась Нюй-ва, полуженщина-полузмея, которую позднее считали женой Фу-Си, первопредка преимущественно восточных племен, изображавшегося человеком- птицей.164
Как отмечают современные исследователи китайской культуры, «Древняя мифология воспринималась и часто воспринимается до сих пор, как неотъемлемая часть реальной истории Китая. Она продолжает жить не только в религии и народном фольклоре, но и в сочинениях философов, ученых. В разных текстах некий персонаж мог выступать историческим лицом, а в других, порой даже синхронных текстах, этот же персонаж мог выступать мифологическим героем».165
Ши Хуан -Ди (2697—2599 гг. до н.э.) почитается в Китае как первопредок нации (в некоторых древних версиях мифов связан с тотемами медведя, дракона, драконоподобной ящерицы и пр.; по версии Ван Чуна, в конце жизни Хуан-Ди улетел на небо на драконе). Одновременно он культурный герой (давший народу топор, ступку, лук и стрелы, платья и туфли, лодки, колесницы и многое другое), а также первый правитель, «желтый император», заложивший основы государственности. Знаменитые «Исторические записки» («Ши цзи») Сыма Цяня начинаются со времен деятельности Хуан-Ди.166
По данным эволюционной генетики, в период 4000—3000 лет тому назад на территории Китая началось расхождение языковых общностей – протокитайской и прото-тибетско-бирманской. Характерно, что мифы и предания о Хуан-Ди, обычаи возведения к нему своих родословных имели широкое распространение и носили над- этнический характер.167
Заметим от себя, что этногенез прото- китайской общности (сначала рассыпавшейся на множество племен, затем организованных в царства, и наконец – объединенных под рукой первого императора) сохраняет и из века в век транслирует мощный архетип Хуан-Ди, подпитываемый энергиями фактически уже религиозной народной веры. Как у племени догонов, постоянное ритуальное воспроизведение связи с первопредками (дополняемое, по утверждению догонских жрецов, регулярными сообщениями с Сириуса), позволяет этносу поддерживать жизнеспособность и не опускаться до мемориальной фазы (как, например, рассмотренное нами племя индейцев пираха), так и осознанное и культурно-плодотворное отношение к древним мифам является, вероятно, одним из секретов долголетия самобытной культуры Китая.
При этом, как подчеркивал Е. А. Торчинов, китайская культура «…не знала ничего о трансцендентном Боге (или богах) и не имела ни малейшего представления о креационизме».168 В китайской культуре мир развертывается сам из себя, подобно цветку, раскрывающемуся из бутона.
Далее, по утверждению Е. А. Торчинова, «… китайская культура не знала духа как начала, иноприродного чувственному бытию».169 По мысли ученого, китайская культура – это «натурализм, витализм и холизм». В течение тысячелетий в ней сохраняются основы традиционного миропонимания: «Единый и целостный космос, пронизанный потоками жизненной силы, космос, все элементы которого находятся во взаимосвязи и гармоническом единстве, одновременно непрестанно трансформируясь и изменяясь в своей энергийной пластичности».170
Важнейшую роль в китайском миропонимании играет многозначное понятие «ци», в котором нет непреодолимой грани и тем более разрыва между духом и веществом, материей и сознанием. Как замечает Е.А.Торчинов, древнекитайский философ Ван Чун (1 в.н.э.) природу «ци» сравнил со льдом: нагреваясь, он становится водой, а затем – превращается в пар. Так и «ци», сгущаясь, становится веществом, а истончаясь – духом.171
Как мы понимаем, в сущности, подобные представления о взаимосвязи «материального» и «духовного», «земного» и «иного» были характерны и для мифо- магического мышления архаических племен средиземноморского региона, Африки и протоарийских кочевых племен.
Энергийность космоса в китайском понимании ведет к тому, что можно понимать как тотальный магизм. Е.А.Торчинов подчеркивает: «…в основе своей китайская картина мира глубоко магична. И этот магизм базируется на органицизме китайского космоса, отличающегося от новоевропейского космоса так же, как организм отличается от механизма».172 С точки зрения европейца, в китайской мысли магизм может трактоваться как деизм, рационализм, иррационализм, даже – атеизм, и конечно – как мистицизм.
Здесь мы остановимся, поскольку сделали важнейший для нас вывод о связи магизма и мистицизма в китайской мысли. Далее, в главе о современных формах западного псевдо- мистицизма, мы еще вспомним главные принципы китайского магического миропонимания – «коррелятивное мышление» и доктрину «сродства видов» (или «теорию симпатии»). В настоящий момент нам важно было подчеркнуть категорическое различие между культурными основами китайской и западной культур и, соответственно, различную роль магии и ее значение в них.
Что касается древнеиндийской цивилизации, то сохранились мифы о нагах, змеевидных существах, прибывших с планеты-океана и правивших в Индии в древности. До сих пор в индийских деревнях есть праздник змей, когда жители ловят диких змей (в том числе кобр), держат их целый день в руках, проводят определенные ритуалы, и змеи их не кусают. А в конце дня змей отпускают на волю, в джунгли.
Наги, по индуистской мифологии, это полубожественные существа со змеиным туловищем и одной или несколькими человеческими головами. Им принадлежит подземный мир и они считаются мудрецами и магами, способными оживлять мертвых и менять свой внешний облик. В некоторых источниках наги – божественные змеи смешиваются с представлением о нагах -исторических племенах, живших на северо-западе Индии до прихода ариев. Предполагается, что реальные наги были племенами монголоидной расы, имевшими своим тотемом змею (кобру).173
Мы обратим внимание на более-менее изученный ведический период, определивший древнейшую форму индуизма. Как отмечает Е.А.Торчинов, «…религия вторгшихся в Индию в середине II тыс. до н.э. кочевников- ариев, была прежде всего религией жертвоприношений (яджня), включавших в себя значительный элемент магии, поскольку жертвоприношение предназначалось не для умилостивления божества, а для его подчинения воле жертвователя. Отсюда и поговорка: «все повинуется богам, а боги – брахманам (жрецам) «».174
Мы не можем не отметить, что арийские кочевые племена, вторгшиеся на полуостров Индостан, – это близкородственные племена тем мидийцам, что, прибыв примерно в тот же исторический период на территорию нынешнего Ирана, стали магами/жрецами в зороастризме (см. выше).
Однако на территории Древней Индии и в уже довольно зрелом дравидском культурном поле арийская магия подверглась серьезной трансформации, а главное – она не смогла доминировать над мощными и вполне определенными мистическими тенденциями, основанными на отработанных психотехнических практиках.
В определенном смысле, можно сказать, что в древнеиндийской культуре мистика сразу была отделена от магии и развивалась своими собственными путями, в соответствии с конкретными религиозными направлениями индуизма (брахманизма, шиваизма, древнего кришнаизма), буддизма, джайнизма, ислама и т. д.
Мы не будем вмешиваться в жаркие споры по вопросу – кто же был родоначальником классической йоги – древние дравиды или пришлые арии; для нас главный факт заключается в том, что йогические психотехнические практики взаимодействия с запредельным в течение тысячелетий были и до сих пор являются образцовыми в мировом мистицизме. Они широко варьировали и включались в целый ряд религиозно-философских направлений (напоминаем, что йога была также оформлена в одну из шести классических даршан – школ классической индийской философии). Характеризуя наиболее известный источник йоги, видный историк классической индийской философии С. Дасгупта отмечал, что Патанджали «…не только собрал различные формы йогических практик и отделил разнообразные идеи, которые были или могли быть связаны с йогой, но и пересадил их на метафизику санкхьи и придал им тот вид, в котором они и дошли до нас».175
Магия в древнеиндийской культуре была чрезвычайно развита и связана не только с брахманизмом или другими религиозно-философскими системами (в первую очередь, с религиозными культами), но включала и широкий пласт народных обыденных практик. Достаточно упомянуть, что в ведической традиции одна из четырех основных Вед – Атхарваведа носит ярко выраженный магический характер, прямо именуется «ведой заклинаний». Автор перевода и комментариев избранных фрагментов древнего памятника Т.Я.Елизаренкова отмечает: «Название „Атхарваведа“ (atharvaveda „веда заклинаний“ или „веда атхарванов“) происходит от имени мифического жреца огня Атхарвана (atharvan „жрец огня“, имя собственное родоначальника жрецов огня, имя собственное потомков Атхарвана). Связь этого собрания со жрецами огня очевидна: заговоры произносились обычно над огнем, в который совершались жертвенные возлияния. <…> Первоначальное название АВ (Атхарваведы -В.К.) не включало в себя слова „веда“. Это было „Атхарва“ или „Атхарвангираса“ (atharvangirasa) – название, состоящее из имен двух мифических родов: Атхарвана и Ангираса (angiras – название полубожественных существ, мудрецов-риши, посредников между богами и людьми или angirasа „связанная с Ангирасами“). По индийской традиции считается, что связь АВ с двумя родами – Атхарванами и Ангирасами – отражает двоякую природу заговоров этого собрания. Белую магию (заговоры, обращенные на достижение добра) связывают с Атхарванами, а черную магию (заговоры, обращенные на достижение зла) связывают с Ангирасами. Таким образом, АВ противостоит трем каноническим ведам и по характеру названия, и по содержанию, как текст магического названия текстам собственно религиозного культа. <…> В основе АВ лежат магические народные обряды, уходящие корнями в глубокую древность. Некогда они пронизывали собой весь быт древних ведийских племен… Типологические параллели этому встречаются в ранней истории самых различных цивилизаций».176
Взаимодействие магии и мистики в индийской культуре – чрезвычайно сложная и многоаспектная проблема, далеко выходящая за рамки нашей работы.
Выше, рассматривая истоки термина и понятия магии, мы вкратце проследили обозримые сегодня начала древнейшей зороастрийской (древнеперсидской) магии, судя по всему, тесно связанной со всем комплексом древних арийских культур, как цивилизованных народов, так и кочевых этносов. Для целей дальнейшего исследования трансформации древнейших этнических форм магии в условиях формирования высоких цивилизаций, рассмотрим вкратце историко-культурную динамику магии в средиземноморских цивилизациях.
Основные моменты трансформации римской магии
При всем том, учитывая воззрения простого народа, и в коренных интересах государства необходимо поддерживать и нравы, и религию, и учения, и права авгуров, и авторитет их коллегии.
Цицерон. О дивинации
Одним из важнейших примеров трансформации магии для нашего исследования является процесс «расслоения» древней магии на «теоретическую» и «практическую» в средиземноморском ареале. Подчеркнем важный для нас момент: «расслоение» древнейшей магии проходило по тем же уровням сакральной и профанной магии, что и в других культурных ареалах.
В Древнем Риме мы можем рассмотреть трансформацию от древних форм этнической магии к – функционированию магии и отношению к ней в имперском Риме, как воплощенной идее цивилизации. Мы кратко обратимся к проблеме рассмотрения магии в Риме, поскольку, с нашей точки зрения, здесь происходили процессы трансформации, в первую очередь, «обыденно-практических» и «профанных» форм магии, во многом определивших ее понимание в позднейших ареалах европейских культур.
Обратимся к знаменитой «Естественной истории» Гая Плиния Секунда, о которой исследователь А. В. Белоусов справедливо замечает: «…мимо Плиния не удается пройти ни историку собственно античной магии, ни исследователю средневековых западных и… даже славянских магических практик. И правда, в „Естественной истории“ мы обретаем великое разнообразие магических рецептов, которым можно найти параллели в истории почти любой культуры».177
Но нас интересует не то, что это многотомное сочинение предлагает компендиум доступных Плинию сведений о магических «рецептах», а тот факт, что в этом известном произведении ярко выражено разделение магии не только на «сакральную» (о которой Плиний, судя по всему, имел слобое представления) и «профанную», но также – на магию «легитимную» и «запретную».
На первый взгляд кажется, что Плиний высказывает негативную оценку магии в целом, называя ее «магическим пустословием», а магические средства лечения – «безнравственными и нечестивыми». Однако то, что Плиний называет «магией», относится, в первую очередь, к тем явлениям «чародейства, колдовства и волшебства», которые он связывал с таинственными практиками других народов. Судя по всему, к «магии» Плиний относит медицину, которую считает «наиболее противоречивой наукой»; астрологию, в которую не верит, и «uires religiones», которые, скорее всего, представляют собой «силу суеверий»
Таким образом понимая «магию», Плиний предлагает рассмотрение ее «истории», видимо, опираясь, главным образом, на сочинение Бола Мендесского, в котором от имени Демокрита излагалась теория вселенской симпатии и антипатии (скептически Плинием воспринятая), а также магические рецепты, заинтересовавшие его в наибольшей степени.
По мнению Плиния, история магии начинается в Персии от Зороастра; при этом он замечает, что речь идет о первом Зороастре, который, согласно Евдоксу Книдскому, жил за 6 тыс. лет до смерти Платона и сведения о нем якобы подтверждает Аристотель. (Известен и второй Зороастр из Проконнеса, который жил во времена Ксеркса). Согласно Гермиппу Смирнскому, Зороастр научился магии от некоего Азонака, который жил за 5 тысячелетий до Троянской войны.
Поскольку не сохранилось никаких древнейших магических сочинений, Плиний довольно скептически относится к сведениям о древней магии. И несмотря на то, что магия процветала и процветает по всей ойкумене во все времена, она – самое обманчивое из всех «искусств»…
Плиний называет имена известных магов, сочинений которых не сохранилось до его времени: Апусора, Зарата, вавилонян Мармара и Арабантифока, а также ассирийца Таврмоенду. Плиний отмечал распространенность магии в Фессалии, в связи с чем Менандр даже написал комедию «Фессалиянка», в которой рассказывается о магических ритуалах привлечения Луны к Земле. Также он упоминал магию во Фракии.
Удивление Плиния вызывает то, что, по его мнению, о магии нет никаких упоминаний у Гомера. Если только, по его словам, не считать таковыми рассказ Гомера о Протее, пении Сирен, о Цирцее и призвании мертвых… Плиний также не находит в своих источниках сведений о том, что магия появилась в карийском Тельмесе, который он называет «суевернейшим городом»; он не определил, когда магия возникла у «фессалийских матушек», которые у большинства античных авторов ассоциировались с магией… Также Плиний удивляется тому, что народ Ахилла приобрел такую прочную колдовскую репутацию.
Напомним, недоумения Плиния связаны, в первую очередь, с тем, что он ограничил представление о магии медициной, астрологией и «суевериями».
По сведениям Плиния, первым, кто написал о магии, был Остан, сопровождавший персидского царя Ксеркса в его походе на греков, по пути посеявший семена этого «отвратительного искусства». Плиний перечислял имена тех греческих философов, которые, по его сведениям, прославились магическими интересами и магическими сочинениями: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита (который якобы проник за сочинениями Дардана Финикийского прямо в его могилу) и даже Платона.
Плиний сообщал и о другой, иудейской ветви магии, появившейся через много тысяч лет после Зороастра, родоначальниками которой были Моисей, Ианний и Иотап. Он подчеркнул, что распространению магии во многом способствовали походы Александра Великого, которого сопровождал некий второй Остан.
В предыстории Рима, по Плинию, следы магии заметны среди италийцев. В 28-ой книге «Естественной истории» Плиний рассматривает магическое. содержание законов 12-ти таблиц. В Галлиях магия практиковалась друидами: Британия была «страстно охвачена магией».
В качестве одного из важных доказательств существования магии в Риме, он приводит тот факт, что в 657 г. от основания города (94 г. до н.э.), в консульство Гн. Корнелия Лентула и Публия Лициния Красса, было запрещено человеческое жертвоприношение.
А.В.Белоусов вполне справедливо выявляет основные идеологические и моральные «скрепы», характеризующие как центральную идею произведения Плиния, так и предпринятое им рассмотрение магии. «„Естественная история“ представляет собой описание природы (natura), которая есть жизнь (vita), и которая при этом неразрывно связана с человеком и ориентирована на человека. Она, …вся целиком существует для того, чтобы человек благодарно пользовался ее дарами…»178
Взгляды Плиния, осуждавшего «магию», отражали отношение «цивилизованных» народов – к «варварским», к тем племенам, которые, живя в природе, сохраняли близкое родство с животными и не видели в человеке уникальное и «над-природное» существо. Эту «варварскую животность» он подчеркивает и в ненавидимом им Нероне, который, по мнению Плиния, не случайно увлекся магией, отличаясь «…свободой выбирать для магических ритуалов любой день и любой скот, а совершать человеческие жертвоприношения было для него вообще самым приятным занятием… Нерона посвятил в магические таинства армянский царь Тиридат, который пришел в Рим для того, чтобы Нерон справил свой армянский триумф, приведя с собою и магов».179
«Идейная» борьба с «магией» у Плиния – это, в первую очередь, полное отвержение недопустимой «медицины» вместе с «внешними и варварскими обрядами», к которым он, в первую очередь, относит различные формы каннибализма (вкушение человеческой крови, внутренностей и частей человеческого тела), а также использование таких «лекарств», как костный мозг человека и мозги новорожденных младенцев…
Плиний откровенно возмущался: «…может показаться, будто превращение человека в животное и есть выздоровление…». И, прямо обращаясь к образу Октана, распространителя магии, заявлял: «Разглядывать человеческие внутренности считается нечестивым, а что насчет того, чтобы их есть? Кто придумал эту дрянь, Октан? Ты, ниспровергатель человеческих законов и изобретатель чудовищ, есть тот, кто первый это заложил. Я полагаю, дабы никто о тебе не забыл?»180
Плиний делает вывод, что магия – «отвратительна, тщетна и бесполезна»; в ней есть только «некие тени истины», да и то только в том, что касается «отравительства, а не чародейства».181
При этом, как справедливо отмечает А. В. Белоусов, «Плиний стремится описать „природу“ с высоты римского могущества… Плиний замечает, что боги сделали Рим „как бы вторым светочем для человеческого рода“… И отсюда проистекает для Плиния постоянная необходимость соизмерять практически все, о чем он говорит, с Римом, его обычаями и его историей».182
Плиний как бы не замечает, что «суеверия», гадания (в том числе, по внутренностям животных), вызывания «теней мертвых» и т. п. – часть обычной жизни Рима. Но утверждение человеческого и отвержение животности – для цивилизованного римлянина важнее всего.
Рассматривая действительно целебные средства, имеющие исток в самом человеке, он признает, что главным является слово. Для Плиния очевидно, что именно разумная речь отличает человека от животного. Но равную ли силу имеют слова в признаваемой им официальной римской религии и в магических заклинаниях?
Плиний убежден, что без произнесения необходимых слов нельзя совершить жертвоприношение и правильно спросить совета у богов. Он предпринимает классификацию молитв: молитвы о благих предзнаменованиях, апотропеические молитвы и препоручающие. Он явно считает, что эти «обязательные формулы» (precationes) существуют одновременно и в одобряемой им религии и в магии, в которой они, следуя его терминологии, становятся заклинаниями (incantamenta), стихами (carmina) или музыкальными зкклинанями (incantamenta carminum).
Он приводил примеры из римской практики: рассматривал молитвенные формулы, которые четко, ничего не пропуская, должны произносить в официальных религиозных обрядах высшие магистраты; молитву Деция; молитву весталки.183
Что касается магической речи – формул, заклинаний и т.п., мы согласны с А.В.Белоусовым, который, определяя взгляды Плиния, отмечает: «Во-первых, магия, поскольку она видит в человеке средство и, тем самым, спокойно относится к его умерщвлению и употреблению в своей практике частей тела мертвеца, есть занятие мерзкое. Во-вторых, магия активно пользуется теми же речевыми практиками, что и официальный римский культ, но поскольку она – вещь частная и оккультная, она есть деятельность антиобщественная. В-третьих, магические заклинания, оторванные от официального и гражданского культа, применяются весьма разнообразными способами…».184
Таким образом, в знаменитой и весьма влиятельной «Естественной истории» Плиния отражен официозно-римский взгляд на древнюю магию, которая в цивилизованных сообществах стала претерпевать существенные трансформации, сообразуясь с новыми антропологическими, социокультурными и даже политическими тенденциями.
Основные моменты трансформации магии
в Древней Греции
Так говорил он, молясь.
Услыхал его Зевс промыслитель.
Был им послан орел, безобманная самая птица…
Гомер. Илиада
В древнегреческой цивилизации трансформация магии происходила в процессе глубинного влияния древнейших культур Египта, Эгейского мира, Передней Азии, возможно, в первую очередь, крито-минойской культуры, а позже все более тесного взаимодействия различных племен (ахейцев, дорийцев, и пр.), что способствовало проникновению развитых мифо-магических идей и практик в эллинскую культуру.
Приведем только одно соображение известного исследователя Э.Р.Доддса об определяющем заимствовании греками от других народов того, что он называл «шаманизмом» (в нашей терминологии – древней магией).
Э.Р.Доддс писал о древних греках: «…1) источники начинают фиксировать шаманский стиль уже после того, как Черное море открылось для греческой колонизации, и не раньше; 2) из наиболее ранних засвидетельствованных «шаманов» один – скиф (Абарид), другой – грек, посетивший Скифию (Аристей); 3) существует большое сходство в деталях между древним греко-скифским и современным сибирским шаманизмом…».185
Поскольку сложилась уже слишком сильная традиция связывать древнегреческую культуру, как «колыбель» европейской, с исторически поздними «нарративными» (профанными) мифами и поздними мистериями и религиями, в данный момент нет возможности проанализировать собственно древнегреческую пра-магию и этнокультурную специфическую магию. Подчеркнем лишь, что наличие «ядра» древней магии непосредственно предполагается и у этнических культур древних племен, со временем составивших высокую (безусловно, «химерную», этнически-многосложную) эллинскую культуру.
Особо подчеркнем наиболее исследованную связь магии и мантики (прорицания, пророчества, гадания) в древнегреческой культуре
Как отмечает Е.В.Приходько, «Мантическое искусство было столь же неотъемлемой частью эллинской культуры, какой были, например, и поэмы Гомера. Греки всегда считали его определенным видом ремесла, мастерством столь же привычным, как и искусство кормчего и плотника, полководца и врача».186
Опираясь на проведенный исследователем глубокий лексико-семантический анализ греческих источников, связанных с мантическим искусством, попробуем очертить основные моменты, демонстрирующие тот факт, что мантика – это определенная форма магии, трансформированной на этапе цивилизационного развития древнегреческого общества.
Сразу отметим, что в древнегреческой мантике проявляются некоторые черты «ядра» древней магии (см. выше), но также – и существенные отличия от нее:
1. Мантика базируется на исходном представлении о «двойственности» вселенского бытия и возможности устанавливать прямую и непосредственную связь между здешним и Иным. В диалоге Платона «Пир» греческий натурфилософ Эристимах говорит: «…все жертвоприношения, все то, чем руководит мантика, – а это все служит к взаимному общению богов и людей – имеет в виду исключительно только охрану и врачевания Эрота…. Мантике и предписано наблюдать за любящими и врачевать их; мантика, в свою очередь, есть создательница дружбы между богами и людьми, поскольку ее ведению подлежать элементы любви в людях, относящиеся к тому, что освящено обычаем и что благочестиво».187
Как величайшее «тайное знание» и высшая «наука», мантика предполагает возможность управлять внутренней энергией и взаимодействовать с таинственными силами и сущностями.
2. Специалист в области мантики (прорицатель, пророк, гадатель) является фигурой неоднозначной, но, бесспорно, выдающейся. В нашей терминологии ЭЭК, он – как минимум страстный, а часто – и супер-страстный (пассионарный) человек. Если он имеет официальную (социальную, государственную, религиозную) поддержку, он может быть чрезвычайно влиятельной и значимой персоной.
3. В отличие от других видов магии, мантика не предполагает прямо вызывать изменения в физическом мире, а она призвана раскрыть тайну возможных вариантов событий, возлагая обязанность исполнить те или иные действия, а также ответственность за их последствия на самого вопрошающего. Иначе говоря, в отличие, скажем, он древних шаманов, которые и прорицали, и сами могли непосредственно воздействовать на предметы, явления и события, – мантики (пророки, прорицатели и гадатели) только давали необходимую информацию о будущем (и то в пределах «дозволенного» богами и духами). В определенном смысле, можно сказать, что в древних цивилизациях в сфере магических «услуг» произошло некое «разделение труда» и сфер деятельности: мантика отделилась от колдовства/ведовства (как грубых остатков древнейших форм магии), приняла более рафинированные формы и получила социальную легитимность, государственную поддержку и значительный общекультурный вес (особенно – политический).
4. В мантике сохраняется высокий эмоциональный накал магических практик, но определяющую роль играет индивидуальная работа с клиентами. Именно от вопрошающего часто зависит сам ход и результат (форма) предсказания. В рамках ЭЭК мы можем прямо говорить о непосредственном энергетическом взаимодействии не только между предсказателем и Иным, но и между предсказателем и вопрошающим. Не только психологические состояния участников действа, но и «уровень» вопроса будет предполагать обращение к тем или иным уровням энергий: на этапе этнического подъема, когда даже обыватели интересуются проблемами, важными для определенного сообщества или даже общества в целом (о войне и мире, о серьезных социальных или политических коллизиям и пр.), прорицатель поневоле вынужден выходить на высокие уровни эгрегора и «включать» высокие космические энергии. А на этапе упадка, стагнации этноса, когда задают преимущественно бытовые вопросы (поиск утраченных вещей, частные семейные проблемы и т.п.), энергетическое взаимодействие минимально.
5. В отличие от древней магии, в мантике античности проблемы нравственности играют значительную роль. Как и в древнеримской, в древнегреческой магии в целом проходили существенные трансформации – оцениваясь с позиций гуманизма, общественной пользы и развивающегося логического мышления.
6. Мантика, как и магия в целом во все времена, является неотъемлемой частью культурного кода данного этноса: племени, народа, нации, сообщества; одной из ключевых сторон его самоидентификации, определяя основные внешние символы, практики, способы межличностных взаимодействий. В главе, посвященной видам мистики, мы, рассматривая мистические аспекты древнегреческой мантики, подчеркнем этнокультурные черты эллинского мантического искусства.
7. Мантика, как и любое магическое действо, представляет собой особую систему ритуалов, действий и практик, которые формируются в определенном культурном поле и несут на себе его неповторимую энергетику.
8. В древнегреческой мантике, в отличие от древнейшей магии, большую роль играет не примитивное доверие, которое еще сохраняется, а сформированная вера в богов общепризнанного пантеона. При этом, как и в древнем шаманизме, в древнегреческой мантике редко обращаются с вопросами к верховному богу. В древности зачастую спрашивали духов, а в мантике – бога-прорицателя Аполлона и души некоторых древних прорицателей (например, Тиресия). (Более подробно о прорицалищах Аполлона – см. в главе 8. Пифийская мистика)
9. Наконец, в отличие от культур древнейших сообществ, древнеэллинская мантика находилась в тесном взаимодействии с олимпийской мифологией и религией, которые являлись основой древнегреческого эгрегора и менталитета.
Магия и теургия
…из того, что может быть познано посредством рассуждений, мы ничего не упустим. Нами будут рассмотрены все богословские, теургические и философские вопросы – соответственно богословскими, теургическими и философскими методами, причем в вопросах относительно первопричин мы добьемся ясности, восходя до самих первопричин.
Ямвлих. Ответ учителя Абаммона на письмо Порфирия к Анебону…
А. В. Петров, исследовав эволюцию магии в древнегреческой, а затем – средиземноморской культуре, а целом188, показал, что к началу новой эры магия прошла определенную трансформацию: 1) она вышла за рамки древнегреческой культуры, впитав в себя элементы магии египетской, еврейской и вавилонской; 2) наряду с существованием определенных стереотипов в построении магического действия (праксиса) сформировалась философски обоснованная «теория» магии, которая называется теургией189; 3) появляется новое социальное разделение магов – практикующих в традиционные формах магии, которые могут преследоваться и отторгаться обществом, ориентирующимся на развивающиеся религии, и философствующих теургов, относящихся к интеллектуальной элите и на первый план выдвигающих теоретическое обоснование некоторых форм магии и трансформирующих одновременно и сами магические практики.
Рассмотрим подробнее обозначенные А. Петровым моменты трансформации эллинско-римской традиционной магии.
Именно в древнегреческой культуре оформляется четкое понимание различий древней, традиционной магии и – новой теургии, философски обосновываемой и оснащаемой. Так, в текстах папирусов (важнейших источниках традиционной магии), как показал А. Петров, «…всякое магическое действие – будь то получение оракула, возбуждение любовной страсти или удача в путешествии – обязательно сопровождается вступлением в контакт со сверхъестественными силами, вплоть до высочайшего (с точки зрения призывающего его мага) Бога».190
Подчеркнем важнейшие различия между магией и теургией.
А) различные цели магии и теургии: в древней магии цель всегда утилитарная, а основная цель теургии – слияние с Высшим..
А.В.Петров отмечает: «В магических папирусах мы можем обнаружить великолепные космогонии… и процедуры призывания самых важных богов… Однако и изложение космогоний и контакт с богом являются для мага лишь промежуточными целями. Конечная же – всегда вполне утилитарная».191
В теургии же эти промежуточные цели становятся основными. Прокл определяет слияние с богом как цель всякой философской деятельности и ее высшей ступени – теургии – в том числе…
А.В.Петров, комментируя содержание сохранившихся «Халдейских оракулов» (т.е. записанных на папирусах древних магических процедур, которые нужно не понимать, а только неукоснительно исполнять), отмечает очевидную цель древней магии. «Фразеология заклинаний и молитв магических папирусов выражает лежащую в основании магии мысль: существуют некие средства, правильно используя которые, можно заставить бога сделать то, что нужно магу».192
И здесь же он подчеркивает причину, по которой на следующей фазе этногенеза эллинской цивилизации, в акматическую эпоху, когда активно развивается философия (в первую очередь, логика и пра-научное мышление), практическая магия получает теоретическое обоснование.
А.В.Петров: «Философское сознание грека не могло признать такого рода формулировку, поскольку бог не аффицируем в силу своего совершенства. Один из вариантов решения этого вопроса, предложенный Ямвлихом, установился в позднем неоплатонизме, в том числе и у Прокла. Он исходит из принципа, высказанного в так называемых „Халдейских оракулах“: изменчивость бога в магическом акте объясняется особенностями нашего восприятия».193
Далее А. В.Петров замечает: «Несмотря на все выгоды такого взгляда, сохраняющего как реальность контакта, так и неизменность бога, сохраняется ряд вопросов: почему для получения контакта с тем или иным богом нужны определенные животные, растения, травы; почему призываемый одними именами бог является, а призываемый другими – нет? Традиционная магия, видимо, объясняла это в терминах принуждения. Неоплатоническая философия говорила о том, что боги „радуются“ специфическим именам и определенным вещам. Однако это лишь самое общее указание. Более подробно использование камней, растений и животных в магии объясняется в учении о „цепи“, связывающей богов, демонов, людей, животных, растения и камни. Для обоснования употребления особых имен применялось специальное учение об имени».194
Известно подробно разработанное Проклом, философом-неоплатоником V века н.э., учение о магических именах. В нем указывается связь между теургией и статусом имени в системе позднего неоплатонизма.
Цель теургии, категорически отличную от цели древней магии, сформулировал Ямвлих в своей знаменитой работе «О египетских мистериях» или «Ответ учителя Абамона на письмо к Анебону»): «…все магические действия лишь по видимости обращены на богов и демонов, но на самом деле они изменяют лишь человека и другие вещи материального мира, делая их способными для принятия божественного света, который всегда изливается на низшие вещи, однако не всегда может быть ими принят».195
В) Различия в характере обоснования магической практики.
Древняя магия использовалась для принуждения высших сил к помощи магу. Как мы видели выше, древние маги (шаманы, колдуны и т.п.) считали, что с помощью жертв и определенных манипуляций они могут склонить высшие силы (духов, богов, демонов и т.д.) не только прислушаться к их просьбам, но и выполнять их указания. «Оборотническая логика» (по Лосеву) или «партиципаиця» (по Леви-Брюлю) приводила их к выводу о непосредственной связи человека и высшей силы. С другой стороны, древняя магия признавала и использование высшей силой человеческих тел (одержимость) для неких непостижимых высших целей. Так, у северных народов вплоть до ХХ в. было известно массовое «мерячение», когда целые деревни становились одержимыми.196
Непосредственное взаимодействие профанного и сакрального миров, их тесное сосуществование в древней магии позволяло проводить немыслимые для позднейших исторических периодов обряды и ритуалы. Человеческие жертвоприношения, как представляется, связаны именно с подобным мироощущением. Жрецы древних ацтеков, извлекавшие из груди жертвы еще бьющееся сердце, были убеждены, что их богу необходим именно такой обряд. Можно предположить, что в тех магических обрядах и религиозно-магических церемониях, в которых предполагается, что бог в своем обличии или в виде тотема прямо и непосредственно опускается на землю, человеческие жертвоприношения наиболее вероятны. (Бог Мардук нисходит с неба и даже живет в подготовленных чертогах на вершине зиккурата и т.д.)
С точки зрения этногенеза, подобное мироощущение целостности бытия, в которой человек является непосредственным «промежуточным звеном» между «верхним и дольним», характерно для фазы подъема этноса, когда воодушевление вновь сформированной этнической общности проявляется и в чрезвычайном, ничем необъяснимом магическом оптимизме. Особенность традиционной культуры, бережно сохраняющей почти в неизменном виде исходные магические ритуалы и обряды в течение веков, позволяют видеть их в уже трансформированных направлениях магии позднейших периодов, когда они вовсе теряют исходный смысл и производятся «механически», становясь вдвойне таинственными. (Кстати, для самих магов, колдунов и шаманов исходный «смысл» древних обрядов открывается в трансах, мистических опытах, «полетах», когда исчезают пространство и время и необходимое «знание» дается непосредственно. Но поскольку это «знание» несказуемо, то для внешних наблюдателей ритуалов их истинный смысл так и останется нераскрытым.)
Теургию А. В.Петров рассматривает как особое явление «синкретической религиозности», возникающее при взаимодействии народной магии и религиозной философии в эллинистической культуре.
В аспекте рассмотрения магии с точки зрения ЭЭКК для нас очевидно, что теургия является формой трансформации традиционной (древней) магии в эпоху эллинизма, не теряющей тесной связи с эллинскими мифами, но вряд ли связанная с эллинистическими религиями, или, по крайней мере, связанная с ними опосредованно. Соединение народной магии с философией неоплатонизма также не имеет религиозного характера, с нашей точки зрения. Имена богов, используемых в магических формулах, происходят из мифологии и не нуждаются в религиозной «поддержке».
Теургия, как философски обоснованная магия, исходит из осознания основных положений:
1) высшие силы бесконечно далеки от земного мира и человека; они сложно организованы и иерархичны (здесь нужно учитывать подробно разработанную схему «небесной иерархии» в неоплатонизме и ареопагитиках);197
2) высшие силы опосредованно связаны с людьми, и те «медиаторы» (ангелы, демоны, духи и т.п.), которые реально могут общаться с человеком, ограничены в своих возможностях и, как правило, выполняют только определенные функции (вестников воли богов; толкователей знамений и явлений; советчиков и т.п.)
3) высшие силы абсолютно неподвластны человеку, он в принципе не может ими управлять; но человеку доступно некое «знание» (гнозис), которое может соотнести действия человека с высшей волей и объективным действием высших сил.
4) высшие силы, возможно, заинтересованы во взаимодействии с человеком, но истинные цели высших сил человеку никогда не будут раскрыты.
Таким образом, древняя магия, в которой непостижимая тайна слияния человека с Высшим была нераздельна и реализовывалась в конкретной ритуальной практике, в средиземноморском культурном ареале к эпохе эллинизма трансформировалась в теургию, в которой философское обоснование самой магии не могло обойти и проблему теоретического осмысления самой тайны соединения с Высшим. Далее мы рассмотрим виды мистики в средиземноморском ареале как раз в эту эпоху – поздней классики и эллинизма, а затем римского периода, но уже сейчас, после рассмотрения трансформации магии, можно видеть, что не только магия, но и мистика может быть теоретически осмыслена, в том числе, в особости отличия мистических практик от магических ритуалов. Здесь не стоит забывать о том «ядре» магических практик, которое было, есть и, видимо, и дальше будет сохраняться в любой этнической культуре.
111
Гуили Р. Э. Энциклопедия магии и алхимии. СПб.: Азбука, 2013. С.317. (Не могу не отметить примечательный для нашего исследования штрих: фамилия автора Энциклопедии близка по звучанию к термину «гилея», означающему как «влажные тропические леса в Южной Америке», так и «лесной массив в Скифии в античные времена». А для историков русской философии и культуры это напоминание о литературно-художественном объединении русского авангарда начала ХХ в.)
112
Цит. по: Гуили, Энциклопедия, с.318.
113
См.: Кравченко, Симфония, с.134.
114
Кравченко, Симфония, с.134.
115
Здесь мы обратим внимание, что Р.Э.Гуили, как и подавляющее большинство историков религии, магии и мистицизма, не рассматривает древнейшие истоки магии в первобытную эпоху и в реликтовых племенах (хотя функции и элементы магии она характеризует вслед за культур- антропологом Брониславом Малиновским, который свои представления о магии выстраивал на основе исследования реликтовых племен на Тробриандовых островах в Меланезии). Историю магии Гуили ограничивает только западной традицией, начиная отсчет от древнеегипетской магии.
116
Бойс, Зороастрийцы, с.18—19.
117
Бонгард- Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. М.: Мысль, 1983.
118
Йеттмар К. Религии Гнндукуша. М.: Наука, 1986. С. 48.
119
Бойс, Зороастрийцы, с.24. :
120
Бойс, Зороастрийцы, с.24—25. («Ясна» – главная зороастрийская религиозная служба. См.: Бойс, Зороастрийцы, с.336)
121
Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999. С.34.
122
Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III- начало I тыс. до н.э.) СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2002. С.240.
123
Отметим, например, чрезвычайно краткие посещения Э. Тейлором Кубы, Мексики и Северной Америки
124
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика- Пресс, 1994. С.65.
125
Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М.: Учпедгиз, 1957 С.12—13.
126
Леви-Брюль, Сверхъестественное, сс.34 и 29.
127
Леви-Брюль, Сверхъестественное, с.29.
128
Эмоции базовые – это «автоматическая», бессознательная реакция организма в виде перераспределения энергии на действие рефлекса и инстинкта; это фиксация в биологическом теле человека, как особом сгустке энергии, или определенном микрополе, результатов взаимодействия с другими микро- и макро- полями самых разнообразных видов энергии. П. Экман выделил следующие базовые эмоции: страх (опасение), гнев, отвращение, печаль, радость и удивление. – Кравченко, Симфония, с.370.
129
Леви-Брюль, Сверхъестественное, с. 29.
130
Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб: Искусство- СПБ, 2004. С.135.
131
«Ци» в китайской философии понимается как фундаментальная, континуальная, динамическая, пространственно-временная, духовно-материальная и витально- энергетическая субстанция, которая лежит в основе устройства Вселенной. – См.: Кобзев А. И. Ци – пневма // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. М.: Вост. лит., 2006. Т.1. Философия. С. 549—551. (Еще о параллелях в понятиях «ци» и «энергия» см. далее, в подразделе «Кратко об особенностях магии в древних цивилизациях»)
132
«Прана» (санскр. «prana» – дыхание, жизнь) – дыхание, жизненная энергия, в индуизме – концепция жизненной силы. См.: /Лысенко В. Г./ Прана // Большая российская энциклопедия. В 35 т. Т.27. 2015. С. 385—386..
133
Как отмечал Л.Н.Гумилев, пассионарный взрыв приводит к формированию нового этноса, а значит, как мы показали в монографии «Симфония», – нового культурного поля, с новыми взаимоотношениями членов этноса и их новым пониманием окружающей природной среды. Даже если племя не переместилось в другую местность, то в фазе пассионарного подъема, с увеличением численности этноса и повышением его активности, начинается его территориальная экспансия, происходит смешение с другими этносами, вплоть до завершения акматической фазы.
134
gesta – деяния
135
Элиаде, Священное, с.63.
136
Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Академический проект, 2015. С.69.
137
Мелетинский, Поэтика мифа, с.179.
138
Малиновский, Магия, с.33. – Мы вряд ли согласимся с мнением о «классичности» меланезийской магии, полагая таковой, скорее, магию африканскую. Если опять вернуться к концепции африканского происхождения предков современных людей, то, по мнению антропологов, кенийский Homo ergaster жил в местности Нариокотоме 1,6 млн. лет тому назад; кениантроп плосколицый жил на озере Туркана 3,5 млн. лет тому назад; примерно того де возраста и знаменитые останки афарского австралопитека (женского рода) «Люси», а наиболее «близкий» наш родственник Australopitecus garhi жил в области Бури в Эфиопии 2,5 млн. лет тому назад. Расселение племен из Африки происходило всего лишь максимум к 1,8 млн. лет тому назад (знаменитый Homo erectus, найденный в районе Дманиси под Тбилиси – 1,7 млн. лет тому назад); в районы Азии – 1,5 млн.– 500 тыс. лет тому назад, а на острова Тихого Океана – примерно 30 тыс. лет тому назад!
139
Малиновский, Магия, с.33.
140
Harrison J.E. Ancient Art and Ritual. L., 1935. Р. 30.
141
Harrison, Ancient Art, р.36—37.
142
Кравченко, Симфония, с.61—189 (параграф «Эмоции культуры»).
143
Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. С.211.
144
Эверетт, Не спи, с.141.
145
Тайлор, Первобытная культура, с.212—213.
146
Богораз-Тан, Чукчи, с.6.
147
Эверетт, Не спи, с.138.
148
Богораз-Тан, Чукчи, с.8.
149
Котляр, Миф, с.119.
150
В славянских языках слово «диво» переводится как «чудо»; см. в предыдущем параграфе – А.Ф.Лосев: «Миф – это чудо».
151
Слово о полку Игореве. М.-Л.: Наука, 1950. С. 12 и 20. (Дословный перевод Д.С.Лихачева).
152
Виклади давньослов#'#янських легенд, або мiфологiя, укладена А.Ф.Головацьким. Киiв, 1991. (пер. с издания: Львов, 1860). С.40.
153
Богораз-Тан В. О так называемом языке духов (шаманском) у различных ветвей эскимосского племени// Известия Академии наук. Серия VI, т. ХIII, 1919. С., 489—495. Переиздание: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. СПб., 1995. С.97- 104.
154
Znamenski, Andrei. Shamanizm in Siberia: Russian Records of Siberian Spirituality. Dordrech and Boston: Kluwer/Springer, 2003.
155
Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев. София, 2000. С. 461.
156
Мне довелось участвовать в первом Международном научном симпозиуме «Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты» (20—26 июня 1996 г., г. Улан-Удэ, озеро Байкал), на котором присутствовали ведущие современные исследователи шаманизма из многих стран мира, а также современные шаманы Прибайкалья, Забайкалья, Тывы, Западной Сибири, Монголии, ….
157
Кенин- Лопсан М. Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Новосибирск: Изд-во «Наука. Сибирское отделение», 1987. С. 11.
158
Кон Ф. Я. Экспедиция в Сойотию // Кон Ф. Я. Собр. соч. М., 1934. Т. 3. С. 73.
159
Подробнее о «шаманской болезни» и измененных состояниях сознания шаманов см.: Уолш Р. Дух шаманизма. М.: Изд-во Трансперсонального института, 1996; Halifax, Joan. Shaman: The Wounded Healer. London: Thames&Hudson, 1982.
160
Смоляк А. В. Шаман: личность, функции, мировоззрение (народы н нижнего Амура). М.: Наука, 1991. С. 132.
161
См.: Смоляк, Шаман, с.132 и далее.
162
Thomson G. Studies in Ancient Greek Society. L., 1949. Vol. l. Р. 440.
163
См.: Kravchenko, Victoria V. Ethno-Cultural Transformations of Magic: From Primitive «Core» to Modern Synthetic Forms and Practises // Clin Schizophr Relat Psychoses 15S:3, 2021.
164
Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1982. Т.2. С.232—233; 572—573.
165
Мартыненко Н. П. Легендарный первопредок китайской нации и первый правитель: к вопросу о первоистоках концепта Хуан-Ди //Politbook, 2015, №4. С.155.
166
Мифы народов мира, т.2., с.605—606.
167
Мартыненко, Легендарный первопредок, с.159.
168
Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-классика; Петербургское востоковедение, 2005. С.54.
169
Торчинов, Пути философии, с.54.
170
Торчинов, Пути философии, с.54.
171
Торчинов, Пути философии, с.58.
172
Торчинов, Пути философии, с.60.
173
См.: Мифы народов мира, т.2, с.195.
174
Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. С.187.
175
Dasgupta S. Yoga Philosophy in Relation to other Systems of Indian Thoughr. Calcutta, 1930. P.51.
176
Елизаренкова Т. Я. Об Атхарваведе // Атхарваведа: Избранное. Пер., комм. и вст. ст. Т.Я. Елизаренковой. М.: Наука, 1989. С. 3—4.
177
Белоусов А. В. Вновь о магии у Плиния Старшего // Homo omnium horarum. Сб. ст. в честь 70-л. А.В.Подосинова. /под ред А.В.Белоусова и Е. В. Илюшечкиной. М.: Ун-т Д. Пожарского, 2020. С.71.
178
Белоусов, Вновь о магии, с.83.
179
См.: Белоусов, Вновь о магии, с.76.
180
Белоусов, Вновь о магии, с.78.
181
Белоусов, Вновь о магии, с.76.
182
Белоусов, Вновь о магии, с.83.
183
Белоусов, Вновь о магии, с.79—80.
184
Белоусов, Вновь о магии, с.80. В приведенной цитате Белоусова лучше бы не использовать термин «оккультная», имеющий вполне конкретный культурно-исторический смысл, который мы будем рассматривать далее.
185
Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2000. С.237.
186
Приходько Е. В. Двойное сокровище. М.: Прогресс- Традиция, 1999. С.27.
187
Платон Пир (188 С). (пер. С.А.Жебелева) // Платон. Полн. собр творений Платона в 15 т. Т.V. Пер. под ред С.А.Жебелева, А.П.Карсавина, Э.Л.Радлова. Петербург: Academia, 1922. С.32.
188
А. В. Петров отмечал: «Магия как явление, общее практически для всех известных нам форм культуры, присутствовала и в античной – греческой и римской – цивилизации с самых древнейших времен. Однако с конца периода классики античная магия начинает превращаться в уникальное явление, перерастая рамки греческой и римской культур и становясь средиземноморским явлением. Она объединяет в себе в разных пропорциях наряду с традиционными греко-римскими формами магии элементы магии египетской, еврейской и вавилонской. В общих чертах этот процесс, видимо, закончился к началу новой эры.» – Петров А. В. Феномен теургии: Философия и магия в античности. СПб.: Изд-во РХГИ; Издат. Дом СПбГУ, 2003. С.5.
189
Петров: «Впервые магия получает позитивную философскую интерпретацию, обосновывается теоретически и обозначается как теургия на рубеже III и IV. вв. н.э. в трактате философа-неоплатоника Ямвлиха „О мистериях египтян“. С этого времени начинается эволюция магического искусства как целостной дисциплины, содержащей как эмпирическую, так и теоретическую часть. Эта дисциплина разрабатывается представителями интеллектуальной элиты – философами, принадлежащими к наиболее влиятельному в ту эпоху философскому направлению, а именно к платонизму». – Петров, Феномен теургии, с.4.
190
Петров, Феномен теургии, с.5.
191
Петров А. В.К истории религиозно-философской мысли поздней античности (учение Прокла о магических именах) // Вестник СПбГУ, сер. 2, 1995, вып. 4, с. 15.
192
Петров, К истории, с. 16.
193
Петров, К истории, с.16
194
Петров, К истории, с.20—24.
195
Петров, Феномен теургии, с.6.
196
Современный исследователь А. Платов отмечает по поводу «меряченья»: «Интереснейший феномен, всегда ассоциировавшийся с северным шаманизмом и северной магией… Очень своеобразное психопатологическое состояние, в котором человек независимо от собственного желания либо копирует действия и слова окружающих, либо подчиняется любым приказам извне – вне зависимости от того, от кого они исходят: от человека или, как верят некоторые северные народы Евразии, от духов Полярной звезды. В ряже случаев может принимать массовый характер, становясь своего рода «психической заразой»…». – Платов Антон. Арктическая истерия: между шаманом и берсерком. М.: ООО «Сам полиграфист», 2012. С.3.
197
Плотин. 1—6 Эннеады. В.6 тт., 7 кн. СПб.: Изд-во О. Абышко, 2019; Псевдо- Дионисий Ареопагит. О небесной Иерархии. М.: РМ, 1994.