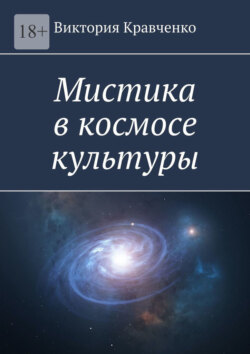Читать книгу Мистика в космосе культуры - - Страница 6
Часть первая.
Мистика в истории и теории
Глава 1.
Предыстория современного понимания мистики
(в свете этно- энергетической концепции культурного поля (ЭЭКК))
1.1. Миф
ОглавлениеМиф не вспоминается и не забывается, миф существует всегда.
Саллюстий
Понятие мифа
Не имея возможности глубоко погрузиться в безбрежную тему рассмотрения мифа в современных науках (философии, культурологи, филологии, психологии и т.д.), выразим солидарность с той позицией, которую сформулировала известная исследовательница японской культуры Л. М. Ермакова: «…обратимся ли мы к символической теории Кассирера, представляющей мифологическую деятельность как особую символическую форму культуры, или к функционализму Б. Малиновского, рассматривавшего миф как способ поддержания традиционности и культурной непрерывности, или к структуралистской теории Леви-Стросса, подчеркивающей способность мифа к анализу особого рода, – во всех концепциях мы обнаружим одно непременное свойство, а именно способность мифа к объединению освоенного и мыслимого мира под углом единого мифологического дискурса».23
Попробуем очертить наш подход к мифу, который в значительной степени определен признанием некоторых концепций М. Элиаде, В. Отто, А.Ф.Лосева, Е. М. Мелетинского…
В нашем исследовании мы будем рассматривать миф как процесс формирования этносом предельно целостного представления о действительности или ее отдельных сторонах, позволяющий организовать жизнь этноса в сложных и непредсказуемых природных, социально- исторических и культурных обстоятельствах.
Миф не является ни выдумкой, ни фикцией, ни фантастическим вымыслом; он должен рассматриваться, как указывал А.Ф.Лосев, «с точки зрения самого мифического сознания», представая как»…наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность»24. Миф не является «бытием идеальным» и «произведением чистой мысли»; «в основе мифа лежит аффективный корень, так как он всегда есть выражение тех или других жизненных и насущных потребностей и стремлений»25. Миф не является примитивно- научным представлением; он всегда «эмоционален, аффективен, жизнен»26.
При этом само существование мифа не связано только исключительно с первобытной эпохой, он трансформируется и обретает различные формы на всех исторических этапах существования общества.27
С нашей точки зрения, трагедия современного общества состоит в том, что оно представляет культуру не как динамическое явление, а главным образом как статический результат деятельности предшествующих поколений; как наследие, требующее только сохранности и механической преемственности. А в действительности, культура жива сиюминутной, непосредственной деятельностью, освещенной и стимулируемой непосредственными и яркими эмоциями, переживаниями и чувствами. Неравномерность и неустойчивость культурного поля и связана с тем, что люди разных этносов относятся к разным энерготипам и способны к различным проявлениям многообразных эмоций, переживаний и чувств, в том числе – универсальных чувств, непосредственно формирующих, поддерживающих и сохраняющих общечеловеческое культурное поле.
Миф первичен, в определенном смысле стихиен и далек от рассудочности. Но он не статичен, он развивается наряду с природными и социальными трансформациями, при этом всегда оставаясь в подоснове культуры. Его древние формы, постепенно «олитературиваясь», становятся остовом, «матрицей», базовой решеткой этнической культуры.
Миф в древности воспринимался как подлинная реальность, и отношение к мифу – это совсем не вера, в современном понимании этого слова, как сугубо рациональное отношение. Отношение к мифу в рамках мифического сознания – это отношение иррационально- обыденное, эмоциональное принятие вещей такими, какими они только и могут быть (и никакими иначе; и даже в голову не приходит мысль о том, чтобы придумать что-то еще). Если говорить о «статике» мифа, так она – именно в примитивном его восприятии; для древнего человека миф нерушим, единственен и обыденно-привычен.
Истоки мифа
Во всем мне хочется дойти
До самой сути. (…)
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Б. Пастернак
Откуда же берется миф? Почему вдруг примитивные люди так внезапно «поумнели», что стали создавать истории о происхождении не только своего племени, но и окружающего мира?
Мы с интересом рассматриваем позицию многих исследователей культуры, мифологов, религиоведов, которые полагают, что в начале человеческой истории, вполне возможно, состоялся Контакт, явление неких высокоразвитых существ (в данном случае, неважно – из космоса, из будущего, из параллельных реальностей или из сохранившихся на нашей планете центров древнейших земных цивилизаций и т.п.), которые пробудили в примитивных людях священный ужас, дикий страх, жгучее любопытство и безусловную покорность. Эти «пришельцы» стали Учителями, наставниками, помощниками, можно сказать, великими Режиссерами будущих цивилизаций.
Логика наших рассуждений проста и очевидна. Сегодня ученые доказали на исследованиях феральных детей (или детей- «маугли»), что ребенок не становится человеком, если он воспитывается вне человеческой культуры.28 Более того, если он до 3—5 лет не попадет в культурное поле, он никогда не сможет стать человеком! Он будет существом, воспринявшим биологическую программу тех животных, которые его воспитали (волки, обезьяны, козы, кошки и т.п.). С другой стороны, если обычный взрослый человек «выпадает» из культурного поля на срок примерно до 5 лет, он рискует перестать быть человеком (реальный случай матроса Александра Селькирка, ставшего прообразом Робинзона Крузо).
Таким образом, резкая трансформация культурного поля – под влиянием мощных энергетических воздействий представителей более развитой культуры – неизбежно приведет к формированию новых путей развития конкретного этноса.
Несомненно, нужно учитывать и непосредственное влияние космоса на человечество. Обратимся к классике – к гипотезе Л.Н.Гумилева о естественных причинах этногенеза, носящих космический характер, согласно которой люди, как часть биомассы и биологические существа, населяющие определенный географический ландшафт, периодически подвергаются мощным энергетическим воздействиям из космоса.
Сегодня подобная мысль не кажется фантастикой, поскольку в научной среде восприняты и успешно развиваются идеи А.Л.Чижевского, доказавшего, что одиннадцатилетние ритмы активности нашей звезды Солнца определяют биологические ритмы животных и растений, а также индивидуальные биоритмы людей и даже – глобальные социальные процессы.29
Приведем одно из важных научных положений, развивающих идеи русского космиста, которое приводится Элеонорой Чирковой в ее статье о современной гелиобиологии: «…длительности периодов биологических и солнечных ритмов совпадают, что позволяет говорить о связанности всех природных ритмов. Ведущими в этом ансамбле являются космические ритмы. От них зависят все остальные природные, в том числе, биологические, ритмы организма… /…/ Идентичность длин периодов биологических ритмов с ритмами изменения солнечной активности и волновыми периодами планет солнечной системы доказывает объективности существования поличастотной резонансной связи между волновыми процессами в Космосе и биологическими процессами на Земле. Вселенная представляет собой систему взаимосвязанных, взаимосогласованных и взаимообусловленных ритмов».30
Л.Н.Гумилев указывал на важное значение космической энергии, приходящей на планету Земля не только из ближнего космоса, но из нашей Галактики Млечный путь, а также из дальних энергетических источников во Вселенной. Ученый прямо называл космическую энергию третьим важным источником этногенеза, наряду с энергией Солнца и энергией распада радиоактивных элементов внутри Земли. Л.Н.Гумилев писал: «…третий вид энергии, который мы получаем небольшими порциями из космоса, – это пучки энергии, приходящие из Солнечной системы, иногда пробивающие ионосферу, достигающие дневной поверхности планеты и ударяющие нашу Землю, как, скажем, ударяют плеткой шарик, обхватывая какую-то часть ее, молниеносно производят свое энергетическое воздействие на биосферу, иногда большое, иногда малое. Приходят они более или менее редко, во всяком случае неритмично, в время от времени, но не учитывать их, оказывается, тоже невозможно».31
По предположению Л.Н.Гумилева, такие энергетические «удары» затрагивают относительно небольшие (в планетарных масштабах) географические пространства. Он приводил такие свои наблюдения за проявлением пассионарных «взрывов» или «толчков», связанных с космическими воздействиями: «Выделенные узкие полосы шириной около 300 км, тянущиеся то в меридианном, то в широтном направлении примерно на 0,5 окружности планеты, похожи на геодезические линии. Возникают толчки редко – 2 или 3 за 1000 лет и почти никогда не проходят по одному и тому же месту… Один и тот же толчок может создать несколько очагов повышенной пассионарности (и как следствие – несколько суперэтносов). Так, толчок VI задел Аравию, долину Инда, Южный Тибет, Северный Китай и Среднюю Японию. И во всех этих странах возникли этносы-ровесники, причем каждый из них имел оригинальные стереотипы и культуры».32
Л.Н.Гумилев, стремясь убедительно доказать свою гипотезу, рассматривал обозримый исторический период, опираясь на известный этнологический материал.
Мы вынуждены только предполагать, что за те десятки (или сотни?) тысяч лет, в течение которых люди существовали на африканском континенте, пучки космических энергий также ударяли по некоторым зонам, вызывая пассионарные «взрывы», отголоски которых слабо известны нам по сохранившимся мифам.
Каковы реальные результаты прямого воздействия космических «пучков энергии»? Проявляется пассионарность как «биохимическая энергия живого вещества биосферы, определяющая способность этнических коллективов совершать работу, наблюдаемую историками как их активность (миграционная, природопреобразовательная, военная, экономическая и т.д.)».33
Кроме того, происходят генные мутации, ведущие к резкому повышению интеллекта и творческой активности у некоторых индивидов в разной степени, включая появление пассионариев, людей энергоизбыточного типа. Повышение энергии проявляется в массовом изменении поведения людей, в первую очередь, под влиянием пассионарного воздействия или «заражения».
Рассмотрим несколько подробнее проблему первичных «контактов» или «пассионарного заражения» в формирующемся этносе, имея в виду, что далеко не все древние племена и довольно редко (максимум трижды в течение тысячи лет!) обретали такой уникальный опыт.
Если и были некие внешние пришельцы, они только способствовали «пассионарному взрыву», а фаза этнического подъема начиналась благодаря деятельности единиц из числа членов племени, кого мы называем «пассионариями». Это именно те индивиды, которые находились под непосредственным влиянием внешних культур- треггеров и/или обрели свои выдающиеся способности, благодаря космическому излучению. По определению Л. Гумилева, это люди, «…обладающие врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды».34
Даже принимая в расчет теорию палеоконтактов, роль племенных пассионариев не уменьшается, поскольку только исключительно выдающиеся люди могли максимально эффективно воспринять и плодотворно применить полученные знания. (По мнению одного из известных сторонников палеоконтактов, Захарии Ситчина, сами пришельцы с планеты Нибиру (аннунаки) создали мутантов, соединив свои гены с генами земных приматов. Это еще один вариант гипотезы о конкретном пассионарном взрыве, определившем формирование шумерских племен и затем – развитие шумерской цивилизации.35)
С началом неизбежной экспансии развивающегося этноса, с его захватом новых территорий (в случае шумеров – их приход из неизвестных мест на территорию нынешнего Ирака) и, соответственно, с воздействием на новые, по сравнению с пришлым этносом – более отсталые племена, были возможны всплески новых «пассионарных взрывов». И уже под влиянием пассионариев бурно развивающегося этноса оказывались все новые местные племена; по учению Гумилева, неизбежно создавался суперэтнос. Особенно это было возможно в акматической фазе развития пришлого этноса, когда разворачивалась борьба за лидерство между пассионариями в одном этносе, и некоторые из них, побежденные или не получившие должной поддержки среди одноплеменников, уходили в другие племена и становились там «застрельщиками» новых этногенезов. Или более слабые этносы покорялись более активным…
Еще один вариант: деятельность «культурных героев» – представителей прежних, древнейших и совершенно неизвестных ныне цивилизаций, которые могли передавать культурную эстафету новым, незрелым и примитивным племенам. Здесь, в первую очередь, мифы об Атлантиде, Гиперболее, материке Му… Об этом до наших времен сохранилось множество мифов, когда некие необычные люди или человекоподобные существа из океанов, морей, озер и рек становились «Учителями» некоторых племен во всех уголках Земли.
Наконец, можно обратиться к гипотезе Э. Р. Мулдашева о земном «генофонде», который, правда, тоже был создан в незапамятные времена некими космическими силами. По мысли известного исследователя и врача с мировым именем, в труднодоступных регионах нашей планеты (в горах, на дне океанов, в подземных пещерах и т. п,), находятся особые укрытия, где в состоянии «сомати»/ «самадхи» (анабиозе) в течение тысячелетий сохраняются представители всех возможных человеческих «рас», т.е. людей, способных обитать в самых различных средах: на земле, под землей, под водой… Когда на поверхности Земли происходит очередная катастрофа, «просыпаются» те виды людей, которые будут способны существовать в новых условиях жизни на Земле, и начинают новый виток развития человеческих цивилизаций.36
Для нашего исследования важно просто допустить, что некие невероятно развитые «первопредки» нынешних людей существовали. В монографии «Симфония человеческой культуры» подробно рассматривались особенности культурного поля, и мы исходили из аксиомы: «…человек может становиться и оставаться собственно человеческим существом только в среде себе подобных при обязательном условии разнообразных культурных взаимодействий».37
Также, повторим, мы привлекали значительный материал о так называемых «детях-маугли» («феральных детях»), которые в силу обстоятельств во младенчестве оказались в природной среде и воспитывались различными животными. Из более чем 100 случаев, когда человеческие дети попадали в природу и росли там, после их обнаружения и возвращения в культуру, НИ ОДИН из них человеком так и не стал! Человек может становиться, развиваться и оставаться человеком только в Культурном Поле, которое само по себе в Природе не возникает.
Итак, основной вывод ученых такой: человек как человек может формироваться только в человеческой культуре, причем при условии, что его реальное воспитание начнется не позже 3 – 4 лет. Иначе говоря, человеческий детеныш должен быть помещен в культурное поле. При отсутствии культурного напряжения, в среде животных человеческое существо может стать только животным, которое по достижении 4—5 летнего возраста уже никогда не сможет превратиться в человека.
В нашем контексте понятно, что культурное поле – это, в первую очередь, культурное напряжение, прямые и непосредственные энергетические взаимодействия человека с себе подобными и культурно значимыми предметами и объектами, а не просто физическое существование человеческого существа среди людей и материальных культурных объектов».38
Таким образом, человек, с нашей точки зрения, не мог ни самозародиться, ни самовоспитаться в культурное существо, ни самостоятельно развиться, чтобы задумать и создать цивилизацию. Вслед за Мирча Элиаде мы утверждаем: «Миф – это история о том, …что сделали боги или божественные существа в Начале Времен».39
Как известно, еще в III в. до н. э. Эвгемер выдвинул идею о том, что в мифических образах обожествлены реальные исторические персонажи. Однако вряд ли нашу концепцию можно назвать очередной вариацией «эвгемеризма» (которых в европейской культурной традиции существовало достаточно много), поскольку фигуры первых Учителей человечества мы можем обозначить лишь условно. Но мы можем предположить, что во Вселенной, наряду с непрерывным процессом «панспермии» существует и непрекращающийся процесс, если так можно сказать, «цивилизационной эстафеты», когда более развитые разумные существа помогают ускорить совершенствования менее развитым. Мысль далеко не новая, в наиболее яркой художественной форме она выражена в произведениях, например, братьев А. и Б. Стругацких, в частности, в романе «Трудно быть богом».
Мы убеждены в том, что миф появился вследствие реального соприкосновения (столкновения, Встречи) с Кем-то, безусловно и безоговорочно необыкновенным, необъяснимым, совершенным, знающим, по сравнению с человеком…
Как подчеркивал Е.М.Мелетинский, первопредок- культурный герой – это «…мифологический персонаж par excellence, особенно в архаических мифологиях, типологически строго соответствующий представлению о мифическом времени первотворения и моделирующий коллектив – носитель мифологических традиций – в целом».40
Мифы о первопредках
…глухое постоянство
Упрямых предков, нами никогда
Невиданное. Маятник столетий
Как сердце бьется в сердце у меня.
Чужие жизни и чужие смерти
Живут в чужих словах чужого дня.
/…/
Л.Н.Гумилев.
Из цикла «История»
Заметим, что первопредки – культурные герои приходили к людям, принося им, кроме практических знаний, также и сведения о высших создателях мироздания. В позднейших мифах первопредки могли сливаться с представлениями о непостижимых небесных богах, но также они могли ассоциироваться с образами известных земных животных (тотемизм).
Таким образом, в представлениях примитивных людей закладывалось изначальное смутное понимание иерархии – «верха и низа», Неба и Земли, цивилизованного и примитивного… Однако сохранялось и представление о рядоположенности и взаимодействии принципиально различных вещей и явлений – знающего и невежественного, сверхчеловеческого и человеческого, но также – человеческого и звериного, одушевленного и неодушевленного… Бесконечные вариации, «проигрывания» различных форм взаимодействий и соотношений составляют смысл большинства мифов
Эту мысль разворачивал Вальтер Отто: «Вилламовиц требует, чтобы базовым утверждением было: „Там присутствуют боги“. И его требование абсолютно справедливо и оправданно. Но более точно оно должно быть сформулировано так: „Там присутствует миф“. Ибо если боги „присутствуют“, если они реальны, но они не могут не иметь отличительных особенностей. При этом, однако, мы уже вполне находимся в мире мифа. И кто решится утверждать заранее, насколько велико многообразие особенностей, которые могут приписываться формам божества при первом их проявлении?»41
Первые Учителя зачастую не были человекоподобны. Древние предания описывают их необычный облик: у индийцев были змеевидные Наги, у древних китайцев – первые императоры в виде полулюдей-полузмей; вавилонян обучал получеловек-полурыба Оаннес; крылатый и пернатый змей Кетцалькоатль просвещал ацтеков и пр.
(Исключение составляют аннунаки из шумерских мифов, по существу, люди, отличавшиеся высоким ростом и феноменальным долгожительством42. Аннунаки, в отличие от «богов» других цивилизаций, добавив свои гены, сотворили или усовершенствовали людей, в прямом смысле слова, «по своему образу и подобию»).
Небесные «боги» непостижимым для людей образом сотворили мир, а затем первопредков и самих людей.
В определенном смысле, генетическое родство или, по крайней мере, биологическая близость между «богами» и людьми прослеживается в мифах многих народов. Так, в древнекитайском мифе в начале времен из первичного мирового яйца родился первочеловек Пань-Гу, после смерти которого из частей его тела образовался земной мир, а паразиты, жившие на его теле, превратились в людей. В древнеиндийских мифах люди появились из тела первочеловека Пуруши, наряду с сотворением мира из этого же тела.
Поскольку мы знаем уже довольно поздние интерпретации древних мифов, предположим, что древнейшие мифы описывают генетическое родство с богами, которое позже отразилось в тотемизме (когда земных животных или природные объекты ассоциировали одновременно и с воплощениями богов и с первопредками людей). Если предположить, что в некоторых случаях к примитивным племенам действительно являлись инопланетяне в образе неизвестных существ, то вполне естественно, что в дальнейших трансформациях древнейших мифов люди постепенно ассоциировали этих «неведомых зверей» с земными животными, отдаленно напоминающими первопредков. И в этом можно усматривать не столько стихийную идею о единстве человека и природы, сколько идею целостности бытия, нераздельности «священного и земного», «родного и вселенского» (по слову Вяч. И. Иванова). (О способах отражения этой смутной идеи в древней магии речь впереди, в подглавке 1.2. Древняя магия).
В позднейших мифах, когда с развитием культуры человек осознал непереходимую пропасть между людьми и богами, мифические боги создают людей из природных материалов, как бы подчеркивая их изначальную связь с природой, а не со священной/божественной реальностью. В этом плане характерен миф майя: боги Тепев и Кукумац, Созидательница и Творец, создали первых людей из дерева. Но у них не было души и разума, они передвигались на четвереньках, но главное – они не вспоминали и не почитали богов, своих создателей. Тогда боги послали на землю потоп и уничтожили большую часть деревянных людей (оставшиеся в живых превратились в обезьян). А затем боги нашли благодатные земли, где среди многих прекрасных и полезных растений росли белые и желтые кукурузные початки. Из маисовой муки боги замесили тесто и вылепили тела первых четырех людей.
В скандинавской мифологии первые люди созданы из деревьев; в некоторых древнегреческих мифах одних племен люди были созданы из камней, в мифах других греческих племен люди возникли из земли, а в мифах фиванцев люди произошли из зубов дракона, посеянных в землю… Возможно, подобные мифы создавались параллельно с созданием древних религий и являлись частью религиозных мифов.
Наставники человечества дали примитивным племенам новые навыки, небывалые растения и инструменты, основные представления о мире, которые легли в основу космогонических, теогонических и этногенетических мифов.
Необходимо подчеркнуть, что вторжение в первобытное существование высокоразвитых Учителей – это, несомненно, подлинный взрыв, в результате которого формировались этносы («пассионарный взрыв», по Л.Н.Гумилеву) и создавалась новая культура («взрыв в культуре», по Ю.М.Лотману). Подчеркнем, что новая этническая культура создавалась на основе освоения разнообразных инноваций, но также – формирования способов трансляции объемов знаний, заведомо превышающих способности примитивных людей. Вероятнее всего, система консервации и поэтапного раскрытия значительных объемов информации прилагалась, как сегодня инструкция к новому гаджету, в символической, мнемонической, знаковой и/или другой форме.
Здесь необходимо обратиться к основным выводам о формировании и принципах развития человеческой культуры, которые мы сделали в нашей монографии «Симфония человеческой культуры». Культура в своей основе носит заразительный, наведенный характер. На первых этапах становления, когда только формируются собственно человеческие, а затем и культурные эмоции, она носит прямо имитационный характер.43 Сегодня, например, многие обсуждают проблему зеркальных нейронов в мозгу человека, которые возбуждаются как при выполнении какого-то действия, так и при наблюдении выполнения действия другим существом. (Некоторые ученые называют открытие зеркальных нейронов самым главным событием в нейробиологии за последние десять лет.) Таким образом, на нейрофизиологическом уровне человек вынуждается невольно, автоматически имитировать чужое поведение, «отзеркаливать» чужие образы, действия, эмоции. Как доказывают Джакомо Риццолатти и Синигалья Коррадо, зеркально-нейронная система, которая также имеется у приматов и некоторых птиц, осуществляет внутреннюю проекцию других существ и их действий в наш мозг.44 В некоторых исследованиях студентам предлагали при затруднениях на экзаменах просто подумать о профессорах, и студенты становились умнее!
Говоря в целом, человеческая культура всегда строилась на имитации и обучении. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в культурах всех древних народов так или иначе сохраняется благодарная память о первопредках- Учителях.45
О двух уровнях мифов
<Душа> …молчит, – и внемлет крикам
И зрит далёкие миры,
Но в одиночестве двуликом
Готовит чудные дары.
Дары своим богам готовит
И, умащенная, в тиши,
Неустающим слухом ловит
Далекий зов другой души…
Блок А. А. Стихи о Прекрасной даме. 1901 г.
Итак, люди получили от первых Учителей то, что сами никогда не могли придумать, сделать, осуществить… А главное – Учителя дали невозможные для примитивных людей знания об Ином мире, который был недосягаем для людей, но, как оказалось, являлся частью целостного Бытия.
Шумерам было известно о строении Солнечной системы и ее формировании; о планете Нибиру, фактически невидимой с Земли, обращающейся вокруг Солнца по очень вытянутой орбите…46 Майя знали о создании Ориона и Звездных вратах; ацтеки о планете Венере… Древнейшие «обсерватории» поражают воображение современных ученых, которые не в состоянии объяснить те знания древних, которые недоступны и новейшей науке…
Разумно предположить, что колоссальный объем получаемых знаний для примитивных людей требовал довольно много времени и усилий для его усвоения. Не все члены племени в одинаковой степени успешно усваивали новые сведения, а главное – необходимо было создать систему трансляции знаний следующим поколениям. Некоторым племенам Учителя давали письменность (исследователи древних цивилизаций всегда подчеркивали поразительный факт – как бы внезапное появление развитой письменности у древних народов – шумеров, египтян, индийцев и т.д.47), в некоторых бесписьменных культурах складывалась устойчивая устная традиция (при этом создавались рисунки, пиктограммы, условные знаки, как правило, на стенах пещер).
Опыт поколений неизбежно привел к формированию двух систем передачи знаний – сакральной и профанной; первая, наиболее полная и сложная система знаний передавалась по линии жрецов (первых пассионариев в рядах формирующихся этносов), которые могли «подключаться» к достаточно высоким энергиям, а значит – получать, усваивать и кодировать более сложную информацию в значительных объемах. Профанная информация носила непосредственно практический характер и в доступной форме интерпретировалась в среде обычных членов племени.
Так на протяжении веков и тысячелетий в одном племени существовали две системы мифов – сакральные, сохранявшиеся жрецами, запретные для остальных членов племени, и профанные для обыденной жизни.
Сегодня известно о существовании жреческой «науки» в Древнем Вавилоне и Египте, у древних майя, индийцев, китайцев и т. д. Наиболее впечатляющим примером двух уровней древнего знания оказывается наличие двух календарей у народов с древней историей: два календаря у майя – жреческий Цолькин, 260- дневный Священный календарь, и Хааб, 365-дневный неточный солнечный. При комбинировании обоих календарей получался 52-летний цикл.48
Жрецы обладали не только знаниями, но и определенными умениями «перемещаться» из исторического времени в сакральное «Начало Времен» и, существуя в измерении Иного, «читать» особые символы и знаки, характеризующие виртуальную связь между сакральным и профанным. Эти знаки и символы являются поистине тайными, в первую очередь, потому, что для их постижения необходимо получить серьезную подготовку (посвящение) и освоить сложнейшие духовные практики. Но даже воспринятое знание будет содержать непостижимые для человеческого ума моменты, которые неизбежно придется принять как аксиомы.
Жреческая наука – это, в современных терминах, подлинно семиотическая система, о которых писал Ю.М.Лотман, система, в которой знак обретает значение только в результате соотнесенности с другими знаками той же системы, иначе говоря, их значения носят только реляционный, соотнесенный характер (как в алгебре или модернистской академической музыке).
Необходимые повседневные навыки и знания распространялись среди всех членов племени наглядно и доступно, в пра- художественной и игровой форме, главным образом, через обряд и ритуал. Определенные тайные знания, вносившиеся в общедоступной форме в коллективную практику, обычными аборигенами воспринимались нерефлективно, как необходимый ингредиент, передаваясь и обыгрываясь в ритуале, обряде, обычае; а по прошествии времени – в сказании, былине, сказке, фольклоре, как фантастический элемент.
Этнографы, осведомленные о делении мифов на сакральные и профанные, различают «мифы» и «сказки», однако зачастую в передаче этнического материала они смешивают сведения двух уровней мифов, в лучшем случае, интерпретируя их как варианты одной и той же традиции! Так дошедшие до нас фрагменты сакральных мифов, смешанные с профанными «сказками», «сказаниями» и «былинами», никак не проясняют, а только запутывают наше представление о миропонимании древних этносов.
Безусловно, содержание тайного знания древних жрецов, в особенности, передаваемое в изустной традиции, и до настоящего времени может оставаться недоступным широкому научному исследованию. Но сам факт сохранения древних традиций в течение тысячелетий оставляет надежду на то, что их современные адепты предпочтут привлечь в свои ряды скорее самоотверженных ученых, чем невежд и обывателей. Потому и сегодня те, кому необычные знания действительно необходимы для дальнейшего продвижения, их получат.
Представляется, что оба уровня древних мифов были напрямую связаны с начатками того, что мы сегодня называем магией. Некая «пра-магия» – это процесс освоения примитивными людьми полученных от Учителей знаний и навыков, которые никоим образом не могли быть ими «изобретены» и «придуманы», исходя из уровня примитивных умений. А главное – не существовало примитивных целей для подобной новаторской деятельности. Примитивным людям (включая их лидеров!) не были нужны пирамиды; гигантские рисунки в пустыне или тундре, невидные с земли; огромные каменные шары; колоссальные изваяния в горах и скалах; подводные циклопические сооружения и т. п. Примитивный человек всегда был практичным, выживающим, внеисторичным…
Обычный человек49 всегда (в том числе, в настоящее время) существует по принципу сохранения энергии и никогда не будет тратить ее на нужды, напрямую не связанные с сиюминутным выживанием. Для того, чтобы примитивный человек работал, тем более, на тяжелых работах (таскал камни, валил лес, переносил тяжести с места на место и т.д.), его нужно заставлять, настраивать, стимулировать, иногда – обманывать, вводить в состояние измененного сознания, в конце концов, подробно объяснять, что делать!
Создание и поддержание культурного поля требует организации, дисциплины, стремления к сформулированным идеалам. В древнейших этносах человеческое отделялось от звериного с помощью системы табу – запретов, ограничений, неукоснительно исполняемых правил, которые жестко навязывались без объяснений и рациональных аргументов. Многие табу были связаны с сакральными знаниями и в обыденной культуре воспринимались естественно, без пиетета, но и без страха. Так и сегодня обычный человек включает выключатель и пользуется электричеством, толком и не зная, что оно собой представляет…
Потребность в творчестве также привносилась извне, в процессе «окультуривания» человека, как человека. Творчество, как и освоение и применение небывалых знаний, иногда прямо навязывалось, и для того, чтобы «сдвинуть» примитивный ум, пробудить в нем стремление к новому и лучшему в себе и в окружающем мире, приучить инертного человека к самосовершенствованию, – для этого нужны особые культурные практики, регулярные «встряхивания» и «пробуждения» человека от полуживотного существования.
Такими стимулами50, средствами для прояснения человеческих целей и процедурами для закладки матриц духовной деятельности в обыденной жизни были в древнейшие времена коллективные «магические» действа; в позднейшие времена – мистерии и религиозные празднества; в дальнейшем – искусство (театр, архитектура, живопись). Эти стимулы основывались на особом возбуждении и развитии, в первую очередь, эмоциональной сферы, таким образом используя мощные энергии базовых и формирующихся человеческих эмоций. В подобных коллективных священнодействиях таинственное уже подчеркивалось, усиливалось, призванное вызывать священный ужас, невероятный восторг, глубокое удивление, в конце концов, сильнейшее потрясение, экстаз… Еще раз подчеркнем, и в древности, и в наши дни только таким образом создавалось и совершенствовалось, а затем – сохранялось новое этническое культурное поле.51
Пра-магия – это первые попытки рационализации знаний, полученных от Первых Учителей, и стремление увязать новые знания и умения с уже известными в целях выживания и совершенствования здешнего существования. Поэтому в магии на всем пути ее исторических трансформаций всегда был, есть и будет «фактор Х» – нечто необъяснимое (таинственное), что берется из неизвестного источника «в готовом виде» и «без объяснения» (более того, наоборот, навечно связано с некими запретами -табу), а требует неукоснительного исполнения по особому ритуалу. И этот «Х» – как главный ингредиент ритуала, предполагает непосредственную связь с таинственными силами, находящимися за пределами человеческого понимания и возможностей. В дальнейшей «высшей магии» упования связаны с Учителями и традицией контактов с Иным, а в народной магии помощь предполагается получить от «кураторов» в здешнем мире (духов, неизвестных сил природы, таинственных «помощников» и т.п.).
Пра-мистика формируется в процессе складывания и развития пра-магии; это, в первую очередь, эмоционально-интеллектуальное освоение полученных от Учителей представлений о возможности установления связей между здешним (понятным) и Иным (непостижимым, но реально существующим) мирами. Примитивный человек не мог стремиться в Иное, если он не знал (ему не рассказали!) о наличии этого мира. Скорее всего, пра-мистика была связана с сакральными традициями (шаманскими, жреческими и иными), изначально предполагая сохранение/поддержание тайны проникновения в Иное и осмотрительное применение полученных знаний.
Истоки пра-мистики – это результаты первого предельного эмоционального потрясения примитивного человека от соприкосновения с Первыми Учителями, а затем – поэтапный процесс критического переживания и формирования чувства Иного как принципиально непостижимого («нуминозного», по Р. Отто), невыразимого («Дао Дэ цзин» и «Иша упанишада») и незабываемого. В наших терминах речь идет об истоках «мистического чувства», которое, в сущности, есть непосредственное прочувствование целостности бытия и взаимопроникновения явного и тайного, видимого и скрытого, известного и таинственного. Процесс освоения особого целостного мироощущения всегда дается лишь единицам (мистикам), открытым высшим космическим энергиям. Даже среди жрецов, проходящих посвящение и обретающих тайное знание, далеко не все мистики. Гении и таланты «мистическое чувство» подменяют переживанием «творческого вдохновения», «научного озарения»; обычные люди – «религиозного экстаза», «эстетического восторга» и т.л., поскольку все немистические «экстазы» и «вдохновения» «работают» с низкими, а иногда и вовсе низшими энергиями (подробнее о мистическом чувстве см. далее – параграф 2.8.).
Уникальность каждого этно- культурного поля в разные исторические эпохи (с учетом различных фаз развития ведущих этносов52 в этно- энергетических сегментах единого культурного поля человечества) естественно предполагает неповторимость каждого взаимодействия с Иным (непостижимым, непознанным). Характерные особенности этих взаимодействий «читаются» в основополагающих мифах конкретной культуры, в первую очередь, космогонических и теогонических.
Миф как основа этнического культурного поля
Отселе мне видно потоков рожденье.
А.С.Пушкин
Миф в его профанном понимании – это результат коллективного ритуального действа определенного этноса, регулярно проводимого для социально-эмоционального сплочения сообщества. С развитием культуры формируются рационально- языковые и «нарративные» аспекты мифа, которые в гуманитарной науке долго (и с нашей точки зрения, ошибочно) считались первичными и основополагающими. В действительности, определяющую роль в жизни этносов играли ритуально- делательный и энергетический аспекты мифа.
С энергетической точки зрения, миф — это средство создания первичного культурного энергополя нового этноса как единого особого «эмоционального интеллекта».
Он формируется на основе фиксирования определенных эмоциональных «маркеров» у всех членов коллектива в ходе непосредственного исполнения совместных ритуалов и обрядов, соблюдения традиций и т. п. Только начиная с фазы подъема в развитии этноса, миф приобретает нарративную, символическую, художественную и т. д. формы, сохраняя мощный энерго- эмоциональный «заряд».
Не случайно древнейшие и первые мифы – космогонические и этногенетические, а позднейшие мифы – обыденные и праздничные; со временем все объединяются в единый комплекс и становятся традиционными и малообновляемыми…
Изначальный миф мы трактуем, вслед за М. Элиаде, как образцовую модель определенного этноса, сохраняемую как «повествование» о его священной истории, как раскрытие тайны Первых Учителей или первопредков. Как отмечал М. Элиаде: «…миф сродни онтологии: он повествует лишь о реальном, …что в полной мере проявилось. Разумеется, речь идет о священных реальностях, т.к. именно священное и является самой настоящей реальностью. Ничто из того, что входит в область мирского, не участвует в Бытии… Ни один бог, ни один Герой-основатель цивилизации никогда не открывал людям мирских актов. Все, что делали боги или Предки, …принадлежит священному, т.е. участвует в Бытии. Напротив, то, что делают люди по собственному разумению, без обращения к мифической модели, относится к сфере мирского, а это – деятельность пустая, иллюзорная и, в конечном счете, нереальная».53
В древнейших человеческих сообществах и цивилизациях взаимодействие с Иным предполагалось через воспроизведение мифа о появлении и деяниях первопредков человечества (или конкретного племени, сообщества, народа), через определенное действо. Отдельных понятий «миф», «магия», «мистика» тогда не существовало. При племенной организации сообщества в подобном действе участвовало все племя. Предполагалось, что каждый член племени мог «войти в контакт» с предками (как духами) и высшими божествами. Множество этнографических материалов доказывает, что в традиционных обществах, до сих пор сохранивших древнейшие обряды и ритуалы, в определенные моменты жизни общины проводятся массовые действа, в которых предполагается вхождение каждого из участников в так называемые «измененные состояния сознания», когда они «общаются» с «потусторонним миром».54 Эти состояния, обретаемые участниками в ходе коллективного действа, в современных терминах можно назвать состояниями «экстаза».
Как мы рассматривали выше, многие первобытные племена после того, как лишались непосредственного руководства Первых Учителей, ассоциировали их образы и продолжение земного присутствия с явлениями природы (далее мы напомним о первобытной «оборотнической логике», описанной А.Ф.Лосевым). Последующие поколения в этносах, знавшие об Учителях и первопредках только из мифов, вели свое начало от природных объектов: животных, птиц, земноводных, реже – деревьев, скал, которых в науке именуют «тотемами»55. Не случайно в известных нам (и в общечеловеческой истории довольно поздних) древнегреческих мифах боги часто оборачиваются животными: Зевс превращается в быка, чтобы похитить Европу; или в лебедя, чтобы обольстить Леду; Дионис превращается в плющ, а нимфы – в лавр, скалы, цветы и т. п.
Для того, чтобы трактовать конкретные примитивные мифы не с точки зрения общемирового развития, а исходя из развития самого этноса, рассмотрим диалектику мифов в соответствии с фазами этногенеза.
Диалектика мифов в аспекте этно-энергетической
концепции культурного поля
…Они живут, не возвратясь обратно
Туда, где смерть нашла их и взяла,
Хоть в книгах полустерты и невнятны
Их гневные, их страшные дела.
Они живут, туманя древней кровью
Пролитой и истлевшею давно
Доверчивых потомков изголовья.
Но всех прядет судьбы веретено
В один узор; и разговор столетий
Звучит как сердце, в сердце у меня.
Так я двусердый, я не встречу смерти
Живя в чужих словах, чужого дня.
Л.Н.Гумилев.
Из цикла «История»
Разрабатываемая нами этно- энергетическая концепция культурного поля56позволяет прояснить идею о деятельностно- ритуализированных основах коллективной жизни этноса, с одной стороны, и о значении духовно-эмоциональной составляющей в жизни этнической общности, с другой стороны.
Как известно, Л.Н.Гумилев представлял развитие этноса в его переходе от одной фазы к другой: после «пассионарного взрыва» (собственно, момента зарождения этноса) наступала фаза подъема, затем – высшая точка развития (акмэ), следом – фазы надлома, инерции, обскурации, гомеостаз и мемориальная фаза.57
Сущность культуры и духовной жизни, которую мы называем «культурным полем», составляют реальные эмоции в их проявлении и трансформации – от уровня биологически-базовых – через напряженные переживания – к насыщенным и более или менее рафинированным культурным чувствам; в энергетическом плане они составляют основной смысл и содержание человеческой культуры.
Миф – это реальная сфера существования этноса, формируемая в соответствии с закономерностями этнических фазовых переходов.
С энергетической точки зрения миф – это средство создания первичного культурного энергополя нового этноса, благодаря «огненной», пассионарной деятельности («взрыву»! ) талантов и гениев (фаза подъема – скрытого, а затем явного, – в этногенезе Л. Н. Гумилева58).
Пассионарный толчок, порождающий новый этнос, – как Большой взрыв, формирующий очередную Вселенную, – дает начало космогоническим мифам, создаваемым (или полученным от Учителей) пассионариями данного этноса и их ближайшим окружением. Они, часто вдохновляемые не только новой информацией от Первоисточника, но и солидарными этнокультурными полями, перерабатывают и/или дорабатывают устойчивые мифологические сюжеты, как правило, переименовывая (осваивая) центральных мифологических персонажей.
Этнос, возникающий в результате «пассионарного взрыва», переносит людей в «новую реальность», которая сначала не осознается в своей «инаковости», а интуитивно и деятельностно схватывается как миф. Именно о таком понимании мифа писал А. Ф. Лосев: «Миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная, действительность»59.
В первобытных племенах, в первую очередь, создавались космогонические мифы, которые ежегодно воспроизводились в специально разработанных ритуалах, повторяя (как естественно и жизненно необходимые действия) последовательность описанных в мифах космических событий. Миф, постепенно формируясь как магически-религиозное и творческое явление, еще не теряет своей непосредственной жизненности.
Как мы рассматривали выше, миф категорически отличается от «выдумки» и «фантазии», поскольку примитивные люди его воспринимают как подлинную реальность. Отношение к мифу – иррационально- обыденное, повышенно-эмоциональное и деятельностно- практическое. А главное – жизненно необходимое для всего племени и каждого его члена.
Для внешних наблюдателей этнических мифов, для исследователей через сотни и тысячи лет миф будет истолковываться символически, представляться особым типом мировоззрения и мировосприятия, или просто «выдумкой». Исходное эмоционально-деятельное этническое содержание конкретного древнего мифа не может быть понято извне никогда.
«Взрыв» примитивного существования не нужно представлять в виде благостной картины: Учителя с распростертыми объятьями идут навстречу аборигенам, которые благоговейно падают на колени и внимают звукам незнакомой речи, с готовностью открывая умы новым знаниям…
Древнейшие мифы различных народов представляют нам совершенно другие варианты возможных первых «контактов». Так, в мифах аранда и других центральноавстралийских племен рассказывается о тотемных предках, которые отправились на поиски родственников по священным «маршрутам», а в пути охотились, останавливались и совершали обряды, а затем, утомившись, уходили под землю, под воду и в скалы. Сегодня пути предков считаются священными местами для аборигенов, где они проводят свои обряды. По современным верованиям австралийских аборигенов, первопредки в образе диких котов и ящериц-мухоловок по пути своего следования увидели людей-личинок, беспомощно лежавших на скалах, выступающих из воды. Первопредки сделали им обрезание (совершив обряд инициации и окончательно превратив личинок в людей), научили добывать огонь трением, готовить пищу, дали копья и бумеранги, разделили людей на две фратрии, снабдили каждого человека персональной чурингой как вместилищем его души.60
Наш комментарий к этому мифу таков: тотемы аранда свидетельствуют о том, что мы имеем дело с довольно исторически поздними интерпретациями древних мифов, поскольку первопредки, скорее всего, представляли собой неизвестных в земной природе существ, которые со временем стали ассоциироваться с известными животными. Однако мотив «людей-личинок», беспомощных и полностью зависимых от природы, которым понадобился особый обряд обрезания, чтобы они стали людьми, активными и самостоятельными, да еще и одушевленными, – свидетельствует о сохранении памяти о культурообразующем значении первого контакта с первопредками.
Как отмечает Е.М.Мелетинский: «У племен Центральной Австралии и у палеоафриканских народностей (бушмены), отчасти у папуасов и некоторых групп американских индейцев мифические герои – это тотемные предки, т.е. прародители или создатели одновременно как определенной группы животных (реже – растений), так и человеческой родовой группы, которая рассматривает данную породу животных в качестве своей „плоти“, т.е. своих родичей, тотема».61
Здесь мы также видим развитие древнейшего мифа, который самих прародителей еще не определяет как известных животных, а утверждает единство созданных ими земных существ через указание на прямое кровное родство. Таким образом, первопредки людей в древнейших мифах – не люди, по крайней мере, – не похожи на людей, но имеют к их созданию прямое отношение, при этом наделяя аборигенов обычаями, знаниями и орудиями, т.е. основами человеческой культуры.
Во время традиционных праздников члены примитивных племен надевали специальные костюмы, имитировали повадки и особенности своих тотемов, которые часто совсем не похожи на земных животных или весьма отдаленно их напоминают. Аборигены танцевали особые танцы под ударные инструменты (там- тамы, барабаны), вводя себя в исступление, завершая действо, как правило, кровавыми жертвоприношениями (в том числе, человеческими). Таким образом, по воззрениям дикарей, устанавливалась прямая «связь» между тотемом и членами племени, связь, в современных терминах, скорее, «магическая», нежели «мистическая».
В наиболее архаичных мифах сохранились сведения о первопредках- близнецах, один из которых невероятно злой, а другой – добрый. Активная стимуляция умственной активности и культурной деятельности, скорее всего, была связана с некоторыми формами внешнего насилия и жестокости, когда угроза выживанию полуживотной общины вынуждала совершенствоваться, учиться противостоять небывалой угрозе, сплачиваться вокруг стихийных лидеров, пассионариев из среды общины, в конечном счете, и создающих этнос. (Подобная мысль об истоках человеческой цивилизации, как известно, характерна для А. Тойнби. Он прямо писал о Вызове (Вопрошании) Бога (божественного Логоса), к человечеству, Вызове, выраженном на историческом уровне в виде природного, социального или иного испытания.62)
Память о злом первопредке часто ассоциируется с первосозданием мира и онтологической противоположностью Бытия – Хаосом, Мраком, Злом (в противовес Космосу, Свету, Добру, которые затем олицетворяются во втором близнеце). Злой первопредок, как правило, ничему не учит и зачастую требует кровавых жертв, включая человеческие. Он воспринимается как первичная беспощадная стихия, которая приносит серьезные беды и испытания своему доброму близнецу. (Наиболее известен образ древнеегипетского Сета, не только ассоциируемого с жестоким песчаным ураганом пустыни – самумом, но и с убийством своего брата Осириса, которого, как известно из мифа, Сет даже разрубил на куски и разбросал по всему Египту). Злой первопредок также наделяется невероятной хитростью и способностью к превращениям, обману, изобретательным трюкам (в позднейших мифах возникает отдельный образ трикстера, в конце концов, в религиозных мифах цивилизованных народов – образ дьявола, шайтана, демона…).
Добрый первопредок – подлинный Учитель, часто – спаситель человечества. (Шумерский Энлиль, в противоположности злому Энки; египетский Озирис и его брат Сет…)
В древней мифологии тунгусов и некоторых других народов Сибири встречаются соперничающие братья-демиурги, из которых старший портит сделанное младшим; в их характеристиках много общего с мифическими меланезийскими братьями То Кабинана и То Карвуву. Причем тунгусские персонажи представлялись не фратриальными (этническими) предками, а космическими хозяевами верхнего и нижнего миров. У обских угров верхний и нижний хозяева (Нуми-Торум и Хуль-Отыр) также выступают в качестве пары братьев-демиургов. Но главный герой обско-угорской мифологии – это Эква-Пырищ, имеющий зооморфную ипостась (гусь или заяц) и являющийся сыном родоначальницы фракции мос гусыни Калдащ. Эква-Пырищ спущен с неба на землю, чтобы руководить людьми.
Е.М.Мелетинский отмечал: «Такой двойственный персонаж, как культурный герой (демиург) – трикстер, сочетает в одном лице пафос упорядочивания формирующегося социума и космоса и выражение его дезорганизации и его неупорядоченного состояния. Это противоречивое сочетание возможно в силу того, что действие в соответствующих сказочно-мифологических циклах отнесено ко времени до установления строгого миропорядка, т.е. к мифическому времени. Следует при этом учесть, что деятельность отрицательного варианта культурного героя (типа То Карвуву в Меланезии) или трикстера типа Ворона тоже в сущности парадигматична, поскольку она предопределяет негативные явления и профанные действия, совершающиеся в позднейшие времена».63
В некоторых мифологиях оба брата способны на злые и добрые дела, а главное – они оба приносят людям пользу. В карело-финской мифологии известны братья, из которых Вяйнямейнен, видимо, архаический герой, похищающий у хозяйки Севера небесные светила и некое чудесное «сампо»; он находит огонь в чреве рыбы и делает музыкальный инструмент из рыбных костей. Второй брат, Ильмаринен, хотя и имеет некоторое отношение к небесным светилам и таинственному «сампо», – он демиург-кузнец, развивающий материальную культуру, изготовляя плуг и другие орудия труда.
Как отмечает Е. Мелетинский, «В Северной Америке, где представление о мифическом времени весьма отчетливо, культурный герой-демиург с реликтовыми чертами тотемического предка остается центральной фигурой мифологии, причем в западной части Североамериканского континента ему наряду с серьезными творческими деяниями приписываются и плутовские проделки, т.е. культурный герой является одновременно трикстером».64
Представляется, что двойственность предка-демиурга и Учителя уже в древнейших мифах свидетельствовала о понимании аборигенами одновременно – родственности (или по крайней мере, некой теснейшей связи) людей с первопредками, а с другой – о коренных и существенных различиях как между различными первопредками, так и предками и людьми.
Формирование нового социума и нового миропонимания вело человечество к осознанию важнейших противоположностей мира и культуры, которые, с одной стороны, образуют некие рамки или отправные моменты явлений и вещей (Небо- Земля, жизнь- смерть, суша- море, зима-лето; а также: верх-низ, пресное- соленое, мужское- женское, сухое- влажное), с другой – могут быть объединены (как, например, в образе трикстера – Ворона, Лиса, Койота и т.п.).
Судя по всему, первопредки, обеспечив «взрыв» этноса и начало его подъема, отбывают восвояси, как правило, обещая вернуться. При желании, можно обнаружить в мифах многих народов воспоминания об отбытии первопредков и Учителей.
Память о первых Учителях сохранялась в традиционных мифах веками и тысячелетиями. Как известно, конкиста в Латинской Америке началась с недоразумения – майя и инки приняли высадившихся испанцев за своих богов, когда-то давших этим племенам культуру и обещавших вернуться…
На этапе подъема этноса, когда пассионарии сформированного этноса проявляют чудеса отваги, интеллекта, новаторской деятельности, социального творчества и т.д., о них начинают складываться героические мифы, в которых пассионарии предстают выдающимися людьми, гениями, образцами для подражания соплеменникам.
Подобные мифы А. Ф. Лосев раскрывает как «синтетическую жизненность», состоящую из живых личностей. Мифы предстают как особая реальность, эмоционально насыщенная, но практическая и особым образом словесно сформулированная. Лосев писал в «Диалектике мифа»: «Миф насыщен эмоциями и реальными жизненными переживаниями; он, например, олицетворяет, чтит или ненавидит, злобствует»65.
Пассионарии, конечно, не так таинственны, как первопредки, но обычных людей в них все равно поражает неистощимая энергия, невероятные таланты и, конечно, невиданные культурные достижения.
«Великая Тайна» начала времен уступает место тайне человека, столь же манящей, иногда – пугающей, но непреходящей.
Этнос расцветает, мифотворчество порождает разнообразный фольклор, развиваются различные стороны экономической, политической и художественной жизни.
Тайное знание уходит на второй план, хотя продолжает играть существенную роль в жизни социума, транслируясь в тайных сообществах устно; если появляется письменность и система образования, тайное знание передается по новым линиям преемственности – с использованием собственного языка (так, наиболее известно, что в Древнем Египте письменность существовала с рубежа IV-го и III-го тысячелетий до н.э. – иероглифика (егип. mdw nTr, «маду нетчер» – слова бога). В иероглифике было две системы письма: в жреческой касте – книжная иератика, использовавшаяся для религиозных и литературных текстов, и иератика, которую использовали писцы для хозяйственных документов и писем. Около 700 г. до н.э. появилось народное, демотическое письмо).
В Древней Индии святые риши, хранители древнейших знаний, создают сначала устную традицию передачи священных знаний. Затем формируется «санскрит» – «совершенный язык», начинавшийся с наскальной эпиграфики, а затем ставший языком интеллектуальной и религиозной элиты (варны- касты брахманов), создававшей классические религиозные тексты (в первую очередь, «Ригведу», а затем «Сомаведу», «Яджурведу». Как мы увидим ниже, примыкающая к классическим текстам «Атхарваведа» своим источником имеет, преимущественно, магическую практику). На основе санскрита значительно позже формируются языки индоевропейской группы.
В акматической фазе этногенеза, миф формируется в целостном этносе на основе фиксирования определенных эмоциональных «маркеров» у всех членов коллектива, как правило, в ходе регулярного и непосредственного исполнения совместных ритуалов и обрядов, соблюдения традиций и т. п. Миф сохраняется в форме особого единого эмоционального интеллекта и основы менталитета этноса66.
Главное положительное качество мифа состоит в том, что без него невозможна адаптация человека к постоянно изменяющейся природе и социальной среде. Миф во все эпохи поддерживал человека в разнообразных формах борьбы за существование. В древности вера в потусторонние или божественные силы помогала переносить земные невзгоды. Кроме того, именно через мифы люди усваивали важнейшие нравственные, социальные и экологические нормы.
Когда материальные (природные и искусственные) объекты конкретного культурного ареала очевидны и освоены этносом, то духовные, в первую очередь, эмоционально- психологические особенности людей, формируемые культурным полем, проявляются только опосредованно – через язык, нормы, традиции, стереотипы, структуры поведения в определенных ситуациях, технологиях деятельности и т. п.
Здесь начинает формироваться то, что А.Ф.Лосев называет «абсолютной мифологией», которая, по его определению, «существует как единственно возможная картина мира», и в ней «ни один принцип ее не подвергается никакому ущербу»67. Эта «абсолютная мифология», перерастая «основные и примитивные моменты», развивается уже по собственным законам, в противоречивом взаимодействии с мифологией «относительной». В нашем контексте можно говорить о жреческой (абсолютной) и профанной (относительной) мифологии.
Иными словами, начиная с акматической фазы этногенеза, миф приобретает нарративную, символическую, художественную и т. д. формы, сохраняя мощный эмоциональный «заряд». Пассионарии между собой разворачивают смертельные схватки, начинают героически гибнуть и пополнять эпос трагическими сюжетами. Этот момент хорошо схвачен у А. Ф. Лосева: «Личность берется в мифе исторически, а из ее истории берется вся словесная стихия. … Кратко: миф есть в словах данная личностная история»68.
Если снова вспомнить об эвгемеризме, то здесь он вполне может быть применен к процессу превращения пассионария в народного героя и главное действующее лицо этнического фольклора. Гэсер и Илья- Муромец, Рама и Ши Хуан Ди, Чингиз-хан и Ермак Тимофеевич и т. д. и т. п.
В фазах надлома и инерции, когда кардинально меняется отношение к героическим пассионариям «первого призыва», и на историческую сцену выходят приспособленцы и эгоисты, попирающие высокие идеалы этнического расцвета, мифы приобретают идеологическую роль. Большая часть символических и художественных мифов целенаправленно трансформируются в социально-политические. Здесь возникают представления не только о метафизичности и религиозности, но и схематичности, и даже – догматичности мифа, против чего резко выступал А.Ф.Лосев. Он подчеркивал, что миф всегда был и оставался «чудом»: «Миф есть в словах данная ч у д е с н а я личностная история»69. Для нас очевидно, что само понятие «чуда» раскрыло свои глубинные смыслы при рассмотрении того этапа этногенеза, когда рушатся высокие идеалы, и этнос переходит из состояния роста и совершенствования – в период угасания и стагнации. Для большинства членов этноса творчество небывалой чудесной реальности превратилось в прозу унылого выживания; чудо, потеряв вдохновенную осязательность, превратилось в несбыточную мечту. Только гении и таланты в своем жизнетворчестве способны сохранять и осознание, и ощущение, и действенность того, что для остальных представлялось недостижимым и уже несовместимым с обыденностью «чудом».
Давно известный мифологам феномен «параллельной мифологии»70, по существу, является одновременно доказательством прохождения единообразных фаз в трансформации мифов (связанных с фазами этногенеза), и подтверждением тесных межэтнических связей, определяющих единство человечества. Этносы, находящиеся в фазах надлома и инерции, стремятся передать новым поднимающимся этносам наработанные универсальные ценности. Но они, безусловно, будут перетолкованы и приспособлены к другому этнокультурному полю и могут лишь отдаленно напоминать свой источник (как правило, также в свое время полученный от предшествующих и исчезнувших этносов и их древнейших Учителей).
Так, общеизвестна преемственность многих древнеегипетских мифов в древнегреческой культуре. Хотя многочисленные древнеегипетские боги не стали основой древнегреческого пантеона; при этом основные сюжеты, распределение функций богов и целый ряд магических практик были перенесены из мифов Древнего Египта в мифы и религию Древней Греции.
Наконец, в фазе обскурации, а затем и в мемориальной фазе миф превращается в этническое «воспоминание», один из важнейших символов данного этноса, его отличительный культурный «знак».
Таким образом, с развитием этноса, в фазах его угасания, пытаясь сохранить «основы основ» коллективной жизни, страстные гении и таланты, духовно- энергетичные наследники зачинателей этноса, в «едином полном слове» первых пассионариев выделяли, по необходимости, «слово-понятие» и «слово-образ», утрачивая безвозвратно эмоционально-волевую составляющую деятельности «человека жизни». Ту составляющую, которая была непосредственно связана с реальными поступками «сплошь ответственного» пассионария71.
В поздних мифах часто действуют не герои- пассионарии, а боги и духи, которым «передается» недостижимый для обычного члена умирающего этноса энергетический заряд созидания, творческая мощь, отражаемые в подробно описываемых действиях богов. Еще и поэтому миф – это всегда «чудо», непостижимое энергетически слабому, инертному обывателю, но необходимое ему для жизненного переживания причастности своему этносу.
В то же время, по мере удаления от истоков формирования этноса, уже не героям- пассионариям приписывались «сверхъестественные» способности и качества, а обычные люди предпочитали приписывать богам обыкновенные и часто – неблаговидные человеческие действия и страсти. Так, еще основатель Элейской школы, Ксенофан Колофонский осуждал Гомера и Гесиода, возражая против антропоморфизма олимпийских богов72. Ксенофан, чтобы подчеркнуть несопоставимость «священного» и «профанного», даже выдвинул идею о существовании единого бога, категорически не похожего на смертных, – вечного, шарообразного и неподвижного73.
О современном племени пираха, существующем
в мемориальной фазе этногенеза
Так говорил мне призрак лунный:
«Нам в смерти жизнь – Судьба судила».
В.Я.Брюсов. Атлантида
Сегодня изучение диких племен в «затерянных мирах» на всех континентах дает нам удивительный материал по древней мифологии. Мемориальную фазу существования реального южноамериканского этноса мы можем конкретно рассмотреть, благодаря современным исследователям.
Уникальное племя индейцев пираха, живущее сегодня в Бразилии, в амазонских джунглях, существует в гармонии с природой, не имеет религии, календаря, собственности, развитых орудий труда, занимается охотой и собирательством. Для пираха нет различия между днем и ночью, потому что они почти не спят. В их языке нет числительных, обозначения различных цветов, понятия «право» и «лево», «верх» и «низ», сложных предложений.
Американский исследователь Дэниел Эверетт изучал племя пираха 30 лет. Он выявил некий принцип «ибипио», характерный для культуры пираха: говорить исключительно о непосредственно виденном и слышанном, включая сны, которые считаются действительными событиями. С наличием принципа ибипио Эверетт связывает тот факт, что у пираха нет числительных, поскольку числа абстрактны и предполагают классификацию предметов в обобщенном виде, а обобщения выходят за пределы эмпирического опыта. Пираха не хранят пищу, не планируют больше, чем на день, не обсуждают далекое будущее или прошлое.
Свои «мифы» индейцы излагают необычно. Эверетт замечает: «Пираха незнаком художественный вымысел. <…> у пираха все же есть истории, которые сплачивают людей, как и в любом другом обществе. Однако …на момент рассказывания мифа должны быть живы его свидетели».74
Можно ли в принципе назвать «мифами» те истории, которые создают основу культурного поля пираха? Безусловно, да, но это необычные мифы не прошлого, а настоящего, в котором индейцы «здесь и сейчас» реально существуют.
Эверетт с недоумением отмечает: «Однако если все мифы индейцев пираха должны передавать непосредственный опыт, то священные писания многих мировых религий – Библию, Коран, Веды – нельзя перевести на язык пираха, нельзя даже поговорить о них на этом языке, потому что в них рассказываются истории, которым нет живых свидетелей. Это главная причина, по которой вот уже почти три сотни лет миссионеры никак не могут изменить верования пираха».75
Трудно представить, но у индейцев пираха нет космогонических мифов и нет народных сказок, есть только рассказы из повседневной жизни и простые бытовые беседы. Эверетт недоумевает, что у индейцев пираха нет представления о верховном божестве, боге-творце, что они не различают небо и землю, а для них – это «верхняя» и «нижняя» части единого мира, и вселенная подобна слоеному пирогу: есть миры над небом и миры под землей.
Эверетт сообщает: «Обитателей других слоев также могут увидеть: эти существа пересекают верхнюю границу – спускаются с неба и ходят по джунглям. Пираха время от времени находят их следы. Иногда, если верить очевидцам, они видят и самих этих пришельцев – призрачные тени в темноте леса».76
Для мифологов здесь нет ничего удивительного и нового, вполне традиционная космология для примитивных племен. Но у пираха нет ничего «сверхъестественного», ничего за пределами их маленького материального мира, в котором все рядом и «овеществлено». Эверетт подчеркивает: «Они верят в отдельных духов, но при этом верят, что встречают их лично и регулярно».77 Аборигены ежедневно общаются с «духами», которые могут быть материальными предметами, животными или людьми, а также нематериальными сущностями. У индейцев духи делятся на две группы – «с кровью» («ибииси») и бескровные («ибиисихиаба»). Основные духи пираха – «каоаибоги» («быстрый рот»). Как отмечает Эверетт: «Этот дух приносит племени как добро, так и зло. Он может как убить, так и помочь советом – как захочет». Множество других духов имеют другие наименования, а их общее обозначение – «капиоиаи» («оно чужое»)».78
Примерно раз в 7 лет (напоминаем, у пираха нет календаря) они меняют имя, потому что считают, что по прошествии времени каждый из них уже не тот, что раньше. Примечательно, что если индеец встречает духа, то дух может поменять человеку имя, потому что после этой встречи человек кардинально изменился.
Эверетт приводит очень характерный случай: «Часто в дождливые ночи над джунглями возле селения пираха разносится высокий пронзительный голос. Мне он напоминает какие-то потусторонние голоса, а индейцы в селении все как один считают, что это «каоаибоги» – быстрый рот. Этот голос дает советы жителям селения: что делать назавтра, что угрожает им ночью (ягуары, другие духи, нападения соседних племен). <…> Как-то раз я решил сходить посмотреть на «каоаибоги». Я пошел от селения на голос, метров тридцать по подлеску. Оказалось, что пронзительный фальцет принадлежал Агаби (Xagabi) – индейцу из селения Пекиал (Pequial), который, как все знали, очень интересовался духами.
– Можно тебя записать? – спросил я; я не знал, как он среагирует, но имел основания предполагать, что не откажет.
– Давай, пожалуйста, ответил он немедленно своим обычным голосом. Я записал минут десять монолога «каоаибоги» и вернулся к себе.
Наутро я пошел к нему в дом и спросил:
– Скажи, Агаби, а почему ты разговаривал голосом «каоаибоги» ночью?
Он как будто удивился.
– А ночью был «каоаибоги»? Я не слышал. Меня и в селении не было».79
Еще более показательным был другой случай. Дэн Эверетт и его друг Питер Гордон, также изучавший племя пираха, были приглашены туземцем по имени Исаоои на вечернее «явление духа».
Дэн и Питер пришли в поселение индейцев, когда уже стемнело. На бревнах лицом к джунглям сидели индейцы.
Эверетт пишет: «Спустя некоторое время… мы с Питером услышали высокий голос и увидели, как из джунглей вышел мужчина в женской одежде. Это был Исаоои, одетый как одна недавно умершая женщина из племени. Он говорил фальцетом, чтобы показать речь женщины. На голове у него был платок, имитирующий длинные волосы, которые женщины в племени носят зачесанными назад. Одет он («она») был в платье.
Персонаж, воплощаемый Исаоои, говорил, как холодно и темно под землей, где женщина похоронена. Она рассказывала, каково это – умирать, как под землей она видит множество духов. Дух, «вызванный» Исаоои, говорил в ритме, который отличался от обычной речи на языке пираха, распределяя слоги в группы по два (двусложные стопы), а не по три (трехсложные), как в повседневной речи. <…> Через несколько минут мы снова услышали Исаоои – на сей раз он говорил низким грубым голосом. «Зрители» засмеялись. Сейчас появится всем знакомый проказливый дух. И вдруг Исаоои выпрыгнул из джунглей – голый, колотя по земле большим бревном. Стуча им по земле, он заговорил о том, как он побьет любого, кто встанет у него на пути, как он никого не боится…
Выходит, мы с Питером открыли театр пираха! Но, конечно, так это мог понять только я, чужак; сами индейцы никогда бы это зрелище так не назвали, несмотря на то что оно выполняло для них именно функцию театра. Для них это было явление духов. Они даже не обращались к Исаоои по имени – только по имени духов.
То, что нам показали – это не шаманизм, потому что у пираха не только один человек мог общаться с духами. Некоторые участвовали в представлении чаще других, но вообще говорить от лица духа таким образом мог любой мужчина в племени, и за годы, проведенные у пираха, я застал в этой роли почти каждого мужчину.
Наутро, когда мы с Питером попытались рассказать Исаоои, как нам понравилась встреча с духами, он, как и Агаби, заявил, что ничего об этом не знает и что его там вообще не было».80
Мы не будем анализировать комментарии Дэна Эверетта, неудавшегося миссионера, который сам оказался под сильным влиянием индейцев и стал атеистом. А потом, увлекшись исследованиями их языка, получил диплом лингвиста и стал известным профессором в этой области. Но даже если бы он был профессиональным антропологом или этнографом, мы все равно оценили бы только его трезвый исследовательский взгляд и постоянную память о том, что у индейцев совершенно необычное миропонимание, которое не перестанет его, западного человека, поражать и заставлять переоценивать многие, казалось бы, очевидные вещи.
Предлагаем комментарий с позиций нашей этно-энергетической концепции культуры. Во-первых, пираха находятся на мемориальной, завершающей стадии этногенеза. Относительно природной среды они находятся в состоянии гомеостаза. Можно сказать, что они живут как бы в «законсервированном» культурном поле, энергетически выродившемся, утерявшем многие прошлые культурные достижения. Об этом говорит поразительный факт того, что жизнь племени происходит исключительно в настоящем, с забвением прошлого и нежеланием предполагать будущее. Это яркий пример «конца истории» этноса.
Мир пираха настолько завершен для и них и удобен, что они в принципе не хотят получать никакой новой информации. Эверетт приводит случай, когда он хотел научить жителей селения элементарному арифметическому счету, который, в действительности, был им жизненно необходим, поскольку индейцы продавали рыбу речным торговцам и хотели быть уверены, что их не обманывают. Восемь месяцев вся семья Эверетт ежедневно проводила занятия (Дэниел и его жена Керен в роли учителей и их трое маленьких детей, трех, шести и девяти лет, в качестве учеников, наряду с индейцами). Все члены племени выразили желание учиться. И ни один индеец за восемь месяцев не научился считать даже до десяти!
Эверетт объясняет этот поразительный факт так: «… я считаю, что одним из важнейших факторов стало то, что они, в общем, не ценят знания бразильцев (и американцев тоже). И даже активно сопротивляются проникновению этой информации в их жизнь. Они спрашивают о чужих культурах в основном, чтобы посмеяться».81
При этом исследователь рассказывает об индейце Каабооги, который убил пантеру ружьем, подаренным Эвереттом. Значит, для усовершенствования навыков охоты индеец был способен овладеть ранее неведомым для него оружием, а научиться считать до десяти не смог!
Эверетт выявил некий принцип непосредственного восприятия и переживания наличного момента, как единственного и неповторимого, но он не мог сам перестроить свое восприятие жизни по образцу миропонимания аборигенов. И бесконечно недоумевал, почему индеец «записывал» разные события дня на выданной ему (по его же просьбе бумаге) одними и теми же кружочками. А ведь для пираха каждый кружочек – другой; при этом если индейца просили нарисовать два полностью одинаковых знака, он не мог этого сделать.
Итак, пираха – на редкость самодостаточны в своем мирке; они существуют в режиме максимальной экономии энергии и абсолютно невосприимчивы к любой новой абстрактной информации, не касающейся их непосредственно здесь и сейчас. Возможно, речь идет о некоем феномене почти полной «культурной амнезии», когда остается только некий комплекс полубессознательных приспособительных навыков в ограниченном мирке, на фоне полустертых общих и смутных представлений о мире за пределами этнического ареала.
Как выяснили антропологи, пираха являются поздними наследниками целого ряда древних племен в своем регионе; они как бы осколок былого величия древних этносов. Но в полном соответствии с концепцией этногенеза, у пираха, как племени, находящемся в завершающей, «предсмертной» фазе этногенеза, как и предполагал Л. Н. Гумилев, «…по уходе пассионариев из популяции там остается много людей, еще больше вещей и некоторое количество идей. Так культура, как свет угасшей звезды, обманывает наблюдателя, принимающего видимое за существующее».82
Соответственно, нельзя согласиться с А.Д.Кошелевым, обратившим внимание на язык пираха и считающим, что он находится в начальной стадии своего развития.83 Наоборот, язык пираха – это выродившийся язык, и он «застыл» на этапе максимально возможной деградации, если учесть, что язык все-таки живой и отражает нынешний упадок этнической культуры. (При этом, учитывая взаимодействие пираха с другими племенами и все более тесные контакты с людьми современной западной цивилизации, вполне возможны неожиданные формы «оживления» этого этнокультурного поля, подпитываемого какими-то внешними энергиями.)
Во-вторых, нынешнее отсутствие религии и даже каких-то определенных шаманских культов говорит только о поразительной интеллектуальной скудности, остановке, а точнее, затянувшейся духовной дряхлости целого этноса, который, как древний старик, потерял память о прошлом и мало-мальскую способность предвидеть будущее, концентрируя иссякающие силы на сиюминутных потребностях.
Эверетт прав, отмечая, что у пираха нет шаманизма; и с нашей точки зрения – это закономерно, потому что шаманизм (напомним, по Элиаде, «архаическая техника экстаза») принципиально невозможен у инертных и ограниченных представителей этноса, почти полностью исчерпавших свой энергетический ресурс, а главное – потерявших не то, что связь с богами, но даже память о них!
Антропологи обратили внимание на уникальную способность членов племени – не спать, фактически, сутками. Индейцам достаточно прикорнуть на 15—20 минут где придется, и потом они могут снова сутки не спать. (Судя по названию книги, Эверетт пытался найти рациональное объяснение этому феномену – боязнь змей. Но эта версия не выдерживает критики, поскольку повсюду в Амазонии множество змей, не говоря уже о Юго-Восточной Азии, Африке или Австралии, где змей тоже много, но подобные способности не встречаются у множества племен, ведущих примитивных образ жизни.) Ученых эта способность поразила настолько, что организованы специальные исследования, предполагающие, судя по всему, и специальный анализ работы мозга индейцев.
С точки зрения нашей концепции об определяющем значении эмоций для формирования и поддержания этнокультурного поля интересно отметить, что некоторые наблюдатели считают эту способность пираха (не спать и при этом сохранять здоровье и работоспособность) полным отсутствием отрицательных эмоций и умением сберегать эмоциональную энергию. Однако Эверетт описывает и нападение леопардов на людей (которое трудно представить без боли и стресса), и детское беззаботное веселье, и страхи жителей поселка перед возможным нападением вражеского племени… Иначе говоря, речь идет о наличии достаточного объема базовых и культурных эмоций для поддержания бытовой солидарности и устоявшегося образа жизни членов племени. Нет и намека на некое бесстрастное состояние, отдаленно напоминающее философскую «апатейю» древних греков, а есть все основания предполагать, что мы имеем дело с реликтом особых психологических практик, сохраненных в нынешней умирающей культуре бессознательно, как драгоценное свидетельство высоких достижений великих предков нынешних индейцев. Потому можно согласиться с тем, что индейцы умеют хорошо контролировать свое внутреннее состояние, сосредоточившись на сиюминутных проблемах, без воспоминаний о прошлом и волнений о будущем, к тому же поддерживая реальную гармонию во взаимоотношениях с природой. Современные психотерапевты и западных людей могут на время вводить в подобное «измененное состояние сознания», которое для индейцев является, на самом деле, единственно возможным в процессе выживания.
Понятно, что полное забвение своей истории и древних традиций и не может предполагать ни мифологии, ни религии, ни ритуалов, ни художественной культуры, ни реальных форм какого бы то ни было творчества в пределах данного культурного поля.
Жизнь примитивного племени пираха опровергает основы структурной типологии мифов, в которой, по мысли Клода Леви-Стросса, «мифологическая мысль не заботится о законченности: всегда остается что-то, что можно было бы дополнить. Как и ритуалы, мифы бесконечны».84 У пираха и ритуалы, и мифы отсутствуют, потому что некогда они закончились, по крайней мере, в том смысле, как их понимают в традиционной этнографии и культурологии (как бесконечный творческий процесс). И если, с точки зрения структурной культурологии, это невозможно, с позиции нашей этно- энергетической концепции – закономерно. Поскольку в традиционной этнографии и культурологии заведомо предполагается, что все примитивные племена находятся на одном, первоначальном уровне существования, как бы задержавшись в своем социокультурном развитии относительно цивилизаций; а в нашей концепции – различные племена, существующие параллельно современным цивилизациям и ведущие примитивный образ жизни, могут находиться в разных фазах своего собственного развития, в том числе, как пираха, – в завершающей, мемориальной фазе, когда развития нет, а есть некое замершее во времени и пространстве полу- природное – полу- культурное существование. И племя пираха, живущее на территории нынешней Бразилии, в амазонских джунглях, абсолютно выпадает из той структуры мифов, которая К. Леви-Стросом создавалась на основе «референтных» (по его определению) мифов племени Бороро, живущих в Центральной Бразилии и, по убеждению нашего исследователя, имеющих «особое положение в группе», что автора «побуждает к углубленной интерпретации, способствует возникновению проблем рефлексии».85
Однако реликты забытых верований и практик в некоем «культурном бессознательном» у пираха сохранились, и с нашей точки зрения, именно они заслуживают интерпретации и рефлексии. Так, по сообщению Эверетта, индеец пираха, увидевший необычный сон, который был для него путешествием в другую область реальности, проснувшись, стал петь о своем опыте во сне, используя особые тоны языка пираха, т.е. особую музыкальную речь.86 Так в вышеприведенных примерах Эверетта о духах и Агами и Исаоои, находясь в образах духов, говорили другими голосами и на особом языке. Очевидно, даже выродившись, развитый язык сохраняет «память» о различии сакрального и профанного опытов, характерного для всех культур.
Вера в «духов» и особая трактовка самого понятия «духа» полностью соответствует нашему рассмотрению формирования и функционирования представлений о «духах» в других этногенезах. У пираха сохранилось, видимо, по инерции, бессознательное представление о наличии «оборотной» стороны видимой реальности, а также о принципиальных формах взаимоотношения с ней. Во взглядах пираха совершенно явственно просматриваются и двойственность в понимании неразрывного единства между материальным и нематериальным («партиципация»); и «оборотничество», когда в любой вещи изначально усматривается ее способность менять и облик, и сущность. (Об этом подробнее см. в следующем параграфе о первобытной магии.)
Эверетт с полным недоумением описывает разговор индейцев, рассуждающих о том, является ли он, Эверетт, как белый человек, духом, и каким – с кровью или бескровным. Как понял исследователь, только после нескольких случаев, когда он поранился до крови, индейцы убедились, что он, если и дух, то «с кровью». Или в случае, когда он выкупался в реке, индейцы испугались, приняв его за другое существо.
«Превращение» мужчин племени в «духов» (заметим, их гендерное «преимущество», свидетельствующее, скорее всего, о древнем патриархальном устройстве племени) – это не только явственный «пережиток» шаманского ритуала, с одной стороны, но и вовсе классика архаического доверия Иному (а не веры!), с другой. Индеец, перевоплощаясь в «духа», и ведет себя, и говорит по-иному, как бы на это время «исчезая» как человек. Пираха не знают, откуда духи берутся, какова их природа, зачем они являются, почему бывают непредсказуемо добрыми или злыми, главное – что они знают, что духи есть, что они являются неотъемлемой частью жизни, и что не все они появляются из природы, а некоторые как бы «живут» в людях. Характерно, что, находясь в образах «духов», индейцы говорят о будущем, описывают посмертное состояние (соединяют мир живых и мир мертвых), как бы «овеществляя» Тайну, которую в обычной жизни бессознательно принимают как должное, а главное – что именно Тайна связана и с прошлым, и с будущим, которых в повседневной жизни для них не существует.
Хочется даже позволить себе каламбур: духи- «каоаибоги» поддерживают тлеющую духовную жизнь забытого богами этноса пираха.
Да, Эверетт прав в том, что «театр духов» пираха отдаленно напоминает спиритические сеансы цивилизованных европейцев, однако, в отличие от индейцев, европейцы верят в некий отдельный загробный мир и возможность общения с его особыми обитателями. А индейцы пираха не разделяют миры, живя в них одновременно, наделяя все материальные и природные вещи «духовными» свойствами, и сами искренне считая себя способными перемещаться из мира в мир, естественно существуя в них обоих.
Вновь противореча положению К. Леви- Строса о том, что «мифология не несет определенной практической функции»87, индейцы пираха миф не разделяют с обыденной жизнью, он для них – не продукт разумного творчества, а чувственно воспринимаемая и естественно принимаемая целостная реальность.
Индейцам пираха потому и не нужны ни мифы, ни фольклор. Они (как мечтали некоторые европейские мистики) обрели на излете существования своего этноса «вечное теперь» и натурально живут в выродившемся мифе, не подозревая об этом; и сами являются фольклорными персонажами, не представляя себе иного существования. Постоянно существуя в профанном мифе и полностью утеряв миф сакральный, пираха неукоснительно сохраняют бессознательное благоговение перед вечной Тайной бытия, воспринимая ее как неотъемлемый элемент природных феноменов.
Таким образом, миф жизненно необходим любому этносу для его формирования и становления, играя ведущую роль в первых фазах развития этноса, а затем выполняя важные вспомогательные роли и функции на завершающих этапах его существования. При этом миф изначально и неотъемлемо включал «фактор Х», некую сокровенную Тайну, передававшуюся в непрерывной сакральной традиции (шаманами, жрецами, тайноведами и т.п.), также отражавшуюся в народном фольклоре и быте, как неизбывное «чудо» окружающего мира, человеческой общности и каждой отдельной индивидуальности.
Живая мифологическая система племени догонов
в свете этно- энергетической концепции
Миф – это машина для уничтожения времени.
К. Леви-Стросс
Обращаясь к проблеме начала человеческой культуры, мы пытались иллюстрировать наши теоретические положения примерами из древнейших мифологических систем. Но всегда остается большая вероятность того, что мы не избежим смешения реально тайного и профанного знания, сохранившихся в известных нам мифах.
В настоящее время существуют кардинально новые возможности осмысления мифов, которых не было у мифологов XIX и ХХ вв., вынужденно изучавших «остатки» /«пережитки» сильно трансформированных за века и тысячелетия древних мифологий. Современные мифологи получили доступ к истокам живой примитивной мифологии, благодаря успешно развивавшейся культур- антропологии и антропологии в целом, начиная с начала ХХ в., а главное – междисциплинарному взаимодействию ученых. Серьезному интересу профессиональных астрономов, биологов, физиологов, психологов, наконец, философов – к данным антропологов, историков и археологов.
Подлинной сенсацией стало обнаружение в ХХ в. в Африке племени догонов (проживающих ныне в отдаленной горной местности Бандиагара в Мали и неподалеку от Тимбукту в Буркина Фасо). В сохранившихся преданиях догонов (относимых учеными к Х-ХI вв.), когда их племя еще жило в верховьях реки Нигер, в местности Манен (на территории нынешнего Судана), излагались подробные сведения о том, что их посетили некие существа, похожие на земноводных, – «Номмо», прибывшие из системы Сириуса.
Примитивное племя, до сих пор не имеющее развитых орудий труда и письменности, оказалось поразительно осведомлено о системе Сириуса. Номмо, главный герой мифов догонов (а также собирательное обозначение инопланетных существ), прибыл для того, чтобы создать цивилизацию на Земле.
Впервые об уникальных знаниях догонов и их невероятных мифах написали французские антропологи Марсель Гриоль и Жермена Дитерлен, Марсель Гриоль приехал в Бандиагару в составе Транссуданской экспедиции, но его интересовали, главным образом, африканские ритуальные маски, которые он начал изучать одним из первых европейцев. Гриоль подробно расспрашивал аборигенов о значении цвета, декора, орнамента на масках, подружившись со многими знатоками древних обычаев и жрецами – Манда из Оросонго и Номмо из Нандули. Свои отношения с ними Гриоль называл сердечными, потому неудивительно, что после вынужденного перерыва в общении в связи со Второй мировой войной, их новая встреча прошла чрезвычайно тепло. Старые друзья- догоны были так рады видеть ученого, что оказали ему редкие почести и даже решили посвятить в самую сокровенную тайну – миф о сотворении мира.
Решение было принято верховными жрецами и патриархами родов, и догоны выполняли посвящение больше месяца. Тридцать три дня шла только предварительная подготовка.
Поскольку у догонов нет письменности, информация передается устно, с использованием тысячи вспомогательных знаков, с каждым из которых связаны образы, метафоры, сравнения. Зачастую слово в мифе имеет несколько иное значение, чем в обиходном языке. В рассказе нельзя менять ни единого слова, ни одного звука, поскольку это может нарушить цельность изложения и его смысл.
Ежедневно после многочасового сеанса обучения таинственным знакам мифа учитель- догон приходил на совет старейшин и сообщал об успехах белых учеников, Гриоля и его верной спутницы Жермены Дитерлен. На тридцать четвертый день Гриоль услышал наконец «светлое слово» – сущность догонского мифа. Вместе со своей ученицей Гриоль записывал понятую им фабулу мифа, который оказался чрезвычайно сложным и по содержанию, и по подаче информации. Этнографам, не искушенным в тонкостях современных естественных наук, в первую очередь, в астрономии, пришлось серьезно потрудиться, чтобы сопоставить знания догонов с современными представлениями о мире.
При жизни Гриоль успел опубликовать только одно краткое сообщение о догонской концепции мироздания88 и работы по этнографическому изучению культуры догонов, включая монографию, посвященную его изначальному увлечению – ритуальным маскам89. В 1956 г. ученый умер во время очередной экспедиции в страну догонов.
Жители области Санга, где работал Гриоль, воздали ему наивысшие почести, которых не заслужил ни одни европеец: его памяти была посвящена самая главная и торжественная церемония похоронного обряда – снятие траура, «дама-на», означающая «большой запрет». Обряд предполагал наложение целого ряда табу на членов племени – не производить некоторые работы, не употреблять некоторые продукты в пищу и т. д. Подготовка к церемонии похорон проходила больше месяца, в ней участвовало все племя. В назначенный день, надев траурные маски и традиционные одеяния, посвященные начали похоронный танец, отправившись от деревни в скалы, к священной громадной глыбе – «Амма гину», «Дому бога». Здесь, перед алтарем, всю ночь продолжалась священная пляска, присутствовать на которой могли только члены мужского братства племени. Так догоны провожали душу ученого к Амма, высшую тайну которого они открыли другу-европейцу. На следующий день танцоры вернулись в деревню, где начался пир, и пляски продолжились до вечера. В конце дня танцоры вновь прошли вдоль деревни, поливая землю просяным пивом и посыпая зерном, и устремились к южной околице деревни. Все жители принимали участие в окончательном действе: каждый держал в руках глиняный черепок. Под бой барабанов все как можно дальше зашвырнули свои черепки, веря в то, что духи догонов живут где-то далеко на юге. Так душа Гриоля переселилась в дом бога, а перед капищем всю ночь стоял горшок с просяным бульоном и кувшин пива…
Работы Гриоля в среде антропологов не вызывали особого интереса. Так информация о догонах и оставалась незамеченной, пока упомянутая выше статья «Суданская система Сириуса» случайно не попала в руки английского астронома Мак-Гри, который поразился тому факту, что примитивное африканское племя знает о звезде Сириус-В, открытой только в 1862!90
После смерти антрополога его ученица и спутница Дитерлен подготовила к печати первый том собранных Гриолем этнографических материалов. Книга под названием «Бледный лис» увидела свет в 1965 г. на французском языке и в переводе на английский91. Спустя два года английский писатель У. Дрейк в своей книге «Пришельцы на Древнем Востоке» (Лондон, 1967) обратил внимание на точное знание догонами параметров звезды Сириус.
К сожалению, Гриоль не дожил до широкого признания своих исследований о догонах и унес в могилу многие тайные сведения, полученные им во время жреческого посвящения. Сейчас его черновые записи к книге и полевые заметки являются объектом информационной охоты, поскольку современным исследователям стало известно, что жрецы догонов упорно хранят тайну некой пещеры, в которой находятся не только неизвестные рисунки с новой информацией от Учителей, но и некие «вещественные доказательства» контактов…
Мифы догонов передаются устно, при этом в них четко различаются два уровня: сакральные и профанные.
Сакральные, тайные знания, в форме особых мифов, сохраняются жрецами и неизвестны обычным членам племени. Именно эти тайные знания были впервые обнародованы Гриолем, который стал первым посвященным в них европейцем (и кстати, им самим эти знания были не вполне оценены, т.к. этнограф плохо разбирался в астрономии). Однако с конца ХХ в. знания догонов вызывают острый интерес у современных ученых, поскольку касаются устройства звездных систем, мироздания в целом, происхождения людей от неких «прародителей», прибывших в ковчеге вместе с Номмо.
Профанные мифы догонов мало чем отличаются от фольклора многих африканских племен. Так, происхождение догонов в них связано с тотемом – «бледным лисом», маленьким светло-рыжим зверьком, который водится в догонских горах (в научной классификации – африканская лисица, Vulpes pallida). В народных мифах считается, что в древности бледный лис умел говорить на языке «сиги-со» и поведал догонам их мифы.
Налицо категорическое различие двух уровней миропонимания и мировосприятия, которое, тем не менее, сохраняется как минимум в течение тысячелетия. Однако насколько оно осознавалось этнографами в середине ХХ в.? Упоминавшаяся прижизненная статья Гриоля затрагивала проблему Сириуса, а книга «Бледный Лис», подготовленная Дитерлен, названа именем догонского тотема. Наблюдается явный мифологический конфликт, поскольку мифы, которые излагаются в книге – фрагменты тайного знания, к которому лис – земное животное если имело, то весьма опосредованное отношение. Как странно, что Дитерлен, вместе с Гриолем проходившая (или, по крайней мере, наблюдавшая) жреческую подготовку, не уловила этого мифологического диссонанса. Правда, судя по всему, собственно жреческое посвящение прошел только один Гриоль…
Отдавая дань признательности отечественным ученым, разработавшим концепцию первопредков и культурных родоначальников (Е.М.Мелетинский), мы должны подчеркнуть, что категорически не согласны с советской концепцией эволюции мифа. В частности, наше понимание трансформации мифов догонов – от космических жреческих мифов к тотемическим профанным категорически противоречит концепции, например, Е.С.Котляр, которая считала тотемические мифы – наиболее архаичными, а жреческие – позднейшими.
Попробуем сформулировать наше понимание значения догонских мифов для современной культурологии, философии мифа и этногенеза.
Во-первых, для нас очевидно, что жреческие мифы были получены «в готовом виде» и задача тайных обществ, с древности до наших дней, – сохранить в неприкосновенности полученные знания. Как подчеркивала Ж. Дитерлен, мифы не только догонов, но и племени бамбара должно понимать как «знание», а не как ряд «этиологических» рассказов.92 Е. Котляр сама указывает на особенность мифов племени бамбара (как сегодня установлено, близких к мифологии догонов): «Это „знание“, в полном объеме, – привилегия членов общества Коре, последнего в цепочке из шести тайных обществ бамбара, представляющего высшую стадию посвящения».93 А что же остальные члены племени, каковых всегда большинство? Они интерпретируют (или им преподносят) некоторые фрагменты жреческих знаний в доступной форме, где и появляются вполне понятные фольклорные персонажи, которые в простонародном понимании и являются тотемами.
Е. Котляр писала: «Тотемические верования являются, вероятно, наиболее архаическим слоем мифологических и религиозных представлений, а тотемические предки выступают как одна из древнейших разновидностей культурного героя».94 И далее: «Тотемизм как первая форма осознания родства в человеческом коллективе путем перенесения социально-родовых отношений на мир животных возникает еще на почве примитивного охотничье-собирательского хозяйства. В период развития отцовско-родового строя, с осознанием кровного родства, тотемизм, лишившись своей почвы, постепенно отмирает».95
С нашей точки зрения, «взрыв» примитивной культуры в процессе Контакта – это начальный этап формирования жреческой мифологии, где осознание невероятности Учителей никак не может привести их к мысли о сопоставлении первопредков с какими-то земными животными. В позднейших интерпретациях жреческих мифов первопредки догонов предстают скорее похожими на дельфинов или ламантинов, неких существ, живущих в воде, но громадных размеров. Кстати, в широко известных сегодня догонских культовых танцах некоторые участники, изображающие первопредков, становятся на ходули, чтобы показать, насколько высоки ростом они были.
Образ Лиса чрезвычайно характерен для профанной мифологии догонов – народного фольклора (сказок, басен, поговорок и т.п.) Возможно, у догонов и существует праздник «Бледного Лиса», на котором участники ходят на четвереньках и подражают повадкам и голосу тотема, но о подобном празднике никто из современных исследователей не упоминает. В любом случае, он не является основным для космологических мифов догонов. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что марксистско-ленинская идеология, конечно, никогда не могла допустить, чтобы жреческое знание было признано более совершенным, чем народное творчество. И советские этнографы, даже если у некоторых из них и было собственное мнение, не могли его высказать и рисковать своей карьерой и, может быть, даже жизнью (если учесть трагические судьбы ученых, открыто высказывавших суждения, не согласующиеся с советской идеологией. Достаточно напомнить о судьбах Л.Н.Гумилева и А.Ф.Лосева, проведших годы в лагерях за свои убеждения.)
Во-вторых, советская идеология предполагала неуклонный социокультурный прогресс в развитии африканских племен – от дикости к социализму (поступательно по ступеням общественно-экономических формаций).
В нашей концепции признаётся не эволюция, а деволюция в исторической трансформации социокультурной жизни этносов, в том числе, африканских. Этногенез, рассматривая этнос как динамическую неравновесную систему, предполагает неизбежную энтропию изначального энергетического заряда, полученного при этно-пассионарном «взрыве».
Согласно концепции о фазах этногенеза, догоны, скорее всего, в настоящее время находятся в состоянии надлома и упадка. Есть основания предполагать, что переселения догонов были связаны, кроме всего прочего, и со сменой фаз этногенеза: после акматической фазы, проходившей на территории Судана, в фазу надлома племя переселилось на нынешнюю территорию, в Мали, сохраняя в неприкосновенности древние знания. Возможно, в этой суровой, но отдаленной местности, племя способно успешно пережить долгую обскурацию, войти в устойчивое состояние гомеостаза и долго существовать в мемориальной фазе. (Как мы видели выше, индейцы пираха в своем удобном природно-культурном ареале успешно проходят длительный процесс декультурации.)
Из Судана догоны пришли в Мали примерно между Х и XIII веками, принеся с собой главный алтарь, посвященный их непосредственному предку – Лебе, а также сохраняя свои странные обычаи, верования и искусство. Заметим, что пещеру с древнейшими сокровищами и артефактами они оставили на предыдущей родине.
Племя догонов, безусловно, стояло в древности на более высокой ступени развития. Туземцы подарили ученым, которые сегодня их досконально изучают, множество артефактов (уникальные орудия труда, необычные статуэтки из камня, кости и дерева, возраст которых, как оказалось, не менее 4000 лет).
В статье «Суданская система Ситриуса» Гриоль и Дитерлен описывали случай, когда в деревне Иби они были приглашены в пещеру, в которой хранились ритуальные маски канага. Оказалось, что у догонов существует традиция вырезать одну из таких масок для каждой церемонии Сигуи, которые проходят каждые 60 лет и посвящены системе Сириуса. Шел 1931 год, в пещере было 9 масок, три из которых были покрыты настолько плотным слоем пыли, что резьба на них едва угадывалась. Несложный подсчет показал, что первая из масок употреблялась на церемонии в XIII в.
В своей лекции 1970 г. Жермена Дитерлен ссылалась на свидетельство одного из старейших членов племени догонов, который поведал ей о том, что участвовал в трех церемониях Сигуи: наиболее поздняя состоялась в 1969 г., предыдущая была примерно в 1909, а первой для него была церемония примерно 1849 г.96 При этом, старик заметил, что его присутствие на самой ранней церемонии состоялось, когда он был еще во чреве своей матери…97
(Роберт Темпл также приводит несколько методов подсчета церемоний Сиги: по маскам, как и у Дитерлен; по рисунку на фасаде святилища, которое называется «сиги лугу» – «вычисление Сиги»; по емкостям для ритуального пива, сплетенным из баобабовых волокон, хранящихся в резиденции Огона района Санга. Подсчет Темпла не расходится с данными Дитерлен: древнейшая из известных церемоний относится примерно к XII столетию98, но в традиции считается, что древнейшие маски, рисунки и емкости не сохранились, и, в действительности, первые церемонии Сигуи/Сиги проходили примерно в начале нашей эры.)
Безусловно, речь в нашем случае идет о конкретном догонском племени, которое в своем этногенезе прошло период расцвета и исторической возраст которого может составлять примерно 700—900 лет. (Как известно, по Л.Н.Гумилеву, предельный возраст этноса составляет примерно 1700—1800 лет, правда, возможны варианты, если этнос получает дополнительную энергетическую «подпитку», например, становится частью химеры или суперэтноса…) Но необходимо учитывать, что в мифах догонов упоминается о разделении догонских племен еще самими первопредками и их древнейших расселениях, которые означали не акматические фазы, а последующие этнические «взрывы», определявшиеся племенными пассионариями или отдельными первопредками. А значит у некоторых догонских племен, доживших до наших дней, может быть значительно более длительная и нелинейная история.
Роберт Темпл в своей книге «Мистерия Сириуса» утверждал, что смог доказать, что информация, которой обладают туземцы племени догонов, очень древнего происхождения – ей больше 5 тысяч лет и ею располагали древние египтяне в додинастический период, т.е. до 3200 года до Р. Х. Если принимать во внимание подобные расчеты, то речь должна идти о предках нынешних догонов, успешно передавших через тысячелетия свои уникальные знания.
В-третьих, советские этнографы, как и подавляющее большинство нынешних мифологов, рассматривают все догонские мифы как плод народного творчества. С нашей точки зрения, сакральные догонские мифы получены аборигенами «в готовом виде», и задача жрецов сразу была связана с сохранением знаний, которые они сами постигали, возможно, не один век. И хотя этнографы упоминают некое до сих пор тайное «знание» догонов, но его подлинную цену они не знают.
Не удивительно, что уникальные жреческие знания догонов потрясли астрономов, а вслед за ними – и других ученых в различных областях естественных наук. Именно эти поклонники догонов, далекие от этнографии и мифологии, пытаются доказать уже в течение полувека, что догонские древнейшие знания – не выдумки дикарей, а свидетельства палеоконтактов или сохранившиеся достижения древнейших и неизвестных нам цивилизаций. Закономерно, что наиболее современную и научно обоснованную интерпретацию космологических мифов догонов дал не этнограф, а профессиональный астроном Эрик Геррье.99
В-четвертых, этнографы не слишком выделяют догонов из ряда родственных им племен, ориентируясь, в первую очередь, на лингвострановедческие данные и, так сказать, изобразительное искусство.
«Многие исследователи справедливо называют Африку классической страной культа предков. Действительно, эти представления получили здесь очень широкое распространение, и центральным мифологическим персонажем у многих народов Тропической и Южной Африки является предок – демиург, прародитель, культурный герой».100
Однако этнографы, не различающие народные сказки и фрагменты жреческого знания, а главное – не способные сопоставить «знание» догонов с современными научными сведениями в различных областях, – этнографы сегодня могут только предоставить объективные сведения о затерянном племени догонов для дальнейшей их обработки представителями других научных дисциплин. Можно бесконечно обсуждать проблемы влияний и взаимовлияний африканских племен и на этом уровне догоны, конечно, не будут слишком выделяться.101 Но с точки зрения того, что они обладают уникальными знаниями и некой способностью до сих пор общаться (?!) с первопредками, – догоны, безусловно, племя феноменальное.
Остается без ответа острый вопрос: почему жрецы догонов допустили к тайным знаниям Гриоля и позволяют современным ученым уточнять ту информацию, которую Гриоль и его помощница обнародовали в своих статьях и публикациях. Известно, что далеко не все члены племени допущены к этим знаниям. У догонов мифы могут рассказывать только члены Ава – общества масок – олубару, прошедшие специальную подготовку и знающие особый «язык Сиги» – «сиги со».
Можно предположить, что догонским жрецам это позволили их «кураторы» с Сириуса, а можно решить, что жрецы сами прониклись доверием к современным ученым, полагая, что они, в отличие от их неграмотных соплеменников, смогут адекватно оценить и применить сохраняемые и передаваемые ими по традиции знания, важные для всех людей. (Напомним, что только в ХХ в. племена догонов, жившие в отдаленной и неблагоприятной местности, впервые столкнулись с французскими колонизаторами и развитой европейской культурой.)
Некоторые современные этнографы – критики Гриоля, якобы прошедшие по его стопам и даже общавшиеся с его информантами, включая жреца Оготемелли, вовсе отвергают сведения Гриоля и пытаются доказать, что он слишком вольно интерпретировал древние мифы. Главный аргумент: им ничего подобного догоны не сообщали! При этом эти этнографы не упоминают, прошли ли они ту двухмесячную подготовку перед получением жреческого знания, которую прошел Гриоль со своей сотрудницей; известна ли им в подробностях система жреческих мнемонических знаков и их значений, – иначе говоря, – прошли ли они ПОСВЯЩЕНИЕ в жреческую науку догонов.
Для мифологов совершенно очевидно, что этнографы, записывающие профанные сказки примитивных племен, в том числе, о звездных пришельцах, в отличие от Гриоля, не обратили бы никакого внимания на уникальные сведения догонов. Не говоря о том, что вряд ли кто из них был бы допущен к сакральным знаниям по своим человеческим качествам. Жрецы, как правило, являются прекрасными психологами и никогда не доверят свои тайны недостойным или недалеким слушателям.
Известные сегодня рисунки и некоторые комментарии догонских жрецов, очевидно, относятся к современному пласту профанного знания (уже включающего в себя некоторые эзотерические сведения), предназначенного для развития в европейской науке. Ведь догонским жрецам тоже, со своей стороны, интересно обсудить хранимую ими информацию с просвещенными европейцами…
Какие же мифологические знания догонов поразили современных ученых?
Догонам были даны уникальные астрономические знания (о системе Сириуса, нашей галактике – Млечный путь, о других спиральных звездных мирах во Вселенной), которые потрясли современных ученых102. Спиральные туманности, демонстрируемые в древних рисунках догонов, были зарисованы на основе астрономических исследований ученым У. Россом только в середине XIX в. Также догоны знают о вращении нашей Галактики (доказанном в науке в 1927 г.), и о ее спиральной форме (известной ученым с 1950 г.). Не говоря о том, что они подробно рассказывают о строении системы Сириуса…
Как уже упоминалось, даже далекий от астрономии этнограф Гриоль поразился тому, что догоны знали удивительные подробности о звезде Сириус (для любого этнографа известной по египетской мифологии), о том, что это не одна звезда, а система звезд!
Примечателен тот факт, что племя догонов живет в том районе Африки, где звезда Сириус исчезает подолгу за горизонтом и оказывается вне поля зрения на несколько месяцев. Увидеть Сириус-А на небе можно только 23 июля точно над горизонтом, фактически, только на мгновение, за 60 секунд до восхода Солнца.
(Египтяне, как известно, постоянно наблюдали Сириус на небосклоне, к его восходу и перемещениям приурочивая конкретные земледельческие работы. Традиционным этнографам и мифологам было нетрудно объяснить некоторые (но далеко не все!) астрономические знания египтян. Можно заметить также, что и у протоиранцев среди древних авестийских богов Тиштрйа, победитель демона засухи, был божеством звезды Сириус.103)
Обнаружить Сириус-В на земном небе невозможно, тем более – определить его цвет, вычислить период обращения и плотность без астрономических приборов… Кстати, примитивное племя всегда считало Сириус тройной звездой, а не двойной, как современные астрономы104. По представлениям догонов, вокруг главной звезды «сиги толо» (т. е. Сириус-А) вращаются звезды «по толо» (т. е. Сириус-В) и «эмме йа толо» (неизвестный науке Сириус-С). Догоны полагают, что период обращения мелких звезд вокруг главной составляет 50 лет (по современным данным 49,9). Более того, по мнению догонов, у неизвестной нам звезды Сириус-С есть еще две планеты-спутника – «ара толо» и «йу толо». И даже с помощью современной астрономической техники, обнаружившей сотни экзопланет, эту информацию догонов пока проверить невозможно.
Догоны рассказали ученым, что Сириус-В – очень старая и маленькая звезда, обладающая огромным весом и плотностью. Они говорят: «Она самая маленькая и самая тяжелая из всех звезд и состоит из металла, называемого «саголу», который более блестящий, чем железо и такой тяжелый, что все земные существа, объединившись, не смогли бы поднять и частицу…». В другом месте мифа они уточняют: «частица саголу размерами с зерно проса весит столько же, сколько весят 480 ослиных вьюков». (По современным представлениям, около 35 тонн. Астрономы считают Сириус-В белым карликом, т.е. потухшей звездой, плотность вещества в которой 1,5 миллиона тонн на кубический дюйм, или 50 тонн в кубическом сантиметре)
На одном рисунке догонов показана точная модель движения Сириуса -В вокруг Сириуса-А в определенный отрезок времени – с 1912 по 1990 гг. (ученые сделали свой расчет на компьютере)
На рисунках догоны изображают планеты Солнечной системы: Юпитер как кружок, рядом с которым четыре маленьких кружка (основные спутники), а Сатурн – две концентрические окружности (большие кольца планеты).
Траекторию полета первопредков из системы Сириуса к Земле современные исследователи обнаружили на одном из древних рисунков на стене известной пещеры в Бандиагаре (к тайной пещере, расположенной, скорее всего, в Судане, как мы упоминали, нынешние исследователи еще не добрались). А звездную систему Сириуса сегодня простодушно описывают аборигены, рисуя его модель палкой на песке,
Они рассказывают, что Земля вращается вокруг себя и, кроме того, проходит большой мировой круг, как волчок. Солнце вращается вокруг своей оси, как бы приводимое в действие спиральной пружиной (при этом, они не могут объяснить, что такое спиральная пружина).
Некоторые этнографы, критикуя М. Гриоля, замечают, что у многих народов существуют космологические знания. Но обратим внимание на то, что эти «знания» являются элементами фольклора; в наших терминах, фрагменты тайного жреческого знания «вкраплены» в профанное знание племени.
Для сравнения с догонскими знаниями приведем некоторые представления чукчей. Так, В.Г.Богораз-Тан в своей книге о чукчах приводит их рисунки звездного неба. На одном из них довольно точно изображены положения звезд и созвездий относительно Млечного Пути, который чукчи называют «Песчаной рекой», – Полярная звезда, созвездия Близнецов, Рыси, Большой Медведицы, Орла, Ориона, Плеяд и др. Один из рисунков поразительно похож на догонский рисунок, изображающий звездную систему. Однако чукчи изображают наш мир, вписанный в систему нижнего и верхнего мир, как средний мир в центре концентрических кругов. Богораз-Тан так описывает чукотский рисунок, изображающий вселенную. «Наша вселенная – средний круг. Полярная звезда, конечно, помещена в центре. Слева – солнце и месяц. Последний изображен в виде человека, держащего в руках аркан, возле него стоят два пленника. Между солнцем и месяцем видны звезды… Под месяцем помещена черная гора Мрака. У подножия ее стоит землянка, принадлежащая духам…».105
Характерно, что в догонской жреческой знаковой системе изображения условны и астрономические объекты не антропоморфны, а в чукотской «профанированной» версии мироздания и рисунки и пояснения приближены к обыденным представлениям.
Еще одно наглядное различие между поразительной догонской космогонией и профанированной чукотской. Богораз-Тан отмечает: «По космогоническим представлениям чукч существует несколько миров, расположенных один над другим, так что земля одного является небом другого, находящегося ниже. Количество миров – пять, семь или девять. Эти миры расположены в равном количестве над и под землей, каждому верхнему соответствует симметричный нижний».106
Как мы видели, жреческое знание догонов вполне адекватно современным научным представлениям о звездных системах, звездах и планетах, громадных расстояниях между ними, соотношении звезд между собой и т. д.
При этом, у чукчей даже в профанных мифах сохраняются основные идеи, явно относящиеся к древнейшим представлениям, полученным «в готовом виде» от неких первопредков: представление об иерархии вселенной и земного устройства, об опасностях нарушить древние табу, о необходимости изменять природное окружение для создания культурной среды… Наряду с откровенно профанными мифами о том, что в верхние миры можно проникнуть через общий проход, находящийся под Полярной звездой, или долететь на орле или громовой птице, или просто дойти пешком по направлению к рассвету, – существуют и другие космогонические, явно не выдуманные, а просто примитивно перетолкованные. «Многие созвездия считаются особыми мирами, с особым населением, или они являются местом обитания Верховного существа, которое пасет на них свои огромные стада оленей».107
Сравнение догонской и чукотской космологий – это очевидное различие между жреческой наукой и профанными представлениями, включавшими только элементы тайного знания.
Кроме космологии, догоны хорошо знают физиологию человека, рассказывают о красных и белых кровяных тельцах. Первопредки передали догонам культурное растение «фонио», вид проса (научное название «Digitaria exilis»), которое до сих пор произрастает исключительно в Западной Африке. Несмотря на то, что зерна растения чрезвычайно малы, его выращивают в значительных количествах и почитают как основу традиционного рациона питания. (Так месоамериканским предкам Учителя подарили кукурузу, растение, у которого также не существует дикого предка на Земле).
Современные ученые выяснили, что догоны располагают знаниями в области молекулярной биологии, ядерной физики и многих других наук. Но воспользоваться этими знаниями они не могут.
На вопрос ученых об источнике их знаний, догоны указывают на рисунок, изображающий летающую тарелку, приземляющуюся на три опоры. На следующем рисунке – существа внутри корабля. Далее нарисовано, как они делают большую яму, заполняют ее водой и, выбираясь из корабля, перемещаются в это искусственное озеро.
Посланцы с небес были необычайно высокого роста, напоминая дельфинов или ламантинов, могли дышать только в воде, потому на суше носили скафандры, наполненные жидкостью. Догоны назвали пришельцев «номмо», что в переводе означает «выпить воды», а «Nommo anagonno» – «рыба».
Небезынтересен и этногенетический (генеалогический) миф догонов. Когда-то они жили в некой Стране манде и являлись потомками легендарного Лебе (Лебе Серу), который произошел от первопредков номмо (он был одним из восьми предков догонов – четырех мужчин и их четырех женских близнецов). Лебе дал жизнь двум сыновьям. От старшего произошло племя догонов (родовые группы дьон, домно, оно), а младший стал основателем племени ару.
Когда Лебе умер, догоны опустили его труп в землю, а перед уходом из Страны манде решили взять с собой его останки. Но когда вскрыли могилу, то обнаружили, что Лебе воскрес в виде змеи. Догоны, захватив с собой немного земли с могилы, отправились подземным путем под предводительством змеи, и оказались в Мали.
Наряду с этой версией происхождения догонов, существуют и другие, связанные с палеоконтактами. Вначале на Землю прибыл «Бледный Лис» Йуругу. Причем существует рисунок, изображающий его «полет» от Сириуса к Солнцу, на котором Солнце значительно меньшего размера. (Этот же рисунок простодушно чертил абориген палкой на песке перед современными учеными: условные изображения Солнца и Сириуса, соединенных кривой, закручивающейся вокруг каждого из светил, причем диаметр Сириуса превышает диаметр Солнца. В своей книге «Эссе на тему догонской космогонии: ковчег Номмо» астроном Эрик Геррье предположил, что эта кривая представляет собой траекторию межзвездного перелета…108)
О Йуругу ныне существует целый цикл мифов. Он символизирует собой засуху, тьму, беспорядок, являясь противоположностью влаге, свету, порядку, которые олицетворяет собой Номмо. Номмо прибыл позже, на другом корабле. Он изображается догонами как получеловек-полузмея с гибкими конечностями без суставов, красными глазами и раздвоенным языком. Вместе с Номмо прибыли и предки людей. (На рисунках и по объяснениям догонов Номмо проживает в некоем «небесном месте» в системе Сириуса, в некоем промежутке между «по толо» (Сириус-В) и «ээме йа толо» (Сириусом-С), иногда это «место» отождествляется с «энегерин толо» – звездой «гамма» в созвездии Малого Пса.
Йуругу и Номмо – близнецы, вышедшие из одного «первояйца» Аммы. Но Йуругу, появившись из своей половины яйца раньше срока, восстал против Аммы и захотел стать господином вселенной. Он украл зерна, созданные Аммой, оторвал кусок своей плаценты, сделал из него ковчег и устремился в пространство. Не обретя своей пары, Йазиги (половину своей женской души), Йуругу противозаконно соединился со своей матерью, землей. Было нарушено состояние чистоты вселенной, оскверненная инцестом земля стала бесплодной и сухой. Амма, чтобы исправить положение, на небе принес в жертву одного из Номмо, разбросав куски его тела по четырем сторонам света. Затем, собрав куски тела Номмо, Амма соединил его с «небесной» землей и воскресил в человеческом облике. Но после, спустившись на своем ковчеге на Землю, вместе с предками людей, животными, растениями и минералами, Номмо принял свою первоначальную форму рыбы (варианты – или дельфина, или ламантина). На земле, снова ставшей чистой и плодовитой, размножились люди, а Амма поручил управление миром Номмо.
Е. Котляр отмечала: «Роль Йуругу является дополнительной по отношению к роли Номмо. Атрибуты этих двух существ являются равно необходимыми для нормального течения жизни и соответствуют один другому: Йуругу – ночь, засуха, бесплодие, беспорядок, смерть: Номмо – день, влага, плодовитость, порядок, жизнь. Номмо должен ограничивать вызывающую беспорядок деятельность Йуругу».109
Ежегодно проводятся особые празднования – Bado, которые приурочены не к вращению Земли вокруг Солнца, а к обороту Сириуса-В вокруг своей оси. Во время этих коллективных действ из системы Сириуса якобы приходят сигналы – «наказы богов» своим земным соплеменникам. Жрецы принимают информацию и растолковывают ее остальным.
Еще более необычными являются церемонии Сигуи, связанные с Сириусом-А, проводимые каждые 60 лет и длящиеся целых 7 лет! Для догонов это праздник обновления мира, в ходе которого воссоздается мир богом Амма и сын Амма – Номмо дарует людям цивилизацию. День появления бога догоны называют «днем рыбы». В память о высоких пришельцах догоны на праздниках ходят на ходулях.
У современных догонов (подчеркнем, прошедших длительную историческую трансформацию от своих древнейших предков) существует вера в духов, которая представляется поздним «дополнением» к знаниям Учителей, тем более, что весь комплекс знаний был, как мы видели, недоступен для рядовых членов племени, потому вера в духов и другие примитивные религиозно- магические представления могли быть или творческими «дополнениями», или заимствованиями у других племен.
Мы довольно пристально рассматривали мифологию догонов не случайно:
1) история племени насчитывает около тысячи лет, и их мифология, по сравнению с известными нам, сравнительно молода, не говоря о том, что она не завершена – по сообщениям антропологов догоны до сих пор продолжают «общаться» со своими Учителями. (По расчетам догонов, Номмо должен был нанести очередной визит в 2003 г.) Кроме того, Бандиагара, где живет племя, – труднодоступная, засушливая местность, которой французские колонизаторы не слишком интересовались. Потому здесь долго не было христианских и исламских миссионеров, и племя сохранило тот образ жизни, которого придерживалось тысячелетиями. Иначе говоря, у нас есть возможность прикоснуться к живой и даже современной (!) примитивной мифологии, которая, как мы предполагаем относительно любой мифологии, была следствием внешнего цивилизующего воздействия;
2) к истории и мифологии догонов этнографы обратились только с середины ХХ в., и исследователей было немного, потому в современной этнографии и антропологии мало научных «мифов», кстати, одним из которых является довольно распространенное суждение о том, что открыватель догонов, М. Гриоль привнес в изложение догонских мифов много собственных взглядов и даже современные научные теории (?!), древним мифам не присущие (сразу заметим, что мы эту точку зрения не разделяем);
3) в мифах догонов отчетливо проявлено два уровня мифов: сакральных, хранимых жрецами и доступных только посвященным; и профанных, распространенных среди обычных членов племени. Так, в сакральных мифах прибывшие с Сириуса существа мало того, что нечеловекоподобны, они лишь отдаленно напоминают земных животных. В профанных же мифах прародителем догонов почитается, как можно понимать, в качестве тотема, лиса, обычное животное, часто встречающееся в природе и более приемлемое в качестве первопредка для примитивного мышления.
4) известные астрономы и представители других научных направлений обратили пристальное внимание на мифологию догонов, объективно выявляющую поразительные схождения с новейшими научными открытиями. Вслед за астрономами на уникальные знания примитивного племени обратили внимание и представители других наук. Таким образом, исследования догонской мифологии являются примером эффективного междисциплинарного взаимодействия, не говоря уже о том, что, видимо, впервые современная наука непосредственно соприкоснулась с живой мифологической системой;
5) нас особенно интересует тот факт, что в мифах догонов подробнейшим образом описываются Встречи с Учителями с Сириуса, их облик и фрагменты даваемой информации (напомним, многие знания догонов остаются до сих пор тайными, включая и ту информацию, что они получают в нынешних «сеансах связи»). Открытым остается вопрос о цивилизационных последствиях контактов догонов, поскольку жрецы говорят о том, что для многих знаний «время еще не пришло». По некоторым представлениям, догоны словно являются огромной копилкой знаний неизвестного предназначения110;
6) также небезынтересным является формирование новейшей мифологии на базе догонских мифов и неспособности современной науки подтвердить или опровергнуть те сведения догонов, которые опережают нынешние научные знания (в первую очередь, проблема существования третьей звезды С в системе Сириуса). Полуфольклорные- полунаучные мифы – это пока слабо развитая, но тем не менее чрезвычайно интересная и перспективная тема будущих исследований.
7) В настоящее время, когда все более широко обсуждаются проблемы неизвестной или намеренно замалчиваемой истории человечества, подобная мифологическая система становится отправной точкой для пересмотра мифологического наследия человечества. Подобные догонским описания прибывших со звезд Учителей можно обнаружить у индейцев урос, живущих возле озера Титикака (Перу). В их легендах дельфиноподобные существа, пришедшие с неба, обучали новым знаниям народы, жившие там до инков. Именно эта связь с «народом с неба», согласно преданию, привела к основанию империи инков.
В Средиземноморье 12 культур хранят подобные предания (включая упоминавшиеся мифы вавилонян, шумеров и др.).
В задачу нашего исследования не входит создание новой теоретической концепции мифа, но изложенный нами взгляд на мифологию с точки зрения этно- энергетической концепции позволит нам, обнаружив живое «зерно» в древнейших мифологических системах, попытаться выявить и живую традицию взаимодействия с извечной Тайной человеческой культуры, ведущей от мифа – через древнейшие магию, религию и философию – к тому, что именуется мистикой.
23
Ермакова Л. М. Речи богов и песни людей. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1995. С. 149 (курсив мой – В.К.).
24
Лосев А. Ф. Диалектика мифа// Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 24.
25
Лосев, Диалектика мифа. С. 25.
26
Лосев, Диалектика мифа С. 28.
27
Подробнее см.: Кравченко В. В. Мифо-логика А.Ф.Лосева в свете этно- энергетической концепции культурного поля // Сб. М.:МАКС- пресс, 2019.С.422- 428.
28
См. подробно: Кравченко, Симфония, с 206 и далее (параграф «Особенности культурного поля», а также далее параграф «Социализация, ментальность, инкультурация»).
29
Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976.
30
Чиркова Э. Современная гелиобиология // Сетевое издание «Информационно аналитический портал „VIPERSON“» – viperson.ru.
31
Гумилев Л. Н.География этноса в исторический период. Ленинград: Наука, 1990.С.23.
32
Гумилев Л. Н. Тысячелетия вокруг Каспия. Баку, 1991. С. 18.
33
Гумилев Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. С.509.
34
Гумилев, Этносфера, с.506.
35
См.: Ситчин З. Двенадцатая планета. М.: ЭКСМО, 2005. (Это одна из наиболее известных и переведенных на русский язык работ. В действительности, знаменитый криптоисторик и писатель создал целый цикл книг об аннунаках и их воздействии на Шумерскую цивилизацию.)
36
См.: Мулдашев Э. Р. От кого мы произошли? М.: Читающий человек, 2016.
37
Кравченко, Симфония, с.209.
38
Кравченко, Симфония, с.210.
39
Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. С.63.
40
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, ГРВЛ, 1976. С.193.
41
Отто В. Дионис: миф и культ. М.: Касталия, 2017. С.15.
42
Захария Ситчин, основываясь на расшифровке шумерских глиняных табличек, писал:: «Всё началось, как свидетельствуют многочисленные тексты, в незапамятные времена с приводнения в персидском заливе или Аравийском море группы из пятидесяти АННУНАКОВ – в буквальном переводе „те, кто спустился с небес на землю“». Они прибыли с планеты Нибиру, вращающейся по вытянутой орбите вокруг Солнца, чтобы добывать золото на Земле для спасения своей планеты. – Ситчин З. Божество двенадцатой планеты. М.: ЭКСМО, 2006. С. 15.
43
«…культура имеет привнесенный, индуктивный, наведенный, а в психологических терминах — заразительный характер. В средовом плане, культура — искусственное энергодинамическое поле целенаправленной человеческой активности, существующее в историческом и физическом планах по закону рассеивания изначального пассионарного „заряда“ и увеличения энтропии социальной системы.». – Кравченко, Симфония, с.130.
44
Риццолатти Дж., Синигалья К. Зеркала в мозге: О механизмах совместного действия и переживания. М.: Языки славянских культур, 2012.
45
В моей монографии целый параграф посвящен проблеме детей-«маугли» («феральных» – от лат. «fera» – дикое животное), которые в силу различных причин в младенчестве оказались в природе, за пределами культурного поля и, воспитываясь животными, людьми не становились даже после того, как их находили и пытались воспитать и «очеловечить». – См.: Кравченко, Симфония, с.208—212.
46
Цикл работ З. Ситчика о невероятных знаниях шумеров и оригинальном варианте развития человеческих цивилизаций интерпретирует широко известные сегодня ближневосточные мифы и о создании вселенной и богов, и создании Земли, и о нисхождении богов на Землю. – См.: Немировский А. И. Мифы древности: Ближний Восток. Научно-художественная энциклопедия. М.: Лабиринт, 2001.
47
С. Крамер, убежденный в том, что «история начинается в Шумере», исследует впервые найденные учеными в XIX в. клинописные глиняные таблички и систему шумерского образования, на углубляясь в проблему появлении письменности шумеров. – Крамер С. История начинается в Шумере. М.: Наука, 1991. Знаменитый шумеролог Эдвард Кьера откровенно признает: «О происхождении шумеров почти ничего не известно. До сих пор не удалось даже определить, были ли они коренными жителями Месопотамии. <…> нельзя также сказать, возникло ли древнейшее письмо в Месопотамии или где-то вне ее. Некоторые исследователи начинают сомневаться в том, что честь изобретения письменности надо приписывать шумерам. Как бы то ни было, именно шумеры развили систему письма и превратили ее в клинопись; были ли они и изобретателями древнейшего письма – пока сказать нельзя». Кьера подчеркивает: «Шумеры высоко ценили искусство письма и относили его появление к самому началу своей цивилизации. Они также считали свою цивилизацию очень древней, уже ранние тексты с презрением отзываются о кочевниках, «людях, которые не знают домов и не выращивают пшеницу». <…> Стараясь быть беспристрастными, мы все же считаем, что шумеры выработали свою собственную систему письма.» Пытаясь найти логическое объяснение факту появления письменности у шумеров, Кьера выдвигает гипотезу длительного и сложного процесса выработки клинописи из рисуночного письма. – Кьера Э. Они писали на глине. М.: Наука, 1984. С.20.
48
Подробнее: Аргуэльес Х. Фактор майя. Внетехнологический путь. Томск: Зодиак, 1994. С.232—233.
49
Обычные люди – это большинство этноса, в нашем понимании о различных энерготипах людей в этносе, – это подавляющее большинство подвержено влиянию людей супер-страстных (пассионариев) и страстных (гениев и талантов), которых в этносе всегда меньшинство.
50
Напомним, этимологически слово «стимул» происходит от латинского «острая палка для того, чтобы подгонять упрямых ослов».
51
Подробнее: Кравченко, Симфония, с.190—293. (Глава 3. Макрокосм. Культурное поле).
52
Как известно, Л.Н.Гумилев представлял развитие этноса в его переходе от одной фазы к другой: после «пассионарного взрыва» (собственно, момента зарождения этноса) наступала фаза подъема, затем – высшая точка развития (акмэ), следом – фазы надлома, инерции, обскурации, гомеостаз и мемориальная фаза… – Гумилев Л. Н. Этносфера, с.498.
53
Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд. МГУ, 1994. С. 63—64. (курсив М. Элиаде – В.К.)
54
Сами подобные действа обычно именуются «посвящениями» (инициациями) и в нашем контексте мы не останавливаемся на их видах, просто принимая во внимание их бесконечное разнообразие.
55
Научный термин «тотем» происходит от алгонкинского слова «от-отем», означавшего «его род». Алгонкинский язык, объединявший ряд индейских племен, отражал единство традиционных представлений их древних предков.
56
Культурное поле определяется нами как «особое энергетическое поле взаимодействия и функционирования человеческих эмоций, переживаний и чувств, связанных с определенным культурным ареалом». Кравченко, с.197.
57
Гумилев Л. Н. Этносфера, с.498.
58
Напомним, по Л. Н. Гумилеву, этнос – это «динамическая система, возникающая в историческом времени, при наличии пассионарного толчка как необходимого компонента при пусковом моменте этногенеза…» – Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: ТОО «Мишель и Ко», 1993. С. 372.
59
Лосев, Диалектика мифа, с.27 (курсив А. Ф. Лосева – В.К.).
60
Мелетинский, Поэтика мифа, с.179—180.
61
Мелетинский, Поэтика мифа, с.178.
62
Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс,1991.
63
Мелетинский, Поэтика мифа, с.189.
64
Мелетинский, Поэтика мифа, с.187.
65
Лосев, Диалектика мифа, с.28—29.
66
См. подробнее: Кравченко, Симфония, с.248 и далее.
67
Лосев, Диалектика мифа, с.172.
68
Лосев, Диалектика мифа, с.134 (курсив А. Ф. Лосева).
69
Лосев, Диалектика мифа, с.169.
70
См.: Бирлайн Дж. Ф. Параллельная мифология. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997.
71
Здесь пассионарий рассматривается в терминах «человека поступка» у М. М. Бахтина, как «человек жизни»: в нем отсутствует «дурная неслиянность культуры и жизни», ему свойственно «поступающее мышление», «участное мышление». Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984—1985. М.: Наука, 1986. С.105.
72
«Все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что только / У людей позором считается или пороком; / Красть, прелюбы творить и друг друга обманывать [тайно]». – Ксенофан. Фрагменты // Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989. С.171.
73
Ксенофан, Фрагменты, с.160—163.
74
Эверетт Д. Не спи – кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей. М.: ЯСК, 2016. С.145.
75
Эверетт, Не спи, с.153.
76
Эверетт, Не спи, с.141.
77
Эверетт, Не спи, с.146.
78
Эверетт, Не спи, с.148.
79
Эверетт, Не спи, с.149—150.
80
Эверетт, Не спи, с.151—152.
81
Эверетт, Не спи, с.131.
82
Гумилев, Этногенез, с.298.
83
Кошелев А. Д. Пираха как пример языка, «застывшего» на начальной стадии эволюции// Эверетт Д. Не спи – кругом змеи! М.: ЯСК, 2016. С.341—378.
84
Леви- Стросс К. Мифологики: сырое и приготовленное. М.: FreeFly, 2006. С.15 (курсив и разбивка слова К. Леви- Строса – В.К.).
85
Леви-Строс, Мифологики, с.12.
86
Эверетт, Не спи, с.141—142. Здесь как раз имеет место проявление «скрытых свойств» мифологического мышления, которое определяет то, что, как совершенно справедливо отмечал К. Леви-Строс, проявляется в «…системе аксиом и постулатов, определяющих наилучший возможный код, способный придать общее значение бессознательным продуктам…» – Леви-Строс К. Мифологики, с. 21.Как известно, и упоминаемую книгу К. Леви-Строс создал в форме четырехчастной научной симфонии, выстраивая сюжеты индейских племен Бороро, Же, Оно и т. д. в соответствии со строгой музыкальной логикой (но уже не примитивного, а высокоинтеллектуального западного человека).
87
К. Леви-Строс продолжает мысль: «…она не имеет непосредственного отношения к отличной от нее и более объективной реальности, порядок которой она воспроизводила бы в разуме». – Леви-Строс, Мифологики, с.19.
88
Griaule, M., Dieterlen, G. Un Systeme Soudanais de Sirius //Journal de la Societe des Africanistes. T. XX. Fascicule 1, 1950. P. 273—294.
89
Griaule, M. Masques Dogons. P.,1938.
90
Впервые астрономы получили научные сведения о том, что Сириус является бинарной системой, в 1844 г., а в 1862 г. английский астроном Алван Кларк увидел ее в телескоп.
91
Griaule, Marcel and Dieterlen, Germaine. Le renard pale: Le mythe cosmogonique. Paris: Institute d’Etnologie, 1965. (Griaule M., Dieterlen G. The Pale Fox. Trans. from the French by Stephen C. Infantino. Continuum Foundation (USA), 1965.)
92
Dieterlen G. Essai sur la religion Bambara. P.,1951, p.1.
93
Котляр Е. С. Миф и сказка Африки. / Отв. ред Е.М.Мелетинский. М.: Наука. 1975. С.124.
94
Котляр, Миф, с.15.
95
Котляр, Миф, с.15.
96
Нужно иметь в виду поправку на особенности бытового календаря догонов, а на самом деле у них четыре календарные системы.
97
Dieterlen G. Les Ceremonies Soixantenaires du Sigui chez les Dogon// Africa. Journal of the International African Institute. Vol. XLI, No.1.
98
Темпл Р. Мистерия Сириуса. Они пришли из космоса 5000 лет назад. М.: ЭКСМО, 2005. С.346.
99
Guerrier, Eric. La cosmogonie des Dogon. L’arche du Nommo. P., 1975.
100
Котляр, Миф, с.46—47.
101
Яркий пример, подтверждающий нашу мысль о том, что современные исследователи культуры Африки зачастую поверхностно воспринимают наследие древних племен, мы находим в работе известного французского путешественника и знатока древнейших наскальных рисунков в Сахаре – Анри Лота. Путешествуя по суданской саванне, в непосредственной близости от Бандиагары, он интересовался не догонами, а племенами- скотоводами фульбе (сраженный поразительной красотой женщин племени) и их древними росписями Тассили. (Кстати, именно из-за вражды с фульбе догоны были вынуждены переселиться из Судана. А Лот мог ими не заинтересоваться еще потому, что он изучал кочевых скотоводов, а догоны – земледельцы.) На выставке копий древних росписей Лот встретился с Жерменой Дитерлен, сотрудницей М. Гриоля, которая также интересовалась племенем фульбе. Они обсуждали древние изображения быков. И только благодаря спутнику Дитерлен, воспитанному в племени фульбе-бороро, Анри Лот выяснил, что на росписи изображен обряд лотори, посвященный быкам, и впервые услышал фольклорный миф о том, что быки вышли когда-то из воды к семье пастуха и стали домашними животными. Но для нас совершенно очевидно, что быки, далеко не водные животные, в народных представлениях символизируют древнейших прапредков – водных гигантов, память о которых сохранилась в жреческих мифах догонов. Но Дитерлен почему-то Лоту об этом не рассказала… – Лот А. К другим Тассили. Новые открытия в Сахаре. Ленинград: Ивкусство, 1984. С. 115—116. При этом необходимо подчеркнуть, что именно А. Лот одним из первых выдвинул смелое предположение о палеоконтактах: на древних рисунках он выделил «круглоголовых» существ, которых считал древними пришельцами. Именно экспедиция Лота обнаружила в глубокой пещере гигантскую фреску (6 метров), на которой, по мнению Лота, был изображен «Великий Марсианский Бог».
102
Скрэнтон Л. Тайные знания догонов об истоках человечества. М.: Рипол Классик, 2009.
103
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. СПб. Азбука-Классика; Петербургское востоковедение, 2003. С. 25.
104
Исследователь догонских мифов Владимир Рябцев заметил, что имя бога Тиштрйя, олицетворявшего у древних иранцев Сириус, происходит от индоевропейского термина, означавшего «три звезды»..
105
Богораз-Тан В. Чукчи. Религия. Ч.2. Авториз. пер. с англ. Л.. 1939. С. 17.
106
Богораз-Тан, Чукчи, с.23.
107
Богораз-Тан, Чукчи, с.24.
108
Guerrier, Eric. La cosmogonie des Dogon. L’arche du Nommo. P., 1975. Эта книга была замечена и высоко оценена учеными, отмечавшими общий высокий научный уровень работы, добротность использованного материала и убедительность аналогий меду знаниями догонов и современными представлениями о Вселенной. Примечательно, что Геррье не сразу оценил информацию Гриоля, но только тогда, когда увидел по телевизору, как американский астронавт Олдрин оставляет свой знаменитый след на поверхности Луны (сопровождаемый неумирающим слоганом: «Один маленький шаг человека и огромный скачок для всего человечества»). Геррье вдруг вспомнил описанное в догонском мифе прибытие ковчега Номмо на Землю и след его медной сандалии на поверхности нашей планеты!
109
Котляр, Миф, с.119.
110
Здесь невольно напрашивается аналогия с мнением известного ученого-генетика, одного из первооткрывателей строения ДНК и Нобелевского лауреата, Фрэнсиса Крика, который считал, что человечество – это специальная космическая «тара» для хранения РНК в целях реализации непостижимых нам будущих вселенских программ… – См.: Крик Ф.. Жизнь как она есть: ее зарождение и сущность. М., 2002.