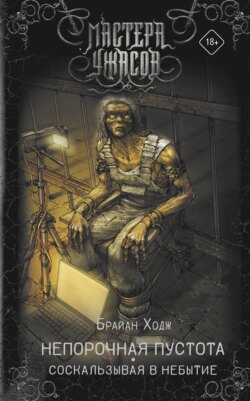Читать книгу Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие - - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Непорочная пустота
Роман
Третья фаза
ОглавлениеКонечно, кажется, словно тут природа хочет искоренить человеческий род, как вещь ненужную для мира и портящую все сотворенное.
Леонардо да Винчи[5]
Мы познакомились на йоге. Обычное дело.
Позже я говорила себе, будто это была моя идея, будто я наконец-то решилась пойти на йогу после того, как столько лет планировала это сделать, – и это правда. Я всегда думала, что йога должна мне помочь, если только я соберусь ею заняться. Кое-что в теле – мышцы и суставы – всегда казалось слишком напряженным: я винила в этом травмы, полученные в тот день в сарае; мне вообще было очень удобно сваливать все на сарай.
Даже я сама замечала, что чрезмерно полагаюсь на это объяснение. На то, с чем никто не может поспорить. Когда у тебя есть оружие, мгновенно обесценивающее чужую позицию, ты на него подсаживаешься, как на своего рода эмоциональный «Оксиконтин». Извини, мама, я не могу сегодня сделать уборку. Сарай, сама знаешь. Прошу прощения, я не могу справиться со стрессом от выпускных экзаменов на этой неделе. И нельзя же от меня ждать, что я удержусь и не позабавлюсь с твоим парнем. Опять же – сарай. Прости, но я не могу ответить тебе такой же сильной любовью. Не могу сегодня прийти на работу. Не могу сдержать обещание быть верной. Не могу выйти из запоя в этом месяце. Это все тот чертов сарай, разве вы не понимаете?
А знаете что? Пусть сарай сходит нахуй хотя бы разок, хорошо? Может, я просто родилась неповоротливой, вот и все. Итак, йога. Наконец-то йога. Вы только посмотрите на меня – беру инициативу в свои руки, вся такая, елки-палки, активная.
Но, с другой стороны…
В моем случае всегда есть какое-то «но». На самом ли деле это была моя идея? Не могло ли выйти так, что мне ее подкинули, а я приписала ее себе?
«Йога для чайников, версия для неуклюжих». Неужели мои преследователи не могут дать мне свободу хотя бы в этом?
Курсы йоги похожи на любое место, куда ты возвращаешься раз за разом. Проведя некоторое количество занятий за изображением собаки мордой вниз, крокодилированием и недобрыми мыслями о собственных мышцах, перестаешь зацикливаться на себе и начинаешь замечать постоянных посетителей. Замечаешь одни и те же несчастные лица. Кого-то ты игнорируешь, и вы оба знаете, что так будет всегда, и это нормально.
А вот другие… Что заставляет тебя снова и снова поглядывать на них? Что заставляет тебя думать: хм-м, кажется, я хочу с ней познакомиться? Что убеждает тебя, будто нормально встретиться с ней взглядом, побуждает улыбнуться, зная, что это не будет истолковано превратно и что никто ни к кому не клеится? Этакое «намасте» – страдающая дура на моем коврике приветствует страдающую дуру на твоем.
Затем вы перекидываетесь парой слов после занятия, после чего, наконец, из твоего рта вылетает нечто такое, чего ты не ожидала произнести вслух никогда в жизни: «Может, выпьем по чашечке масалы?»
Кто вообще так разговаривает? Видимо, люди, занимающиеся йогой. Такие, какими я их представляю, – пусть даже после этих слов я почувствовала себя маньячкой-аутисткой, которая пытается сойти за свою, повторяя фразы, услышанные в чужих разговорах.
Вот как мы познакомились с Бьянкой. Я не могла объяснить, почему меня так к ней тянет – с такой силой, что даже неловко; в детстве меня за подобное задразнили бы друзья: «Тили-тили-тесто, Дафна с Бьянкой вместе чаи распивают, РАЗ-ГО-ВА-РИ-ВА-ЮТ». Поддайся желанию хоть раз, решила я, – а Бьянка уже сидела в кафе, как будто наша нарождающаяся болтовня была самой естественной вещью в мире.
Между первыми глотками мы жаловались друг другу на то, каково быть неповоротливыми девицами в гибком мире Барби-йогинь, а уже через пять минут я знала все об аварии, в которую Бьянка попала, когда ей было восемнадцать. О себе я не распространялась. С такой штуки, как сарай, знакомство не начинают.
Намного легче было признаться ей, что я всегда хотела выглядеть как она. Те несколько попыток покрасить волосы в черный? Ни разу их результат и близко не был похож на то, что от природы ниспадало с головы Бьянки. Ее кожа, этот светлый, сливочно-коричневый оттенок? Хочу. А от зависти к чужим сиськам я к тому времени уже почти избавилась, о да, но было время…
Бьянке хватило такта, чтобы отшутиться и ответить мне тем же – сказать, что это меня генетика одарила всем, что она, взрослея, держала за идеал. Блондинка? Да. Глаза голубые? Да. Худая? Да. Высокая? Ну, это же все относительно, верно?
– Мы всегда хотим того, чего у нас нет, – сказала она мне. – Готова поспорить, ты ни разу в жизни, молясь, не говорила: «Спасибо тебе, Господи, что сделал меня валькирией».
Боже, эта женщина умеет льстить.
И, наверное, хорошо, что я унялась тогда, когда унялась, не сообщив в подробностях о том, как сильно мне понравились ее бедра, ее широкие, мягкие бедра, потому что ни одной женщине не положено мечтать о бедрах побольше. Но Бьянка казалась сильной, вот в чем было дело. Мне нравилось, насколько сильной она выглядит – словно женщина с картины Фрэнка Фразетты в одном из артбуков Аттилы. Так, будто с помощью своих рельефных, похожих на лошадиные, ляжек она могла бы пинком отправить Уэйда Шейверса в полет сквозь стену.
И все же, при всех наших различиях, в ней чувствовалось нечто столь знакомое, что я знала – если не пущусь за этим в погоню, буду потом жалеть всю жизнь. Опять же – что заставляет тебя уставиться на человека на тротуаре или на другой стороне людной комнаты и подумать: «Вот он. Вот этот человек. Этот незнакомец, так непохожий на всех остальных, кажется чем-то большим».
Кто-то назвал бы это феромонами. Кто-то – влечением. Слиянием флюидов.
Я в данном случае назвала бы это ебаной жуткой манипулятивной судьбой.
К тому времени, как остаток масалы остыл на дне наших чашек, я начала понимать, в чем тут дело.
– Ты мне кое-кого напоминаешь, – призналась я Бьянке. – Кое-кого из очень далекого прошлого. Ты первая, кто мне о нем напомнил.
Бьянка выглядела так, словно не знала, быть ей польщенной или насторожиться, но готова была предоставить мне кредит доверия. Должно быть, она думала, что речь идет об учителе, старом друге или любимом кузене, с которым я давно не общалась. «Кого?» – спросила она.
– Его звали Броди. Броди Бакстер.
Называть его имя было рискованно. Все мы, дети сарая, долго мелькали в национальных новостях, хотя мое имя в те недели буйства прессы не называлось, потому что: а) ребенок, б) выжившая и в) никто на таком раннем этапе не мог быть уверен, что у Уэйда Шейверса нет больного подражателя, готового выползти из-под какой-нибудь поленницы, чтобы меня добить.
Но Броди? Теоретически Бьянка могла о нем вспомнить. А если бы вспомнила, у нее было бы полное право испугаться. Однако – кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно?
Его имя ничего ей не сказало. Просто ожидала она совсем не этого.
– Парня? Я напоминаю тебе какого-то парня? – Голос у нее был изумленный и немного разочарованный.
– Он был мальчиком. Маленьким мальчиком, очень особенным. Его родители не знали, как с ним быть. Он вечно говорил о самых необычных вещах. Как будто не вполне принадлежал этому миру.
Похоже, мои слова попали в цель и что-то для нее значили. Прекрасные темные глаза Бьянки расширились – даже зрачки, – как будто на каком-то животном, необходимом для выживания уровне она знала, что должна внимательно выслушать все, что будет сказано дальше.
– У Броди была потрясающая аура. Очень похожая на ту, что окружает тебя.
– Что с ним стало?
Я провела рукой по столу и накрыла ее ладонь, и в этот момент Бьянка стала моей; на ощупь она была потрясающей – мне кажется, подобное можно было бы ощутить, если одновременно погладить льва, единорога и гигантскую секвойю.
– Он был слишком хорош для этого мира. Слишком чист, что ли. Поэтому он ушел, – сказала я. – И оставил после себя маленькую круглую дыру.
* * *
Вызов поступил через час после рассвета – прежде, чем Таннер был к нему готов, но выбирать, когда людям попадать в неприятности, он не мог. Скалолаз по имени Джош Козак занимался свободным лазанием в неприветливой двухмильной расселине, известной под именем «каньон Коттонвуд», и застрял на песчаниковом карнизе шириной в два скейтборда. Выше подняться Джош не мог, а поскольку на карниз он перескочил, то, оказавшись на нем, не был уверен, что сумеет безопасно спуститься вниз. Если бы он спрыгнул и не сумел ухватиться за узкий каменный выступ, его бы ожидало падение на камни с высоты двухсот шестидесяти футов.
Хладнокровие покинуло его, и телефон тоже. Джош выронил его прежде, чем сумел вызвать помощь, чем обрек себя на ожидание до тех пор, пока мимо не прошла парочка туристов, до которых он смог докричаться уничтоженным жаждой голосом. Он просидел там половину позавчерашнего дня, весь вчерашний и две ночи.
На то, чтобы осознать ограниченность своих возможностей, ему ума хватило. Зато он натворил глупостей во всем остальном – влип в передрягу без веревки и спутников, да еще и не сказав никому, куда собирается.
Таннер отправился за ним с тремя напарниками, несколькими сотнями футов веревки, дополнительными обвязкой и шлемом, а также несколькими фунтами еды, воды, медикаментов и всего того, что еще могло им понадобиться. Они знали, где он, знали эту стену. Джош застрял ближе к вершине, чем к основанию. Быстрее и проще было добраться до него сверху, чем подниматься снизу.
Они подлетели к каньону на вертолете и за полмили до места приземлились на ровном участке, где высадили Камиллу, которая должна была пройти остаток пути пешком, сообщить Джошу, что они прибыли, и объяснить, чего ожидать в ближайшие полчаса. Пока она добиралась до него, они снова поднялись в воздух и обогнули каньон по дуге, приблизившись к нему с другой стороны, чтобы воздушный поток от лопастей не попадал на стену.
Они приземлились на вершине, на плоском и голом куске каменистой земли в сорока ярдах от обрыва, настолько близко к росшим у края низкорослым сосенкам, насколько готов был это сделать пилот. Он выключил турбины, и вокруг сомкнулась первобытная тишина. О более идеальном дне и просить было нельзя. Чистое темно-синее небо, солнце стоит так высоко, что не дает бликов, дождя не предвещается, а ветер лишь изредка превышает пять миль в час.
Высадившись, Таннер и двое его напарников закрепили веревки на паре лебедок, приделанных к борту вертолета. Они подошли к краю, миновав редкую цепочку искореженных стихиями сосен, чьи стволы за десятилетия роста на ветру закрутились штопорами. Таннер и Шон, второй скалолаз, которому этим утром предстояло заниматься поднятием тяжестей, подтащили веревки к обрыву и спустили их вниз, по обе стороны карниза – обиталища Джоша на протяжении последних сорока четырех часов.
Посмотрев вниз, они увидели в девяноста футах под собой его макушку. Когда они крикнули, что спустятся через несколько минут, Джош поднял голову, и стало видно, что лицо у него кирпичного цвета.
Сорок четыре часа с обгоревшей под солнцем кожей на этом карнизе не могли на нем не сказаться. Выспаться как следует он бы не сумел – в лучшем случае время от времени улучал несколько мгновений. Из еды у него с собой был разве что энергетический батончик. Вода, скорее всего, закончилась быстро, а при таком сухом воздухе – когда Таннер проверял в последний раз, влажность составляла двадцать четыре процента – к сегодняшнему рассвету он, должно быть, готов был слизывать росу с камней. Если мозг как следует просушить, он начинает выкидывать странные вещи; обезвоживание открывает двери помрачению рассудка.
Таннер отошел от края и вызвал по рации Камиллу, стоявшую у подножья стены.
– Мы готовы спускаться. Что скажешь об этом парне? Он в здравом уме?
– Более-менее в здравом, – ответила Камилла. – Но… Он спрашивал о тебе. Называл тебя по имени.
– Что?
– Он кричал мне, не ты ли будешь за ним спускаться. Таннер Густафсон. Он знал, как тебя зовут. Не спрашивай откуда.
– И ты точно в этом уверена. – Голос Таннера звучал напряженнее, чем ему бы хотелось. Он ведь должен был быть скалой, на которую все опираются. – Ерунда какая-то.
– Расспроси его, когда снимешь с карниза. Может, все проще, чем ты думаешь.
– Репутация тебя опережает, – ухмыльнулся Шон и похлопал его по плечу. – А как же «главное – команда», мужик? Я думал, у нас тут рок-звезд не бывает.
– Иди в жопу. Когда спустимся, я имею в виду. Тогда иди в жопу.
– В какой же нездоровой обстановке приходится работать, честное слово.
Таннер закатил глаза.
– Как пожелаешь. Иди в жопу сейчас.
– Ты уверен, что сможешь сегодня поднять такую тяжесть? Этого чувака, да еще и свое эго в придачу?
Они прицепили веревки карабинами к обвязкам и заправили их в тормозные устройства, чтобы держать спуск под контролем, а когда понадобится – остановиться. Надели перчатки, затянули шлемы, сделали серьезные лица. А потом спиной вперед шагнули за край и начали, отталкиваясь от стены, плавно спускаться по веревке по несколько футов зараз.
«Он спрашивал о тебе. Называл тебя по имени». Это озадачивало, но Камилла наверняка была права. Объяснение окажется простым. Например, когда-то давно они выручили из беды друга Джоша. Или Джош читал про Таннера в какой-нибудь новостной заметке. Или приходил к нему на семинар – важной частью работы Таннера, как директора поисково-спасательной службы Скалистых гор, были мероприятия по технике безопасности – и ему было стыдно признаться, что он проигнорировал элементарные правила. Например, «не будь тем идиотом, который никому не рассказывает, куда едет».
Полпути пройдено. Справа от него Шон осторожно обогнул выступ, напоминающий хищный зуб, и продолжил спуск.
С другой стороны, кому после сорока четырех часов вообще будет дело до того, кто за ним придет, если помощь уже в пути? Может быть, так у Джоша проявлялось помрачение рассудка: в виде одержимости незначительными деталями.
Осталось десять футов.
– Потерпи, Джош. Просто не двигайся с места еще пару минут. Ты отлично держался все это время. Еще пара минут, и все будет в порядке, братишка.
Они уже могли разглядеть его как следует. Даже с обветренной и обгоревшей кожей и потрескавшимися губами он выглядел так, словно еще не перевалил за третий десяток. Коротко остриженные волосы – чуть длиннее, чем двухдневная щетина на подбородке. Кончики пальцев Джоша были ободраны и покрылись коркой.
– Посиди там еще немножко, а потом мы сделаем вот что…
Блядь. Он встал. Джош встал, а они еще не подобрались настолько близко, чтобы его поймать.
– Ладно, – сказал Таннер. – Будем работать с этим.
Вообще-то Джош должен был то садиться, то вскакивать все проведенное здесь время, пытаясь найти удобное положение. Но это не имело значения. Видеть, как он поднялся сейчас, все равно было страшно. Это значило, что он не слушает. Когда помощь оказывалась так близка, люди иногда теряли терпение и пытались ускорить ход дела, словно утопающие, которые цепляются за спасателя и утягивают его за собой под воду.
Таннер зафиксировал веревку, Шон сделал то же самое. Первым делом они должны были убедиться, что Джош ясно соображает, что он неожиданно не бросится на кого-нибудь из них, как только они окажутся в пределах досягаемости. Такое случалось. Человек, который провел в страхе слишком много времени, прыгает и хватается за колени спасателя, и вот тогда ситуация становится по-настоящему напряженной.
– Мне нужно, Джош, чтобы ты стоял совершенно неподвижно. Понимаешь?
– Ты – Таннер, да? – спросил парень.
– Верно. А этот здоровяк справа от меня – Шон. И пока ты будешь стоять совершенно неподвижно, он спустится к тебе и наденет на тебя обвязку. Хорошо?
– Ты брат Дафны? Ее ведь так зовут, Дафна? Я правильно помню?
Таннер замер, держа руку на тормозном устройстве, и поймал взгляд Шона. «Это что-то новенькое». А Шон, возможно, поймал его взгляд. «Что вообще происходит?»
– Поговорим о ней позже, хорошо?
– Нет… Думаю, нам лучше поговорить о ней сейчас. – Голос Джоша превратился в сухой хрип, его даже слушать было больно. – Я ее не знаю. Но те, кто со мной говорит, знают. Они… они хотят, чтобы ты оставил ее в покое. Они хотят, чтобы ты перестал искать. Она должна выполнить свою работу.
Таннер понятия не имел, что на это ответить. Он висел в двухстах шестидесяти футах над землей, полностью онемев. Он должен был быть скалой. Тем, кто всегда знал, что делать. Но здесь главным был вовсе не он.
А это растерянное выражение ему уже случалось видеть на чужом лице.
– Сколько я здесь провел?
– Больше сорока часов. Достаточно долго, – ответил Шон. – Мы сможем все это обсудить после того, как…
– Нет, этого не может быть. – Джош яростно растирал подбородок и щеки. – Отсюда видно так много. По ночам небо распахивается, и можно понять, насколько ты на самом деле потерян. Кажется, словно прошли… целые жизни.
Таннер снова обрел голос и, хотя знал, что не должен об этом спрашивать, все же не смог удержаться:
– Кто с тобой разговаривал? Кто они такие?
Шон снова взглянул на него: «Что ты делаешь? Не подыгрывай ему, мужик. Не поощряй его».
– Те, кто странствует по паутине. Те, кто рожден бездной. Рожден… – Джош, судя по всему, нашаривал слово так же яростно, как его ободранные пальцы, должно быть, нащупывали непрочную опору. – Гинугангапом. Они говорят, что недавно с тобой уже встречались. Но сосуд оказался несовершенным. И слабым.
«Потерян», – сказал Джош. Таннер ощущал себя точно так же. Он висел в нескольких сотнях футов над землей, там, где всегда чувствовал себя уверенно, но вместо этого ему казалось, что он вышел из фуги на огромной непроходимой равнине, лишенной солнца и серой, не зная, где восток и где запад, а рядом не было никого, кто мог бы объяснить, где он оказался. Он был потерян.
– Они хотят, чтобы я стянул тебя с веревки. Я сказал им, что, скорее всего, не смогу этого сделать.
Совершенно потерян.
– Поэтому теперь они хотят, чтобы я спросил у тебя, останется ли от меня такое же жуткое месиво, как от него.
Шон среагировал первым, разблокировал тормоз, позволяя веревке уноситься вверх, а сам, отталкиваясь, заскользил вниз, замедляя падение одной рукой и стремительно, резко, отчаянно вытягивая другую. Он успел зацепить плечо Джоша – футболку и немного кожу, вот и все, – но этого не хватило. Джош уже падал вперед, вовне и вниз, в пустоту между карнизом и безжалостными камнями на дне каньона.
И нет, когда он упал, месиво от него осталось не такое жуткое, как от Вала, но по-своему оно было хуже, потому что Таннер сознавал: он должен был раньше сообразить, что происходит.
* * *
Итак, в чайной, во время унизительно штампованных посиделок за масалой после йоги… вот как я обрела свою новую лучшую подругу, Бьянку. Обстоятельства как будто складывались в мою пользу: с моей стороны – чувство узнавания, со стороны Бьянки – ощущение, что ее, быть может, впервые в жизни по-настоящему разглядели. Не только внешность, но и то, что скрывалось внутри нее, в самой глубине, там, где душа переплетается с двойной спиралью ДНК, в пустотах между субатомными частицами, то обретающими, то утрачивающими бытие, пребывающими в двух состояниях одновременно.
Бывают встречи, которые кажутся случайными и неожиданными, и другие, которые кажутся предопределенными судьбой, – но это был какой-то новый уровень неизбежности, будто сама Земля пошевелила корой, подтолкнув нас друг к другу. Я часто слышала, что так должна ощущаться любовь, но подобного со мной не бывало, ни разу.
А это? Это было чем-то настоящим. Я просто не понимала почему.
Дома я ничего не рассказывала об этом Валу, потому что знала: он будет всячески одобрять то, что я запала на девочку, а мне не хотелось иметь дело с его подхалимской поддержкой. Он желал мне добра, но только опошлил бы что-то чудесное. Даже самые гибкие йоги на свете аплодировали бы Валу, видя, как он изворачивался, лишь бы я поняла, насколько сильно он обо мне заботится. А если бы он узнал, что моя новая подружка родом из Коста-Рики – боже, он пришел бы в такой восторг, что мне пришлось бы отдирать его от потолка.
Впрочем, все могло быть и хуже. Я могла бы возвращаться домой к кому-нибудь вроде мужа Бьянки. Звали его Грегг, по профессии он был маркетинговым директором, а по натуре – закомплексованным. Он каким-то образом слышал, когда в его имени не произносили все три буквы «г», а его новейшей и величайшей боязнью было то, что я – лесбиянка, которая метеором обрушилась на их головы, чтобы обратить его жену в свою веру и увести от него.
Увы, логикой такие низкотестостероновые страхи не перебьешь. И плевать, что у меня был мужчина. Или что предыдущего парня, с которым я кувыркалась, звали, черт побери, Аттила, и от него-то как раз все тестостероновые счетчики зашкаливали; мне это в нем нравилось, и я, может, так и осталась бы с ним, если бы его мизантропия не сделалась настолько утомительной. Он реально ненавидит людей. Киски любит, а людей ненавидит. Прости, милый, но тут уж либо одно, либо другое, потому что киски – тоже люди.
Так вот: Бьянка и Грегг? В ту же минуту, как мы познакомились, я поняла, что им осталось максимум пять лет. Семья определенно многое значила для Бьянки, а средоточием этой семьи был прелестный четырехлетний центр притяжения по имени Мэгги, предпочитавший отзываться на Сороку. Но в конце концов Бьянке предстояло принять то, о чем, по-моему, она и так уже подозревала: семья не обязательно должна получиться с первого раза. Ее можно пересобрать из старых и новых деталей. Бросить злобно зыркающего, брюзгливого надоеду Грегга со всеми его тремя «г». Найти себе парня вроде Таннера – а такие бывают, – который сочетает в себе лучшие черты наших прежних, второсортных мужичков, хотя бы пытается не творить херню и всегда будет готов подставить плечо и не судить, когда тебе это понадобится.
Наплевав на опасения Грегга, мы с Бьянкой завели привычку устраивать посиделки после йоги и всегда пили масалу, а порой я ходила вместе с ней и Сорокой на детскую площадку в парке и созерцала дворовых обезьянок в их естественной среде обитания. Весело.
Я была свидетельницей тому, как легко Бьянка общалась с дочерью, как воспитывала ее, не сажая на короткий поводок, и как целовала ссадины, чтобы они быстрее прошли, не устраивая громкой суеты, чтобы ее дочь могла вырасти смелой и уверенной в себе. Наблюдать за этим было привилегией; я словно бы заглядывала под землю и видела, как семя раскрывается, устремляя к солнцу свой потенциал.
«Вот как это бывает, это вовсе не миф, – думала я. – Вот какой бывает хотя бы одна сторона будничной жизни».
Но это же и пугало меня. Я ведь знала, как сильно все может измениться за один-единственный день. Я сидела на парковой скамеечке рядом с Бьянкой и выглядывала в округе неприметных, не являвшихся отцами парней, которые без видимых причин слишком долго смотрели на детей. Мои шрамы ныли, как антенны. Но меня бесила эта паранойя, потому что мужчинам тоже должно быть позволено наблюдать за игрой детворы, наслаждаться ее простой и буйной радостью, без моих подозрений, что кто-то из них замышляет утащить отбившегося от стаи ребенка в свое логово. Было лишь делом времени, чтобы один из них, неважно, невинный или нет, сделал что-то не так, и я узнала бы в нем переродившегося Уэйда Шейверса, сорвалась бы, устроила сцену, и… помнишь, Бьянка, как в день нашего знакомства ты назвала меня валькирией? Так вот, смотри.
Я так запуталась. Бывали дни, когда мне просто хотелось избавиться от страха и паранойи. Я любила эту женщину и хотела заползти между ее мягких бедер, а потом повернуть назад и родиться заново, чтобы она неделю носила меня на руках и качала. Я хотела вновь стать чистым листом, непорочной пустотой, которую Бьянка заполнила бы всем, что знала, всем, что передали ей поколения коста-риканских матерей с широкими ступнями и мудрыми глазами.
А в другие дни? В другие дни мне хотелось перестать маяться хуйней, перестать убегать и начать реализовывать свой потенциал превращения в нечто куда худшее. Что-то явно хотело, чтобы я это сделала. Оно так сильно старалось ко мне пробиться, и я прослушала его послание столько раз, что оно навсегда врезалось мне в память.
Ты должна их убить.
Ты должна их убить ради нас.
Ты должна их убить ради себя.
Ты должна их убить ради своего мира.
Я видела в парке мужчин, ухмылки которых находились на самой грани того, что я считала приемлемым, и поначалу думала, что в послании говорится о них. Если кто и не заслуживал права на жизнь, так это Уэйды Шейверсы нашей планеты, и вот Вселенная наконец-то решила исправить эти ошибки. Неупокоенные души убитых детей собрались вместе и нашли способ связаться со мной. Они хотели, чтобы я отомстила за них. Я у них в долгу, потому что до сих пор жива. Они хотели, чтобы я охраняла то, чего мы лишились, наносила упреждающие удары во имя тех, кто еще жив.
Ты узнаешь их, когда почувствуешь их.
Ты узнаешь их, когда увидишь их.
Ты узнаешь их, когда прикоснешься к ним.
Это должна была быть я. Кто еще, кто больше меня годится для этого? Меня навсегда заклеймило прикосновение девиантов-убийц, которым хватало наглости приносить муки, называя их спасением. Одной мне опыт позволял сделаться меньшим из двух зол.
Ты узнаешь, что рождена для этой цели, когда сделаешь это.
Ты узнаешь зачем, когда это случится.
Их кровь станет залогом твоего бессмертия.
Но с другой стороны, думала я, в такой миссии большую роль должна играть абсолютная уверенность. Не должно было оставаться никаких сомнений, а они переполняли меня. Особенно после того дня, когда я уставилась мимо Сороки на затаившегося мужика, чей взгляд мне СТОПРОЦЕНТНО НЕ ПОНРАВИЛСЯ, – явного извращенца, при виде которого у меня в голове взвыли все сирены. Если бы мне пришло в голову забрать с собой один из топоров, висевших на стене у Аттилы, я бросилась бы и разрубила ему череп с полной уверенностью, что ни один суд присяжных в мире не признает меня виновной. «Все нормально, ребята! Я знаю этот взгляд! Я знаю, к чему он ведет, я ведь побывала в сарае!»
А потом он позволил трем детишкам, звавшим его папой, подкрасться и наброситься на него, и сделался совершенно другим. Самый обычный Веселый Папаша, занятый тем, чем обычно занимаются Веселые Папаши.
Мне приходилось нелегко, даже когда я просто думала, что кого-то обидела, и чувствовала себя говном несколько дней подряд. А ошибись в подобном – и обратного пути не будет. «Простите, детишки. Простите, что убила вашего папочку. Он мне кое-кого напомнил. Это не его вина. Но вы молоды, выносливы, и однажды от этого оправитесь».
Нет, это бы меня прикончило.
Единственной, в связи с кем я ощущала полную уверенность…
…была Бьянка.
Я узнала ее, когда почувствовала ее. Я узнала ее отчетливее, когда увидела. Я узнала ее так сильно, как никогда, когда прикоснулась к ней, накрыла ее ладонь своей, сидя за столом в чайной. Я знала, что нашла ту, кого искала, даже не понимая этого.
Кому она могла помешать?
Кто мог желать смерти этой женщине или ожидать, что я ее убью?
* * *
Конечно же, люди, которых они пытались спасти, гибли и раньше. Просто не так.
Таннер никогда не встречал тех, кто решил расстаться с жизнью. Прыгуны, случалось, тоже отправлялись на природу, но прыгуны, которым нужны были зрители, оставались в городах – там, где есть высокие здания и люди.
Но, хотя финал ситуации был очевиден, Таннер вовсе не был уверен, что она шла к этому изначально. Только не после того, что он успел увидеть, услышать, почувствовать на этой неделе.
В какой-то момент в течение этих сорока четырех часов внутри у Джоша Козака что-то сдвинулось. Таннер знал десяток таких Джошей. Два десятка. В детстве их кумиром был Человек-паук, и они его так и не переросли. Они занимались скалолазанием, потому что ничто иное не помогало им почувствовать себя настолько живыми, и им даже в голову не могло прийти вернуться домой и не начать планировать следующий подъем.
Джош не для того отправился в этот каньон, чтобы умереть. Его…
Использовали? По крайней мере, так Таннеру казалось. Нашли, присвоили и использовали. И Вала тоже. А использовав, их обоих выбросили.
Один из членов команды предложил вечером сходить выпить, но это была автоматическая реакция – может показаться, что ты обязан это сделать, увидев, как молодой мужчина падает головой вниз с высоты двухсот шестидесяти футов. Так спасателям полагалось стирать из памяти вид мозгов, расплескавшихся по восьми или девяти квадратным ярдам камней.
Но это было не в их стиле – Таннера и остальных. Он редко выпивал, а когда все же пил, то потому, что для этого был радостный повод, а сейчас радоваться было нечему.
Скорбь? Гнев? Смятение? Их в выпивке не утопишь. Они подкараулят тебя, когда ты протрезвеешь, и станут только сильнее, потому что сам ты ослабнешь, Нет, есть способ лучше. Можно справиться с тем, что случилось у тебя на глазах, если выйти из дома и случиться с кем-то еще.
Ты запрыгиваешь в грузовик с лучшим другом, парнем, который видел, как это случилось, вися вместе с тобой на высоте двухсот шестидесяти футов. Тем самым парнем, который весь день грыз себя – ведь, разблокировав тормоз секундой раньше, он мог бы поймать прыгуна по-настоящему, а не просто ухватиться за непрочную ткань, когда тот уже падал. Он мог бы спасти его, а не остаться с обрывком футболки в кулаке.
Теперь Шона тоже сжигала нужда. Никто не обязан записывать потери на свой счет, но Таннер не встречал ни одного человека, способного провести эту границу. Отстранение – для тех, кто никогда не встает из-за офисного стола. Нельзя радоваться победам, не принимая провалы близко к сердцу. Особенно такие странные.
Забравшись в грузовик, вы отправляетесь в северный Денвер, по прежнему адресу твоей сестры, который ты нашел в одном из ее телефонов. Без плана – это всего лишь еще одна из беспорядочно разбросанных точек, которые – ты веришь – в конце концов соединятся между собой.
Вы пару раз объезжаете квартал, все улицы и переулки, в поисках машины сестры. Не обнаружив ее, останавливаетесь на грязной улице в районе, до которого словно до сих пор не дошли вести, что в стране вообще-то экономический подъем. Множество кирпичных зданий и замызганных витрин, заключенных в клетки из кованого чугуна. Магазин сантехники, судя по всему, еще не прогорел. «Кулинарии Дельмонико» и «Цветам от Фиби» повезло меньше.
Потом вы устраиваетесь поудобнее и дожидаетесь конца рабочего дня и последнего света солнца, которое клонится к горам на западе.
Вы принимаете эти скорбь, и гнев, и смятение, и ждете, когда можно будет случиться с говнюком, называющим себя Аттилой.
* * *
Иногда я забывала задаться вопросом, какой увидела меня Бьянка, когда пригляделась повнимательнее. Я всегда считала само собой разумеющимся, что когда люди со мной знакомятся, то уже через пару минут все просекают: «А, верно, Дафна Густафсон. Та девица, чьей фоткой в Википедии проиллюстрирована статья „Хроническая неудачница“».
Но мне стоило сообразить, что с Бьянкой будет не так. Валькирия… прежде меня никто так не называл.
И все равно мне и в голову не приходило, что из нас двоих это она может при взгляде на меня видеть женщину, которая что-то понимает в жизни и смотрит в будущее ясно, уверенно и смело.
Откровение случилось в парке, одним прохладным, сырым днем в конце мая. На этот раз мы предусмотрительно захватили масалу с собой; у меня был обеденный перерыв, а у Бьянки – выходной. Даже не глядя на нее, не сводя глаз с детской площадки, я отпустила какую-то дурацкую шутку о том, что Сорока, видимо, эпигенетически унаследовала гены паукообразной обезьянки. Вот только Бьянка ее не расслышала. Какое-то время она сидела, маринуясь в таком молчании, во время которого ожидаешь, что на тебя сейчас с грохотом обрушится что-то тяжелое.
– Если я тебе кое-что расскажу, ты не подумаешь, что я плохая?
Я ответила ей, что постараюсь, или что-то столь же легкомысленное, потому что ну насколько плохой могла оказаться Бьянка даже в самый худший свой день?
– Большую часть времени мне кажется, что на самом деле она не моя.
Бьянка говорила о Сороке. Я немедленно почувствовала себя не в своей тарелке, потому что опыт общения с молодыми мамами у меня был невеликий. И так-то плохо, что мы принадлежим к виду, особи которого, в отличие от собак, кошек и слонов, появляются на свет, ничего не зная о материнстве, и поэтому вынуждены учиться по ходу дела.
Аттила в моей голове спросил: «Разве это похоже на биологию вида, который хочет продолжать существовать?»
Одна из моих мозговых клеточек заискрила и выдала словосочетание «послеродовая депрессия». Но мне никогда не казалось, что у Бьянки депрессия. Для меня она была воплощением счастья и светлого чуда, а зачастую – и чувственной грации. Мозг предпринял еще одну попытку и слепил воедино слова «послеродовая диссоциация». Я понятия не имела, существует ли такая штука на самом деле, но звучало хорошо.
– А чья же она тогда? – И, потому что не представляла себе, как может проявляться центральноамериканское католическое чувство вины, я вынуждена была уточнить: – Она ведь дочь Грегга, правда?
Бьянка рассмеялась, скорее не из-за вопроса, а из-за того, как он прозвучал: будто я на цыпочках кралась по минному полю.
– Да, она дочь Грегга. И я не имею в виду, что я ее не рожала. Она просто…
Было ясно, что Бьянка ни с кем больше не могла этим поделиться. Никогда. Она держала это в себе четыре года, и держала бы вечно, если бы не появилась пара подходящих ушей.
– Я люблю ее, – поспешно, словно защищаясь, добавила она. – Я на что угодно ради нее готова. Но то же самое я чувствую и по отношению к тебе, тетушка Дафна. Я не…
Ей было сложно даже облечь это в слова. У Бьянки было круглое лицо и кожа, которая даже в дни предменструального ада отгоняла от себя любые намеки на прыщи; порой она выглядела юной, а теперь казалась студенткой, пытающейся сообразить, как ей жить.
– Я не чувствую, что мы с ней одного вида. Это как в сказке, где лесной зверь заботится о брошенном умирать младенце. В моем сердце есть место для любви к ней. Но мы не одного вида. Я знаю, что должна чувствовать, но не чувствую этого, и мне кажется, что я самозванка.
Вот теперь мы забрались на территорию, где у меня был какой-никакой опыт.
– Не хочу обесценивать твои сомнения… Но мы все чувствуем себя самозванцами. И единственное, что мы можем сделать, – не сдаваться и притворяться, будто это не так. Что, наверное, только усугубляет проблему.
– Ты не понимаешь. Я это чувствовала еще до того, как забеременела. Чувствовала всегда. Я думала, что ребенок меня исправит, подтолкнет к тому, чтобы стать нормальной, что ли. Но она только сделала это еще более очевидным.
Бьянка повернулась ко мне лицом, одна мутировавшая душа перед другой.
– Понимаешь, я точно так же не чувствую, что мы с тобой одного вида. Разница в том, что я могу тебе об этом рассказать и знаю, что ты меня поймешь и не осудишь. А ей я сказать не смогу. Ни сейчас, ни потом, когда она повзрослеет и сумеет понять. Даже попытаться сделать это будет слишком жестоко, я просто не вынесу.
Молчаливое страдание – оно такое. Может годами происходить прямо у нас под носом, но когда оно наконец выплеснется наружу, мы удивимся, что умудрились его проглядеть. Я обняла Бьянку и убрала волосы с ее лица, чтобы утереть слезу.
– Хотела бы я снять с тебя эту ношу. Хотела бы я взять ее на себя. – Мне ведь уже случалось выносить удары судьбы, знаешь ли. – Хотела бы я чем-то тебе помочь, а не только выслушать. Потому что просто слушать – это как-то жалко.
– Ты можешь помочь. – Она отстранилась и посмотрела мне в глаза. – Ты говорила, что я напоминаю тебе одного маленького мальчика. Что родители не могли понять его, потому что он не принадлежал этому миру. Ты говорила о нем так, словно он умер. Кажется, его звали Броди. Ты можешь рассказать мне о нем. Расскажи мне о Броди.
* * *
Таннер навел бинокль на мертвый цветочный магазин Фиби, стоявший на противоположной стороне улицы, через два дома от машины. Нацелился на табличку с номером, прикрученную рядом с решетчатой металлической дверью, утопленной на пару футов в кирпичной стене.
– Вон та дверь, – сказал он. – Которая, кажется, ведет на второй этаж. Он должен жить там.
– А его правда зовут Аттила?
– Надеюсь.
Шон задумчиво кивнул.
– Понимаю. По крайней мере, тогда ты будешь знать, с кем имеешь дело.
Таннер отложил бинокль на приборную доску.
– В смысле?
– Имя способно определять судьбу. Если он всю жизнь прожил с этим именем, то вынужден был соответствовать ему. – Типичный, классический Шон, в медленной и обманчиво сонной манере разъясняющий мир и тех, кто его населяет. – Это груз, который ему приходилось носить на себе всю жизнь, и он уже давно должен был с этим освоиться. Аттила… к такому имени прилагаются ожидания. Оправдывать их – путь наименьшего сопротивления.
Прекрасно. Чувак с замашками вождя, обустроивший себе цитадель над закрывшимся цветочным магазином.
– А вот если он взял себе это имя несколько лет назад, решив, что оно сделает его круче, – значит, он позер, и ты не знаешь, с чем именно имеешь дело.
– А ведь ты его даже еще не видел.
– Очень может быть, что я несу херню.
Вот только обычно он оказывался прав. Шон отличался длинными руками и ногами, вечным прищуром, тягучим голосом и дружелюбием человека, со старшей школы привыкшего, проснувшись, первым делом забивать косяк. Вот только он был таким от природы. Настоящий Шон мог сотню раз подтянуться из мертвого виса за пять-шесть подходов и в мельчайших подробностях пересказать тебе многолетней давности разговоры, о которых ты давно забыл.
По возрасту он был ближе к Дафне, чем к Таннеру. Шон мог бы быть его братом, но судьба не настолько благосклонна. Или зятем – вот это было бы чистое счастье, способ исправить хотя бы одну ошибку Вселенной, но и над этим судьба тоже посмеялась бы. Дафне он бы не подошел, максимум на одну ночь. Накачанные «кубики» на теле баскетболиста… это бы ей понравилось. Но Шон никогда бы не сделал ей больно, и вот это стало бы для Дафны камнем преткновения.
– Тот, э-э… парень, которого мы сегодня потеряли, – начал Шон. – Он мог где-то познакомиться с твоей сестрой?
– Хотел бы я знать. Тогда мне было бы проще все это уложить в голове. Но по его словам было непохоже. Скорее он просто знал о ней.
– То, что он говорил… это же был не полный бред, да? Ты его понимал. Я видел это по твоему лицу.
Таннер кивнул.
– Часть его слов попала в яблочко.
– И как ты это объяснишь?
– Никак.
– Он говорил, что узнал о ней от тех, кто странствует по паутине. Это его слова, не мои. Он называл их «те, кто рожден бездной». Гинугангапом. Я-то не понял, что это значит, а вот ты, похоже, да.
– Он немного ошибся с произношением, но не сильно. Я понял, что он пытался сказать. «Гиннунгагап». Это такая штука, о которой ты скорее узнаешь, если рос под какой-нибудь фамилией типа «Густафсон». Она из скандинавской мифологии. Это бездна абсолютной пустоты, из которой появилось все сущее и куда ему суждено провалиться, когда Вселенной придет конец.
– И это прилетело ему в голову после сорока четырех часов на карнизе.
– Он мог об этом и раньше знать. Это же не засекреченная информация какая-нибудь.
– Да, но она очень своеобразная. Основную-то идею можно найти в куче мифологий. Как в первой главе «Бытия». «В начале…» Помнишь? «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». То же самое, тебе не кажется? Гиннунгагап – это просто версия, которую придумал твой народ.
– Мой народ?
– Диаспора викингов. – Когда Таннер начал возражать, Шон утихомиривающе поднял палец. – Не бухти. Тебе повезло. У меня вот народа нет. Только бесформенная масса протестантов. Она больше похожа на фирму, лоббирующую майонез. – Он уставился на свои руки, плотно стиснутые вокруг незримого центра. – Все это – различные способы говорить об одном и том же, о том, что древние философы, должно быть, знали на интуитивном уровне. – Шон изобразил губами грохот взрыва и развел руки. – О Большом взрыве – что еще это может быть? А если твой народ предвидел, что все снова коллапсирует в одну точку, значит, они и о Большом сжатии представление имели. – Он хлопнул в ладоши. – А это очень круто для кучки агрессивных фермеров.
Затем Шон потратил некоторое время на рассуждения о том, кто победил бы в схватке между викингами и гуннами, и не смог увидеть иного исхода, кроме гарантированного взаимного уничтожения. Что вполне могло оказаться завуалированным предупреждением, чтобы Таннер не устраивал драку с этим парнем, если они его увидят. И не исключено, что он действительно нуждался в сдерживании, потому что, когда появился Аттила, Таннер возненавидел его с первого взгляда.
Аттила вылез из «Доджа-Чарджера», остановившегося на узком парковочном месте между его домом и соседним. Таннер поднял бинокль. Он узнал Аттилу по нескольким смазанным фото с одного из телефонов Дафны. Тот оказался чуть выше Шона, но гораздо шире в плечах и в целом мощнее. Длинные темные волосы его были распущены, на лице красовались зеркальные очки, а двигался Атилла как человек, считавший само собой разумевшимся, что все остальные будут убираться с его пути. Он открыл свою дверь и скрылся из виду.
– Ну как, все увидел, что хотел? – спросил Шон. – Или ты планировал нанести ему джентльменский визит?
– Раз уж мы все равно приехали, – сказал Таннер, – давай-ка зайдем и поздороваемся.
* * *
«Расскажи мне о нем, – попросила она. Взмолилась. – Расскажи мне о Броди».
Ну что же. Мы и в самом деле наконец-то пришли к этому.
Ведь прежде, чем исполнить ее просьбу, я сперва должна была открыться перед ней сама. Ты кое-что о себе не рассказывала, Бьянка? Забавно как, я тоже. Видишь ли, был когда-то такой сарай…
А еще ты чувствуешь себя самозванкой? Ух ты, и я тоже! Может, это как в старом афоризме про величие: некоторые из нас рождаются самозванцами, а другим самозванство даруется. Я никогда не могла убежать от ощущения, что я не та, кем должна была стать. Я могу его на время опередить, но в конце концов оно всегда меня догоняет.
Я не должна была быть такой, Бьянка.
И мне жаль, что я так много от тебя скрывала, но, возможно, только ты и способна понять почему. Потому что наша встреча меня потрясла, и с тех самых пор мне казалось, что у меня получится стать нормальной (а я хотела цепляться за это ощущение так долго, как только смогу) и что есть женщина, которая может любить меня за то хорошее, что, как ей кажется, она во мне видит, вместо того чтобы жалеть меня или воротить нос, потому что я – бракованный товар.
Вот с кем ты имеешь дело. Вот кого ты впустила в свою жизнь.
Почему я самозванка? Потому что делала вид, будто на самом деле была знакома со странным, не от мира сего, мальчиком по имени Броди Бакстер, а не узнала о нем уже после его смерти, через десять лет, в рамках исследовательского проекта, затеянного девочкой-подростком, пытавшейся упорядочить призраков в своей голове.
Да, мы с Бьянкой глубоко закопались. Разговор выдался очень серьезным.
Но я не могла не смеяться. Две слезливые девицы сидят на парковой скамейке с видом на детскую площадку и обсуждают похищения, пытки и мысли о том, что мать и дочь относятся к разным биологическим видам… со стороны могло показаться, что это от нас нужно детей защищать.
Что касается Броди, я рассказала Бьянке обо всем, чем поделилась со мной его мать: о причудах и странных заявлениях, которые, по его словам, были правдой, – что от стрижек у него мутилось в голове, что небу полагается быть оранжевым, а по ночам в нем должны всходить две луны; о его глубоком отвращении к обуви и о том, как он мог подолгу стоять, словно пустив в землю корни, зачарованный и счастливый, если не считать неотступного разочарования тем, что пальцы не прорастают в почву.
Я рассказала ей о том, что заявил в суде Уэйд Шейверс: когда настал черед Броди оказаться в сарае, он поначалу не боялся того, что с ним должно было случиться, и даже указывал Шейверсу, где его нужно резать, рассказывая при этом о некой жатве, во время которой ему перерезали какой-то «вентральный стебель». Это могло показаться наглым самооправданием худшего на земле человека, вот только мать Броди поверила ему.
– Вот и все, – сказала я Бьянке. – Больше я ничего не знаю.
Мы сидели на нашей скамейке, окруженные пузырем молчания, сквозь который не могли пробиться другие мамы, няньки и визжащие дети. Когда Бьянка посмотрела на часы, это движение показалось мне неуместно будничным. В пределах нашей досягаемости зависли неуловимые тайны Вселенной – а мы так и остались рабынями шестидесятиминутных временных отрезков, в которые еще и дорогу надо было уложить.
– Это как-нибудь тебе помогло? Показалось знакомым? Хоть что-нибудь?
На ее лице проступило блаженное выражение – как у святой, которой коснулся Бог. Всего-то и нужно было, что выслушать ее. Всего-то и нужно было, что поделиться самыми грустными своими воспоминаниями.
– Если я заброшу Сороку к бабушке, ты сможешь сказаться больной до конца дня? – спросила Бьянка. – Я очень хочу тебе кое-что показать.
* * *
В узком дверном проеме рядом с цветочным магазином обнаружилась панель домофона. Таннер давил на кнопку, пока не услышал сквозь треск помех раздраженный ответ человека, судя по голосу, не привыкшего к гостям. Когда он спросил о Дафне:
– Ее здесь нет. И не было уже восемь месяцев. Но ты это, должно быть, и так уже знаешь. – У Аттиллы был низкий голос на грани basso profundo и акцент уроженца Восточного побережья, откуда-то из окрестностей Нью-Йорка. Возможно, из Бруклина. – Это ты, что ли, старший братец?
– Это ее брат Таннер, да. Мы можем поговорить?
– А сейчас мы что делаем?
– Я имею в виду, лицом к лицу.
– А зачем оно мне? Я тебя и так отлично слышу.
– Потому что мы поговорим или сейчас, или позже. – Шон подошел ближе и сам нажал кнопку домофона. – Думаешь, твои железная дверца и лесенка что-то значат? Братан, да мы сегодня утром висели на веревках на высоте двести шестьдесят футов, и это для нас обычное дело. Думаешь, окошко на втором этаже для нас не херня? А тебе ведь нужно когда-нибудь спать.
– Это еще кто?
– Мой напарник. Обычно у него получше с манерами.
– Нет, он мне, пожалуй, нравится. Он прямее, чем ты. А вот тебя я слышу и понимаю – еще пара фраз, и мы докатимся до пустых слов. А кому нужно тратить на них время?
Дверь зажужжала, открываясь, и Таннер распахнул ее. Внутри царил пещерный сумрак, лестница была грязной, ступеньки – крепкими, но под ногами скрипели от старости. И их было много.
Помещение наверху оказалось просторным – единой комнатой, разным частям которой отводились разные функции. В центре, в окружении разномастных кресел и дивана, стоял, широко расставив ноги и скрестив на груди руки, Аттила, словно пустивший корни в укрытый персидским ковром пол. Пара шагов в любом направлении – и он очутился бы у кровати, у холодильника или у висевшего на стене оружия – выбор был за ним. Аттила успел снять очки и оглядывал гостей, то ли хмурясь, то ли потешаясь.
Первым нарушил молчание Шон.
– Я сам с собой поспорил, когда поднимался по лестнице: «Что у него будет на стене? Пара мечей?» А потом я подумал: «Нет… нет, он, наверное, больше по топорам».
Шон кивнул на них – на пару смертоносного вида боевых топоров со скрещенными рукоятями. Они были одинаковыми – головки их, узкие у топорища, с одной стороны расширялись, превращаясь в выгнутые полумесяцем лезвия, а с другой оканчивались длинными, кровожадного вида шипами.
– Они заточенные или так, для понтов?
– А ведь до сих пор ты так хорошо себя показывал.
– Дафна, – сказал Таннер. – Разве мне обязательно задавать вопрос? Он тебе и так уже, похоже, известен.
– Она прирожденная бегунья. Но с чего ты взял, что она прибежит сюда? Она никогда не возвращается. Это не в ее натуре. Она бежит только вперед. – Аттила покачал головой в наигранном недоумении. – Я-то думал, ты ее лучше знаешь.
– Кое-кто сказал мне, что она могла направиться сюда. Я просто…
– Проверяешь, – закончил Аттила. – Ну естественно. Это в твоей натуре. Чувство вины – та еще наркота, верно?
Говнюк.
– Тебя разве не успели достать ее выкрутасы? – Аттила говорил почти дружелюбно. – В жизни есть лишь три непреложных вещи – смерть, налоги и братишка Таннер, который бросается на поиски Дафны всякий раз, когда она уходит в самоволку. Интересно, кто из вас кого лучше выдрессировал?
– И как, по-твоему, для нее должно сейчас выглядеть бегство вперед? – Умница Шон углядел лазейку и необходимость вступить в разговор. – Есть идеи?
– Она здесь прожила всего четыре месяца. Как думаешь, много мы с ней успели наговорить? Она… там, где должна быть.
В его голосе слышался оттенок злорадства. Как будто Аттила знал что-то, чего не знает брат, и хотел, чтобы они это поняли. Поняли, что у женщин бывают секреты, о которых братья всегда узнают последними.
Таннер попытался представить Дафну в этой квартире и не смог. Где ее комната, то принадлежавшее только ей убежище, на котором она всегда настаивала? Изнутри казалось, что на это место давит тяжесть веков, превосходящая заметный снаружи возраст здания, как будто здесь, наверху, время текло иначе. Кто-то взял тысячелетнюю полость и построил вокруг нее кирпичную скорлупу в духе 1920-х годов. А внутри разбросал несколько анахронизмов вроде газовой плиты и стереосистемы с колонками величиной со стенобитные орудия, чтобы никто ничего не заподозрил.
И Аттила идеально сюда вписывался.
Таннер не желал знать, что такого нашла в нем Дафна. Аттила Чонка не относился к тем мужчинам, от которых женщины ждут долгосрочных отношений. Он был первой остановкой на ее пути после того, как ей надоело осторожничать. Он был тем, к кому она пришла, когда слишком долго жила без сожалений.
– И где же она должна быть?
Несмотря на большие кисти рук, Аттила выглядел так, словно мог без труда отрывать крылья мухам и ноги паукам.
– Дайте-ка я кое-что посчитаю, – сказал он. – Я сегодня на работе услышал одну маленькую новость. Про неудачно закончившуюся операцию по спасению заблудшего скалолаза. Так вот, я знаю, чем вы занимаетесь. Я знаю, что вы не окна моете. Так что, если вы сегодня утром висели на высоте двести шестьдесят футов и это для вас было обычное дело, я заключаю, что вы присутствовали на месте происшествия. Это ведь были вы, да? Это вы пытались спасти того парня, когда он упал. Или спрыгнул.
Таннер слушал, и внутри у него начинало холодеть. Ему казалось, что все вот-вот полетит к чертям, и он не знал, кто будет виноват, если это произойдет.
– Неудачный выдался день, да, – ответил Шон. – А что?
– Мне просто любопытно. Большинство людей, когда забираются на высоту и видят перед собой пропасть, слышат этакий тихий голосок, убеждающий их прыгнуть. «Ну давай, сделай последний шаг». Они редко подчиняются, но голос слышат. А вот вы двое – у вас особое положение. Вы отвечаете за тех, кто там застревает. И вот что мне интересно. Бывает ли так, что вы заходите человеку за спину и, прежде чем привязать его, или что вы там делаете… слышите, как этот голосок предлагает вам его столкнуть? «Этот болван слишком туп, чтобы жить, будет лучше, если я…»
Аттила медленно изобразил, как сталкивает кого-то и наблюдает за падением.
– Или перерезать его веревку. Вы начинаете его вытягивать, а потом вас одолевают сомнения.
Он взмахнул воображаемым ножом; движения его становились все более резкими.
– Или перерезать свою веревку. Вам когда-нибудь этого хотелось? То же самое, что сделать тот последний шажок, только у тебя есть чуть больше времени, чтобы над этим поразмыслить. Можно увидеть, как лопаются волокна веревки. Можно задуматься, когда она перестанет тебя выдерживать. Как, должно быть, медленно при этом тянется время.
Таннер не знал, как реагировать на его слова. Он взглянул на Шона, который, судя по всему, тоже плохо себе это представлял. Неужели они должны стоять здесь и выслушивать его? Может, и да. Если развернуться и уйти, они будут выглядеть… побежденными.
– Ваше молчание говорит «нет», но ваши глаза отвечают мне «да». Это нормально. У всех нас бывают порывы стереть ошибки. – Аттила по очереди осмотрел их и сосредоточился на Таннере. – Так почему ты этого не сделаешь? Ты, из всех людей? У тебя ведь есть весомые причины. Я знаю, что тебя ждет дома.
«Нет, – подумал Таннер. – Не смей. Ты не осмелишься это сказать. Никто не осмелится это сказать».
– Малышу хоть диагноз-то поставили? И имеет ли это хоть какое-то значение? Диагноз ничего не исправит. Никого не снимет с крючка. Ты все равно будешь думать: «Черт возьми, кто-то серьезно засрал мальчишке ДНК. Надеюсь, это был не я».
Он и правда это слышал. Он наблюдал за тем, как слушает это.
– Может, это и правда был не ты. Ты, твоя жена – возможно, вы оба не виноваты. Просто так получилось. Я как-то слышал, что если случайный всплеск гамма-лучей пройдет через атмосферу и попадет в неправильную хромосому в неправильном месте и в неправильное время – все. Хана плану природы. Появляется новый чертеж. Кучка частиц, последние несколько миллиардов лет рассекавшая галактику, примчалась, как снайперская пуля, и все изменила.
Таннер парил в двух шагах за спиной манекена, облаченного в его одежду, и поражался тому, что манекен никак не реагирует на эти слова.
– Ты разве не чувствуешь искушения что-то с этим сделать? У тебя не выйдет вернуться назад во времени и встать на пути у пули. Но неужели ты ни разу не спрашивал себя, в чем вообще смысл? Если твой ребенок с большой вероятностью даже жопу вытирать не научится, разве не лучше было бы, чтобы он никогда не рождался? Не говори мне, что не ощущал искушения подойти к кроватке с подушкой в руках и стереть эту маленькую ошибку.
– Срань господня, – сказал Шон. – Хорош. Серьезно. Мы поняли, ты худший человек на свете. С определенного момента ты просто… ладно, слово «красуешься» тебе не очень подходит, но другого у меня нет.
Самым стыдным было то, что Аттила не ошибался. По крайней мере насчет Риза. Таннер выслушал стольких людей, которые пытались выставить это Божьим замыслом, а потом уходили, вроде как исполнив свой долг, что он уже готов был отправить следующего, кто такое скажет, на встречу с этим их Боженькой. Этим жестоким генетическим инженером, которому позарез нужно было создавать детей, чьи глаза, казалось, фокусировались исключительно на каких-то непостижимых просторах внутри их собственных черепов.
Он ни разу не вставал над кроваткой с подушкой. Но он, бывало, сидел в соседней комнате, думая о том, способен ли на такой поступок и что он принесет за собой – муки или освобождение. Таннер спрашивал себя, что будет бо́льшим проявлением любви и милосердия: позволить Ризу вырасти таким, какой он есть, или отпустить его туда, откуда он пришел.
Ночные сомнения, тревожные сомнения, беспомощные сомнения – вот что это было, и они никогда не задерживались надолго. Но все равно они оставляли Таннера в раздумьях о том, что за эгоистичное чудовище вообще способно на такие мысли.
Теперь он знал. На такие мысли был способен Аттила, и он видел их в других. Потому что, похоже, непрерывно существовал в этом пространстве.
Таннер задавил гнев, чтобы снова обрести дар речи.
– Так сколько времени, говоришь, ты знал Дафну?
– Ну же, старший братец, не выпадай из реальности. Мы ведь это уже обсудили. Четыре месяца. Недолгое знакомство… – Аттила ухмыльнулся и облизал губы. – Но приятное.
– Четыре месяца она знала тебя. Я имею в виду, сколько времени ты знал о ней. Улавливаешь разницу?
Впервые за все это время Аттила пошевелился, на шаг приблизившись к ним, к креслу, которое стояло между ними, словно обозначая границу.
– Разницу я улавливаю. Я значения не улавливаю.
– Может, ты год или больше звонил ей, прежде чем появиться в ее жизни? Раз за разом оставляя одно и то же сообщение?
До сих пор Аттила выглядел так, словно контролировал ситуацию. Так оно и было. Казалось, они не могут сказать или сделать ничего, что застало бы его врасплох. Кроме этого. Этого он не ожидал. Как и Шон, покосившийся на Таннера, будто спрашивая, что еще он скрывает.
– Так значит, ты их слышал. – Теперь рокочущий, как гром, голос Аттилы был ровным и спокойным, лишенным издевки. – И что скажешь?
– Сотни звонков? А то и тысячи? Это похоже на действия одержимого, ведущего очень долгую и больную игру.
Аттила бросил злобный взгляд в пространство между ними, но теперь в нем была какая-то отстраненность. Отстраненность человека, которому больше не интересно тыкать в тебя, чтобы посмотреть, какую это вызовет реакцию. Развлечения закончились. Так волк мог бы смотреть на кого-то, кого ни в жизнь не сочтет себе равным.
Когда Аттила бросился на них, это оказалось полной неожиданностью. Таннер должен был оставаться начеку, но ему и в голову не приходило, что такое возможно. Зачем вообще нападать? Он мог просто позволить им уйти, и они пошли бы своей дорогой, вот и все. К тому же Аттила был один против двоих, а Таннер и Шон были крепкими ребятами. Они могли бы постоять за себя в барной потасовке.
Но это была не барная потасовка.
Это была драка на топорах, а они пришли безоружными.
Так много ошибок.
Ты видишь пару боевых топоров на дальней стене и думаешь: так, мне это не нравится, – а этот огромный мужик ведет себя как еще более огромный мудак и выводит вас из равновесия, решая тем временем, что делать. Но по крайней мере все знают, где висят топоры, и он от них далеко. Он не сможет. Он просто не сможет.
Нет. Ему это и не нужно.
Ты видишь пару топоров на дальней стене – и думаешь, что это все. Ты упускаешь мелкие детали – пустые крепления там, где висела вторая пара. Что он сделал – снял их, прежде чем открыть нижнюю дверь? Спрятал их на том большом, обшарпанном кресле, рядом с которым стоял, дожидаясь этого момента? Неплохой план. Они были меньше, с компактными головками – такие легко укрыть от того, кто видит только спинку кресла.
И вот Аттила бросился на Таннера и Шона, по пути схватив топоры, по одному в каждую руку, и оказался рядом прежде, чем они успели понять, что происходит.
В движение их привели рефлексы. Счет теперь шел на доли секунды. Сначала Аттила нацелился на Таннера, и тот отступил к лестнице. Но у Аттилы были длинные руки и ноги. Он пнул Таннера в живот: ощущение было такое, словно его ударило дерево. Таннер сложился пополам и врезался спиной в стену; пинок выбил из него весь воздух, и он пытался вдохнуть. Каждая бездыханная секунда казалась десятью.
Шон мог убежать, у него было время на то, чтобы спуститься по лестнице, но он этого не сделал. Он бросился на Аттилу пригнувшись – борцовский маневр, – врезался плечом ему в живот и попытался обхватить за колени сзади, чтобы уронить на пол и помешать ему размахивать топорами. Аттила вогнал рукоять в спину Шона и вывернулся из его хватки, не дав уцепиться как следует. Сделав пару неловких шагов, он восстановил равновесие и, вложив инерцию в замах, ударил Шона, когда тот начал подниматься.
Таннер услышал низкий, влажный треск, когда топор врезался в тело Шона чуть выше груди; сюрреалистичный момент – этого ведь не должно было случиться. Таннер должен был нормально дышать, это же так просто, и он не представлял себе, откуда может взяться такой звук; а потом понял – это ключица. Он никогда не слышал, как ее разрубают напополам.
А еще Таннер никогда не видел, чтобы кто-нибудь удерживал свою жертву на месте топором, словно тот превратился в ручку на ее теле. Он никогда не слышал, чтобы Шон кричал так, словно попал в беду. Не слышал такого глухого удара, с каким второй топор обрушился с другой стороны и вонзился в мясо на плече. Он никогда не слышал звука, с которым выдергивают из ран топоры, вырывают их из костей, и мышц, и легких. Никогда не слышал, как сам он задыхается, не в силах больше ничего сделать.
Но что-то подстегнуло его, одолев первобытное стремление съежиться от страха, и заставило сорваться с места, хотя в глазах у него все еще искрили звезды. Одну руку, ему нужно вывести из строя всего лишь одну руку Аттилы. Они еще могут переломить ход схватки. Шон справится. Они оба видели, какие раны способно пережить человеческое тело, потому что жажда жизни сильнее всего. Им было ради чего жить.
Аттила заметил Таннера и не позволил ему ничего сделать. Он выдернул левый топор из груди Шона, подбросил в воздух так, что он перевернулся, ухватил под головкой и размахнулся; в стремительном движении читалось презрение: а вот и нет, старший братец. Твердая деревянная рукоять ударила Таннера в челюсть, обух – за ухом. Таннер очутился на полу прежде, чем осознал, что ноги его подкосились, и не видел уже ничего, кроме алого тумана и неясных звезд, обитавших в пустоте.
А вот слух его продолжал работать, звуки пробивались сквозь охватившее голову пульсирующее онемение; раньше Таннер считал, что ему уже доводилось слышать жуткие вещи, но теперь он мог только лежать и слушать то, что было гораздо, гораздо хуже.
5
Перевод А. М. Эфроса.