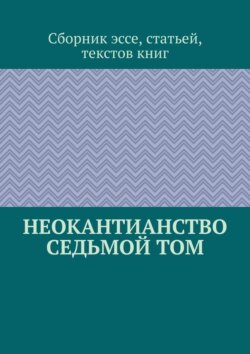Читать книгу Неокантианство Седьмой том - - Страница 4
Карл Форлендер
Этический ригоризм и нравственная красота с особым указанием на Канта и Шиллера I
ОглавлениеВопрос об этическом ригоризме – это, говоря исторически, вопрос о философском отношении Шиллера к Канту. То, что Кант является первым научным представителем этического ригоризма в философии – ибо стоиков мы можем легко здесь не принимать во внимание, а Фихте, которого придется упомянуть во вторую очередь, был лишь преемником Канта – не нужно объяснять читателям философского журнала. Ведь Кант однозначно назвал его моральным «ригористом «1) и выражал эту точку зрения на протяжении всех своих этических
сочинений. Нам кажется, что историческое и систематическое отношение Шиллера, человека, который наиболее подробно разбирал этот вопрос с Кантом, к критическому философу в этом вопросе установлено менее точно и определенно. С одной стороны, часто можно встретить, особенно в истории литературы, удобную точку зрения, согласно которой, с комплиментарным цитированием известного ксенофонта: «Я люблю служить своим друзьям, но, к сожалению, делаю это по склонности и т.д.», просто объясняется, что Шиллер «эстетически смягчил» этический ригоризм Канта. С другой стороны, Коген, кажется, тоже заходит слишком далеко, когда утверждает, что поэт в этом отношении полностью согласен с философом 2).
– — – — – — —
1. Религия в границах и т. д. стр. 21. Именно в этом «отрывке» он спорит с Шиллером.
2. Kante Begründung der Ethik S. 288. – Кстати, сам Коген признает в S.315, что «ригоризм Канта… вызывал раздражение у самых известных людей».
Поэтому систематическому обсуждению двух главных представителей нашего вопроса должно предшествовать, хотя бы для того, чтобы получить основу, историческое разъяснение, включающее, помимо отрывков их сочинений, в которых затрагивается наша тема, также переписку обоих. Ведь всегда необычайно привлекательно следить за ходом мыслей двух великих умов в их наиболее интимном выражении, а здесь, где на первый план выходят самые глубокие и интимные отношения между философией и поэзией, это, конечно, особенно важно: помимо интересных прожекторов, которые падают по этому случаю на Гете, Кёрнера, Гумбольдта, Фихте и других представителей веймарского круга друзей. Поэтому мы надеемся, что вы извините нас, если в исторической части нашего трактата, которая следует первой, мы примем более общий подход к нашему предмету и попытаемся показать нашим читателям ход развития отношений Шиллера с Кантом в целом, то есть прежде всего его изучение последнего; мы смеем надеяться на это тем более, что подобная попытка еще не предпринималась с такой специализацией и в тесной связи с самыми непосредственными источниками наших знаний.1) К сожалению, между обоими главными героями было отправлено только по одному письму. Тем богаче источники переписки Шиллера: с 1787 года – с Кёрнером, в 1793 году – с герцогом Фридрихом Кристианом Шлезвиг-Гольштейн-Августенбургским, с 1794 года – с Гёте; переписка Шиллера с Вильгельмом фон Гумбольдтом и Фихте для нас менее актуальна 2).
– — – — – —
1) Даже превосходная работа Томашека «SchillerinseinemVerhältnisszurWissenschaft» (Вена 1862) содержит богатый и прекрасно использованный материал, но, в соответствии с ее более широкой структурой, она не позволяет провести последовательный обзор отношений Шиллера к Канту. Также, кроме нескольких других, еще не были известны важные письма Шиллера к герцогу Аугустенбургскому Т.
2) Мы приводим следующие издания: Sch.’sLetterswithKörner. 4 vols. Berlin 1847 – ПисьмакгерцогуС.-Х.-А. в Kürschners D. Nat.-Lit. 129. vol., pp. 77—131 – Briefw. zwischen Schiller und Goethe. 2 vols. Cotta. 4-еизд. 1881 г. – Briefw. zw. Sch. und W. v. Humboldt. Котта. 2-е изд. 1876 – Письма Шиллера и Фихте под ред. J. H. Fichte. Berlin 1847 г. – Письма Канта после Розенкранца* изд. 8-е W. XI 1.
I. Отношение Шиллера к Канту в его историческом развитии.
1787—1790.
Мы не будем здесь углубляться в докантовскую философию Шиллера, если только угодно называть этим именем философскую поэзию «Писем Юлии и Рафаэля» – совершенно отдельно от еще более ранних юношеских попыток 1). Достаточно привести свидетельство самого Шиллера об этом докантианском периоде: «То, что мой Julius сразу же занялся вселенной, в моем случае, вероятно, индивидуально; а именно потому, что я сам не читал почти никакой другой философии и случайно не познакомился ни с какой другой. Из философских трудов (из тех немногих, что я читал) я брал только то, что можно прочувствовать и обработать поэтически» (письмо Кёрнеру, 15 апреля 1788 года). Последнее из философских писем, однако, от Рафаэля к Юлиусу, в котором заметно кантовское влияние, исходит не от нашего поэта, как до сих пор считает Куно Фишер 2), а от его друга Кёрнера; в определенной степени его следует рассматривать как критическое наставление Кёрнера-Рафаэля Шиллеру-Юлиусу 3)! Похоже, что Кёрнер был первым, кто неоднократно указывал поэту на критическую философию. Отсюда его шутливо-гневное замечание в письме к Шиллеру от 7 сентября 1787 года: … «То, что Рейнгольд делает Вас прозелитом, скоро приведет меня в смятение, так как я всегда напрасно проповедовал Вам Канта». Это письмо – ответ на первое письмо Шиллера, в котором упоминается Кант (от 29 августа 1787 года).
– — – — —
1) Уже «ЭлевеШиллер» приводитсвоислова (1780) вполемике: Ueber die Freiheit und Moralität des Menschen* (Kürschner a. 0. 8. 462). ЕщенеупоминаетсяуТомашекаи Üeberweg (Schiller als Historiker und Philosoph 1884).
2) Kuno Fischer, Schiller als Philosoph. 1868. 8. 26 ff. – Согласно этому, философские письма не охватывают 1786 – 89 годы, как думает Ф., а заканчиваются не позднее апреля 1788 г. К сожалению, новое издание работы Фишера (1891/92) нам недоступно.
3) Это вытекает как несомненный факт из письма w. 1 176—178.
Шиллер рассказывает, что благодаря влиянию Рейнгольда в Йене он впервые прочитал некоторые небольшие сочинения Канта 1) «Наперекор Рейнгольду, вы (sc. Körner) презираете Канта, ибо он утверждает, что через сто лет у него должна быть репутация Иисуса Христа. Но я должен признаться, что он говорил об этом с пониманием и уже побудил меня начать с маленьких эссе Канта в «Berliner Monatsschrift», среди которых идея всеобщей истории2) доставила мне необычайное удовольствие. Кажется практически предрешенным, что я еще буду читать Канта и, возможно, изучать его.
В письме Рафаэля-Кёрнера к Шиллеру у него, как он сам пишет, появилась «ясность» в важных вопросах; и он правильно подозревает, что в том, что друг обронил о «сухих исследованиях человеческого знания и унизительных пределах человеческого знания», содержалась «отдаленная угроза – в отношении Канта». «Что толку, ты его приведешь? Я знаю, что волком вой. На самом деле, я думаю, вы очень правы». Но в то же время он признается в нежелании своей поэтической натуры: «Я пока не очень хочу углубляться в эту тему». – Кёрнер, который сам живо интересуется Кантом, хотя и далеко не всегда в полном согласии с ним, старается не ограничивать право своего друга на свободное развитие. «Из-за внешнего повода беспокойства по отношению к Канту у меня уже была возможность познакомить его с ним, и я этим доволен. Теперь все зависит от тебя, куда ты хочешь направить диалог» (25 апреля 1788 года). Но в последующие годы Шиллер еще не приходит к проникновенному философскому исследованию. Отчасти ему мешают новые, важные жизненные события (назначение в Йену, помолвка), отчасти он все еще находится в состоянии философского брожения, в котором чувствует необходимость придать своему духу необходимую «силу и зрелость» (Кёрнеру 12 декабря 1789 года).
– —
1) Таким образом, мнение, встречающееся у Гервинуса (V 414) и других, что труды Канта оставались чуждыми поэту до публикации «Критики Urtheilskraft» (1790), следует исправить.
2) Точнее: «IdeezueinerallgemeinenGeschichteinWeltbürgerlieberAbsicht», в ноябрьском номере 1784 г. Кроме того, в то время в «BerlinerMonatsschr.» уже появились следующие сочинения Канта: «WasistAufklärung? О вулканах на Луне, март 1785 года. Март 1785 г. – О не законности печатания книг. Май 1785 г. – Об определении понятия человеческой расы. Ноябрь 1785 г. – Массовое начало истории человека. Январь 1786 г. – Что означает «ориентироваться в мыслях»? Октябрь 1786.
Следующее письмо Юлиуса к Рафаэлю (как ответ Шиллера на вышеупомянутое) планируется им несколько раз, но так и не появляется. Я, конечно, не забуду обещанное философское письмо, но оно не должно появиться так быстро, ибо ты знаешь, сколько хлопот мне обычно доставляет моя философия» (К. 31 авг. 1789). «Возможно, Вы все-таки получите обещанное письмо от Юлиуса, и скорее, чем Вы ожидаете» (10 ноября). На исторические взгляды Шиллера, однако, не могла не повлиять вышеупомянутая лекция о небольших сочинениях Канта по философии истории, а также опубликованная в январе 1788 года в «DeutschemMerkur» Виланда статья «UeberdenGebrauchteleologischerPrincipieninderPhilosophie», над которой активно работал сам Шиллер. По крайней мере, Кёрнер радуется, когда его друг присылает ему инаугурационную лекцию «Понятие и цель университетской истории»: «То, что вы не постеснялись говорить о Канте в такой лекции и даже упомянуть телеологический принцип, было для меня большим триумфом». Он (Кёрнер) сейчас очень живо интересуется философией Канта, чему он не в состоянии противоречить, но от чего он также не испытывает полного удовлетворения. «Где это лежит, я сейчас выясняю». Он с нетерпением ждал письма от Юлиуса (17 ноября 1789 года).
Через несколько месяцев, 22 февраля 1790 года, Шиллер обвенчался с Лоттой «кантовским теологом» – как он сам сообщил своему другу неделю спустя – в деревенской церкви близ Йены. Только теперь, «под боком у дорогой женщины», где «жизнь совсем другая», пишет он 16 мая, в нем вновь пробуждается «старое желание философствовать». Летом 1790 года он читает опубликованный том по «той части эстетики, которая касается трагедии», и фактически» занимается» этой эстетикой сам, не обращаясь «к эстетической книге». «Мне доставляет большое удовольствие находить общие философские правила и, возможно, даже научный принцип для различных переживаний… И в конце концов, всё это возвращается к Юлиусу и Рафаэлю». На что Кёрнер ответил: «Пусть только Рафаэль поскорее узнает что-нибудь о Ваших идеях; в его ответе, конечно, не должно быть недостатка», с поощрением: «Мой идеал философии и Вас превосходит то, чего Вы еще достигли». В то же время в этом письме (от 28 мая 1790 года) Кёрнер сообщает о своем подробном изучении только что опубликованной «Критики способности суждения» Канта. Даже сейчас Шиллер не находит для этого времени; он довольствуется тем, что желает своему другу «удачи с новой лекцией Канта». «Здесь (в Йене) их хвалят на все лады» (18 июня 1790 года).
Гете был одним из тех, кто испытал на себе сильное воздействие работ Канта. «Он обрел пищу для своей философии в критике телеологической силы», – сообщает Кёрнер 6 октября 1790 года после восьмидневного пребывания Гёте в Дрездене. И далее: «Вы вряд ли догадаетесь, где мы нашли больше всего точек соприкосновения. – Где же еще, как не в Канте!». Тот, кто захочет описать все еще малоизвестную позицию Гете в отношении критической философии, должен будет использовать, помимо отрывка из ^Annalen* или «Tages- und Jahresheften*, в котором он рассказывает о генезисе своей дружбы с Шиллером (см. ниже), почти еще более важные эссе, напечатанные под названиями «Einwirkung der neueren Philosophie* и «Anschauende Urtheilskraft mit anderen Abhandlungen «Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen 1). Первое впечатление, которое Шиллер получил от философского стиля своего великого оппонента при первой встрече с ним в 1790 году, полностью соответствует этим более поздним признаниям Гете. Он писал Кёрнеру 1 ноября 1790 года: «Я чувствовал себя по отношению к нему так же, как и вы. Он был у нас вчера, и разговор вскоре перешел на Канта. Интересно, как он все излагает на свой лад и манер и с удивлением вспоминает прочитанное». Но «ему совершенно не хватает сердечности, чтобы исповедовать что-либо. Для него вся философия субъективна, и на этом убеждение и аргументация одновременно заканчиваются. Его философия… слишком много черпает из разума там, где я черпаю из души. В целом, его способ воображения слишком чувственный и слишком трогательный для меня. Но его дух работает и исследует… и стремится к созданию целого – и это делает его для меня великим человеком». Кёрнер соглашается с мнением своего друга. «Гете слишком чувственен в философии и для меня»; но «я считаю, что для нас с вами благотворно то, что мы с ним соприкоснулись, чтобы он предостерег нас, когда мы зайдем слишком далеко в интеллектуализме» (11 ноября 1790 года).
– —
– Grosse Cotta’sche Ausgabe V 1194 f.; ср. Беседы Гете с Эккерманом 1 352 f. (1836). Мы намерены периодически рассматривать эту тему в специальном очерке и поэтому ограничиваемся здесь отрывками из переписки.
Решительный поворот Шиллера к Канту произошел в 1791 году.
В первые два месяца, в течение которых поэт страдал от тяжелой болезни груди, мы ничего не слышим о философии. Но к началу марта философское «обращение» Шиллера, по выражению Кёрнера, уже должно было произойти. Соответствующее письмо Шиллера, ответом на которое является письмо Кёрнера от 13 марта, отсутствует в доступном нам издании переписки Шиллера и Кёрнера. К счастью, однако, оно найдено в «Жизни Шиллера» Каролины В. Вольцоген1), датировано 3 марта 1791 года и в интересующем нас отрывке гласит: «Вы не догадываетесь, что я сейчас читаю и изучаю? Ничего хуже – Кант. Его „Критика способности суждения“, которую я сам купил, сбила меня с ног своим новым, светлым, остроумным содержанием и вызвала во мне величайшее желание постепенно вникнуть в его философию. При моем ограниченном знакомстве с философскими системами „Критика разума“ и даже некоторые труды Рейнгольда были бы для меня слишком трудными и отняли бы слишком много времени. Однако, поскольку я сам уже много думал об эстетике и еще больше разбираюсь в ней эмпирически, я гораздо легче продвигаюсь в „Критике способности суждения“ и время от времени знакомлюсь со многими кантовскими идеями, поскольку он ссылается на них в этой работе и использует многие идеи из „Критики разума“ в „Критике способности суждения“. Короче говоря, я подозреваю, что Кант не такая уж непреодолимая гора для меня, и я обязательно займусь им более плотно».
1) В книге Reclam стр. 229 f.
На что Кёрнер ответил 13 марта: «Новость о Вашем философском обращении привела меня в такой трепет, что я чуть было не послал Вам сегодня несколько листов «Philosophica»… Мне не терпится увидеть, что идеи Канта произведут в Вашей голове. Однако «Критика способности суждения» ближе всего к вашим предыдущим исследованиям, и ее можно понять даже без других кантовских работ». 1791 год был довольно мрачным для Шиллера в плане здоровья. «Несколько рецидивов заставили его опасаться худшего, он нуждался в самом тщательном уходе, публичные лекции были бы для него крайне вредны, а всякую другую напряженную работу пришлось приостановить. 1) Когда в Рудольштадте сильный припадок приблизил его к смерти, он попросил свою невестку прочитать ему отрывки из «Критики способности суждения» Канта, которые указывают на бессмертие. «Он спокойно принял луч света из души спокойного мудреца …2) Поэтому понятно, что только 4 декабря этого года снова появляется свидетельство о философских занятиях: «Сейчас я работаю над эстетическим эссе о трагическом наслаждении. Вы найдете его в» Thalia» и заметите в нем большое влияние Канта. Это первый из тех трактатов, одинаково восхитительных по своему идейному содержанию и блестящему языку, в которых Шиллер изложил сокровища своих философских мыслей, под названием:
Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen 3).
– —
1) Körner’s Nachrichten von Schillere Lebenc in: Schillers S. W. Cotta 1838. XII 8. 421.
2) Wolzogen, SchillersLebenS. 231.
3) S. W. XI 429
С самого начала кантовское и классическое в нем – это чистое разделение сфер сознания, ограничение искусства тем, что ему свойственно, отличие от его «более серьезных сестер», познания и морали. Полная философия искусства доказала бы, что оно действительно должно пройти свой путь через мораль», но что его истинной целью должно быть только удовольствие. «Только выполнив свой высший эстетический эффект», оно, с другой стороны, «окажет благотворное влияние на мораль» (с. 431). Но давайте ограничимся более узкой темой. Хотя на с. 432 говорится, что «приятный дух – это непременный удел нравственно совершенного человека», позже подчеркивается, совершенно в кантовско-ригористическом смысле, что сила морального закона проявляет себя наиболее славно, когда он находится «в конфликте со всеми другими силами природы». Среди этих природных сил, однако, «есть все, что не является нравственным». «Высшее сознание нашей нравственной природы может сохраняться только в насильственном состоянии, в борьбе, и высшее нравственное наслаждение всегда будет сопровождаться болью»; с этим делается переход к трагедии (с. 437). На с. 441 он замечает: «Нравственные достоинства уменьшаются в той же мере, в какой в них участвуют удовольствие и склонность», а на с. 443: … «Для правильного определения отношений моральных обязанностей к высшему принципу морали необходим разум, независимый от всех природных сил, а значит, и от моральных влечений (в той мере, в какой они действуют инстинктивно)». Что может быть более кантовским, чем такие высказывания?
В том же месяце, когда этот трактат появился в» NeueThalia*, январь 1792
Шиллер пишет Кёрнеру: «Сейчас я с большим рвением занимаюсь Кантом и философией и многое бы отдал, если бы мог каждый вечер беседовать о них с Вами. Я принял бесповоротное решение не оставлять это занятие, пока не постигну его до конца, даже если это будет стоить мне трех лет. Кстати, я уже многое взял из нее и превратил в свою собственность». В то же время он хочет изучать Локка, Юма и Лейбница. За обеденным столом у него несколько молодых кантианцев (1 января 1792 г.) 1). В своем ответе от 6 января Кёрнер также сожалеет, что они теперь не вместе, и называет «первым импульсом в философии Канта» его, хотя и только «кажущуюся», бесплодность – в то время это обвинение уже выдвигалось против формального идеализма – а вторым, по крайней мере для него, его «отсутствие доказательств»: выражение, которое часто встречается в том же отношении в его письмах. Конечно, когда Кёрнер в том же письме заявляет: «В целом я считаю философию не наукой, а искусством», и далее: «Красота – ее первый закон. Истина – это подчиненная потребность», то легко понять, почему Кант, к которому он, тем не менее, чувствовал новое влечение, не мог полностью удовлетворить его.
– — – —
1) Среди них профессора Нитхаммер и Фишених. Философия Канта была «неиссякаемым источником взаимного общения, учитывая живой интерес, который она вызывала у этих трех людей». Прочная связь сохранялась на протяжении всей их жизни». C. v. Wolzogen, op. cit. p. 234. Шиллер, предположительно, также впервые ознакомился с «Критикой чистого разума» в это время; по крайней мере, он заказал ее экземпляр у книготорговца Крузиуса 16 декабря 1791 года (Schillerbuch Marg. 1832; ср. Tomaschek p. 253, прим. 19).
Во «второй части» «новой Талии» Шиллер затем опубликовал эссе Ueber die tragische Kunst» («О трагическом искусстве»), которое является продолжением предыдущего. Мы приведем из него только те отрывки, которые относятся к нашей более близкой теме. Он восхваляет «высокую ценность философии жизни, которая, постоянно ссылаясь на общие законы, сводит на нет чувство нашей индивидуальности». Это «унаследованное духовное настроение» – удел «сильных и философских умов, которые научились подчинять себе эгоистический импульс путем постоянной работы над собой» (с. 451). Чувственность и нравственность резко противопоставляются друг другу и подчеркиваются освобождающие, возвышающие и блаженные качества последней. «Ничто так искусно не может вернуть ее (чувственность) в ее пределы, как помощь сверхчувственных, нравственных идей, на которых неподавленный разум, как на духовных опорах, поднимается вверх, чтобы подняться над мутной дымкой чувств к безмятежному горизонту» (с. 460).
Возвращаясь к нашей переписке, мы передаем рекомендации молодых кантианцев, например, датчанина, который хочет проповедовать «новое евангелие» в Копенгагене, и дальнейшие замечания Кёрнера о философии Канта. 25 мая Шиллер хочет еще раз прочитать «Urtheilskraft» Канта, прежде чем приступить к эстетическим письмам*, и предлагает своему другу сделать то же самое. Мы еще вернемся к этому письму, свидетельствующему о философско-поэтической двойственности натуры поэта, в котором он признает себя «дилетантом» в теории и чувствует, что его поэтический пыл ослабевает, а также к не менее интересному ответу Кёрнера (5 июня). – 3 сентября Шиллер интересуется, читал ли Кёрнер «Критику откровения». «Она написана не Кантом, но в его духе». 15 октября он пишет: «Я хотел заниматься поэзией, но приближение студенческого времени вынуждает меня заняться эстетикой. Теперь я по уши погружен во власть суждения Канта. Я не успокоюсь, пока не проникну в эту материю и она не станет чем-то подвластным мне». 6 ноября он начинает свою «Privatissimum in Aesthetics» 1) и» в результате огромной деятельности» «уже выдвинул много светлых идей». Наконец, 21 декабря он считает, что нашел объективное понятие красоты, которое eo ipso также квалифицируется как объективный принцип вкуса и на котором Кант отчаивается» 2) и хочет «упорядочить свои мысли по этому поводу и обсудить их в беседе»:
Kallias oder über die Schön heit auf die kommenden Ostern herausgeben». Кёрнер (27 дек.) с большим нетерпением ждет эту работу, особенно из-за «драматических талантов», так подходящих Шиллерудиалогической форме.
– — – —
1) Фрагменты этих эстетических лекций Шиллера зимнего семестра 1792/93 года (согласно записным книжкам колледжа) были впервые опубликованы Ч. Ф. Михаэлисом, Geist aus F. Schillers Werken. 1806. П 241—284, теперь перепечатано в Kürschners D. Nat. Lit. 129, 2. p. 3—25.
2) Ср. влекцияхс. 17 идалее: «UeberdieobjectivenBedingungenderSchönheit».
Такой «Каллиас» не появился в виде книги.
В 1793 году началась чрезвычайно оживленная и обширная эстетическая переписка с Кёрнером, которую каждый, кто возьмется писать о теории искусства Шиллера и ее отношении к эстетике Канта, должен будет подробно учесть 1) Поскольку это не является нашей нынешней задачей, мы, однако, верные своему принципу, извлечем из почти ста страниц 11 писем от 25 января – 7 марта только те отрывки, которые представляются либо относящимися к нашей более узкой теме, либо важными для общей позиции по Канту.
– — – — —
1) Она также напечатана в Kürschner, a. 0. p. 30—76 под названием «Kallias oder über die Schönheit», последнее, на мой взгляд, безосновательно. Она содержала только подготовительную работу к этому неопубликованному произведению.
Здесь Шиллер показывает себя решительно независимым от Канта, например, в дедукции понятия красоты, предпринятой в первом письме. Но когда его друг Кёрнер думает, что из этого можно сделать вывод (4 февраля): «Возможно, нам удастся найти философский камень, несмотря на Канта», Шиллер отвергает его – настолько поменялись роли по сравнению с прежними временами – с замечанием: со своей логической оценкой красоты он (Кёрнер) все же слишком близок к эстетике совершенства школы Вольфа; он сам (Шиллер) «говорит здесь больше, чем кантианец» (8 февраля). 14-страничное письмо Шиллера от 18 февраля имеет особое значение. В предыдущем письме (от 15 февраля) Кёрнер сообщал: «В основной теореме Вашей теории есть нечто чрезвычайно удовлетворительное, особенно для друга кантовской системы… Только я не хотел бы выводить красоту из нравственности, а скорее последнюю из последней и обе из высшего принципа. Этот высший принцип, конечно, еще предстоит найти». Далее следует подлинно кантовский ответ Шиллера: «… Я так далек от того, чтобы выводить красоту из морали, что считаю ее почти несовместимой с ней. Нравственность определяется чистым разумом, красота как свойство внешности определяется чистой природой.
Высший принцип, который вы требуете, – это… Бытие из простой формы». А теперь также следует прямое признание Канту: «Только это я еще отмечаю, что вы абсолютно свободны от всех вторичных идей, которыми прежние религиоведы (?) в моральной философии, или бедняги, подтасовывавшие философию Канта, исказили понятие морали, – ибо тогда вы будете полностью убеждены, что все ваши идеи, как я могу догадаться по вашим прежним высказываниям, находятся в большем согласии с основанием морали Канта, чем вы сами, возможно, сейчас не подозреваете. Конечно, ни один смертный не произнес еще более великого слова, чем это кантовское слово, которое в то же время является содержанием всей его философии: Определи себя от самого себя; а также в теоретической философии: Природа подчиняется закону рассудка. Эта великая идея самоопределения излучается к нам из определенных явлений природы, которые мы называем красотой» (с. 30). Я уже объяснял в своей диссертации 1), что фраза bestimme Dich aus Dir selbst не является, согласно формулировке, кантовским улучшением; однако отрывок ценен для нас как восторженное признание поэтом основ кантовской морали.
– — – — —
1) Формализм этики Канта в его необходимости и плодотворности. Марбург, 1893.
В дальнейшем в этом же письме содержится систематическое развитие этики Канта. От актуально прекрасного Шиллер переходит к прекрасному в неактуальном смысле, то есть к моральной красоте, и иллюстрирует добросердечный, полезный, чисто моральный, великодушный и морально прекрасный поступок пятью примерами, которые связаны с историей, относящейся к рассказу о добром самаритянине (с. 37—41). Для нас важны только третий и пятый. Чисто нравственным (но не более)» является поступок, когда он «совершается вопреки интересам чувств, из уважения к закону» (с. 39). Оно становится прекрасным только тогда, «когда выглядит как эффект природы, возникающий сам собой», когда автономия разума и автономия во внешности совпадают». «По этой причине максимум совершенства характера человека – это нравственная красота, ибо она возникает только тогда, когда долг стал для него природой». «Очевидно, что насилие, которое практический разум совершает над нашими инстинктами в определении нравственной воли, имеет в своей внешности нечто оскорбительное, нечто постыдное… потому что мы рассматриваем всякое существо в эстетической оценке как самоцель, и нам, для которых свобода есть высшее, противно, что нечто должно быть принесено в жертву другому и служить средством».
Поэтому нравственное действие никогда не может быть прекрасным, если мы наблюдаем за действием, в результате которого оно лишается чувственности. Оно должно иметь такой вид, как если бы природа просто выполняла предписание наших инстинктов, действуя вопреки инстинктам, под властью чистой воли» (с. 41 f.). – Еще один» трак» на 30 страницах, который следует за 23 февраля, призван доказать: Красота = Свобода во внешности = Природа в искусстве. Однако мы не хотим идти по его следам, уходящим в собственно эстетическую сферу, а хотим лишь выделить ссылку на Канта. Если 19 февраля (в конце письма) Шиллер просил своего друга назвать «среди всех объяснений прекрасного, которые Кант видит включенными, хоть одно, которое разрешает проблему неистинно прекрасного так удовлетворительно, как, я надеюсь, это было сделано здесь», то 23 февраля (с. 58) он признается, что его теория – это только теория неистинно прекрасного. 58), что его теория – лишь объяснение фразы в «Критике способности суждения» Канта, с. 177, которая «обладает огромной плодотворностью», а именно: «Природа прекрасна, когда она похожа на искусство; искусство прекрасно, когда оно похоже на природу «1) Наконец, для нас важны заключительные замечания этого длинного и интересного письма:
Суровость есть не что иное, как противоположность свободного. Именно эта суровость часто лишает эстетической ценности величие понимания, часто даже морального. Сама добродетель становится любимой только через красоту. Поэтому Цезарь и Кимон приятнее Катона и Фокиона, просто ласковые поступки «часто» (!) больше, чем чисто моральные, умеренные добродетели больше, чем героические, женское начало часто (!) больше, чем мужское; «ибо женский характер, даже самый совершенный, никогда (?) не может действовать иначе, чем по склонности». (стр. 70 f.)
– —
1) Этот отрывок встречается, хотя и не совсем дословно, в редакции «Кр. д. у.», S. 173. Шиллер также ссылался на него в своих лекциях по эстетике; ср. Kürschner a. 0. S. 18.
В своем ответе от 26 февраля Кёрнер соглашается со своим другом: «То, что ты говоришь об оскорбительном характере идеи долга, написано от моего сердца». Его всегда раздражало «это место в кантовской системе». Он подозревает, что «важность отношения формы к содержанию, аналогия формы с духовным… возможно, плодотворность платоновских идей». (!) – Следующее письмо Шиллера сопровождается дополнением о «красоте искусства» (с. 112—122), которое Кёрнер комментирует 7 марта, но в остальном не содержит ничего более эстетического.
Прежде чем перейти к другому содержанию этого письма, однако, чтобы в какой-то мере сохранить хронологию, мы должны добавить письмо Шиллера к Фишениху от 11 февраля, тому самому, который упоминался выше (стр. 234, примечание 1) среди гостей Шиллера на обеде и который зимой 1792/93 года защитил докторскую диссертацию в Бонне. Это письмо одинаково знаменательно как для энтузиазма молодых студентов по отношению к Канту, так и для энтузиазма нашего поэта. В нем говорится: «Я очень рад вашему столь счастливому началу лекций и хорошему восприятию философии Канта преподавателями и студентами. Я не очень удивлен, кстати, по поводу молодых студентов: ведь у этой философии нет другого противника, кроме предрассудков, которых не следует бояться в молодых умах. Очевидно, это обстоятельство очень много говорит в пользу ее истинности… Полная новизна Вашего Евангелия в Бонне, должно быть, очень вдохновляет Вас. Здесь (в Йене) на всех улицах слышны звуки формы и содержания, на пюпитре почти невозможно сказать ничего нового, кроме как решив не быть кантианцем, – как это ни трудно для нас, я все же действительно попытался это сделать.
___
1) Последняя мысль выражена также в великолепных двустишиях поэмы «Женский идеал» (S. W. I 426).
Мои лекции по эстетике завели меня довольно глубоко в этот запутанный вопрос и заставили познакомиться с теорией Канта настолько точно, насколько это необходимо, чтобы не быть больше простым копиистом…". 1)
Вернемся к письму от 28 февраля. В нем Шиллер сообщает о скором появлении «Философской религиозной теории» Канта, то есть «Религии в границах чистого разума», которая будет напечатана в Йене. 2) Он «очарован» той половиной, которая была напечатана до сих пор, и «с трудом может дождаться оставшихся листов». В ней Кант «связывает результаты философского мышления с детским разумом», руководствуясь похвальным принципом – «который Вы очень любите» – «не отбрасывать существующее, пока от него еще можно ожидать реальности, но скорее совершенствовать его». «Возмутительным» для чувств поэта, правда, является предположение Канта о склонности к радикальному злу, но «против его доказательств ничего нельзя возразить, как бы этого ни хотелось». Среди теологов он «не заслужил бы особой благодарности». Напротив, Логос, искупление (как философский миф), идея рая и ада, Царство Божие «и все эти идеи» кажутся Шиллеру «наиболее счастливо объясненными». – Далее Шиллер сообщает, что он находится в процессе написания теодицеи для предстоящего нового издания своих стихов. Он с нетерпением ждет этого, так как «новая философия гораздо поэтичнее, чем философия Лейбница, и имеет гораздо больший характер». Еще большего он ожидает от другого стихотворения, над которым работает («Идеал и жизнь»? ) – в своем ответе (4 марта) Кёрнер очень радуется «Теодицее», а также новой работе Канта, которая, вероятно, была вызвана «Критикой всякого откровения» (Фихте).
___
1) Впервые напечатано в Рейн. Prov.-Bl. 1837.
2) В результате известного притворства прусской цензуры против Канта.
Больше всего он отвергал положение о радикальном зле, потому что оно «основано на одностороннем опыте». (После прочтения текста он написал 31 мая: «Кантианский продукт вызывает у меня неприятные ощущения своей нордической жесткостью и неплодотворной искусственностью догматики»). Кёрнер продолжает: «Если бы только Кант не заставил нас больше ждать своей „Метафизики нравов“! Или, может быть, он еще не в ладах с самим собой по этому поводу? По крайней мере, ему будет трудно построить на ее предпосылках здание плодотворных доктрин». 1) К сожалению, в письмах Шиллера нет ответа на эти серьезные упреки, так же как и на этом обрывается обширная и продолжительная переписка с Кёрнером по поводу «Philosophica»; отчасти потому, что в последующий период поэт часто страдает от своего старого недуга, отчасти потому, что, как он жалуется, его плохо поддерживают соавторы и ему приходится много работать для «Талии». Тем не менее, его дух и сила воли одержали победу над слабым телом. Именно в это время один из самых зрелых плодов его эстетических исследований, трактат об изяществе и достоинстве, появившийся во второй части «новой Талии», был создан с величайшей легкостью, «не более чем за шесть недель», как он сам сообщил своему другу, когда посылал его нам (20 июня). Поскольку к этому трактату, наиболее важному для отношения Шиллера к Канту, нам придется вернуться более подробно в критико-систематической части нашей работы, мы лишь кратко представим наиболее значимые для нашей темы мысли.
_______
1) Я пытался доказать обратное, правомерность этического формализма Канта, в своей вышеупомянутой диссертации 8. 51—81.
По мнению Шиллера, у человека может быть три отношения к «самому себе», то есть его чувственной части к рациональной: 1) подчинение чувственности (субстанции) разуму (форме), 2) подчинение разума субстанции, 3) гармония разума и чувственности – формы и субстанции – долга и склонности. Только третье состояние порождает красоту пьесы, лежащей посередине между достоинством духа и похотью порыва. После этих замечаний – примерно в середине всего трактата – Шиллер впервые в своих трудах обращается к «бессмертному автору критики», которому мы обязаны тем, что мораль «наконец перестала говорить на языке наслаждений», и которому принадлежит слава «восстановителя здравого смысла из философствующего». Подобно Канту, Шиллер также хочет «полностью отвергнуть притязания чувственности в области чистого разума и в моральном законодательстве» и «до этого момента» он считает себя «в полном согласии с ригористами1) морали»; но он надеется «не стать латифундистами» 1), продолжая пытаться утверждать эти притязания чувственности «в области видимости и в реальном исполнении морального долга».
После дальнейшего развития мыслей (которые будут обсуждаться в систематической части) о том, что человек должен не просто совершать отдельные моральные поступки, но быть моральным существом, что он должен повиноваться своему разуму с радостью, что и почему он должен не только привести в связь удовольствие и долг, но что долг должен стать его природой (ср. Вышеупомянутые отрывки из примерно одновременных писем к Кёрнеру), он возвращается (с. 365) к самому Канту, на этот раз в менее одобрительном, а местами – хотя и со всей осторожностью – в агрессивном 2) смысле. В моральной философии Канта, говорит он, «идея долга изложена с такой суровостью, которая отталкивает от нее все милости и может легко соблазнить слабый ум искать нравственного совершенства на пути мрачного и монашеского аскетизма». Конечно, такое «неправильное толкование» было бы «самым возмутительным из всех» для «безмятежного и свободного духа» «великого мирского мудреца», но он сам дал «сильный, хотя с его намерением, возможно, едва ли можно избежать этого», повод для этого «строгим и вопиющим противопоставлением» двух принципов. После доказательства Канта «уже не может быть никакого спора о самом вопросе» среди «мыслящих умов, желающих убедиться», и он вряд ли знает, «как можно не отдать скорее всю свою человечность, чем получить иной результат от разума в этом вопросе».
__
1) Термины, выбранные таким образом, очевидно, взяты из книги Канта «Religioninnerhalbetc/», которую Шиллер читал (см. выше) во время ее издания. Там говорится, стр. 21: «Тех, кто придерживается такого строгого образа мыслей, принято называть ригористами (с названием, которое должно быть упреком, но на самом деле является похвалой), и поэтому их антиподов можно назвать латифундистами».
2) Шиллер сам говорит о нападках (письмо от 18 мая 1794 года).
Но каким бы «чистым» и «объективным» ни был Кант в своем исследовании истины, он руководствовался «более субъективной» максимой в своем «изложении найденной им истины». Ведь ему пришлось бы нападать и преследовать без снисхождения мораль того времени, как грубый материализм, так и «не менее сомнительные» принципы совершенства, и таким образом стать» Draco своего времени», «потому что оно еще не казалось ему достойным и восприимчивым Solon». Итак, до сих пор Кант прямо противопоставляется Шиллеру. Однако теперь (с. 366) начинаются возражения: «Но чем были обязаны домочадцы, что он заботился только о князьях?». – «Поскольку моральный угодник хотел бы придать закону разума ту расхлябанность, которая превращает его в игрушку его удобства, то, следовательно, необходимо было придать ему ту жесткость, которая превращает мощнейшее выражение моральной свободы в более похвальный вид рабства?». – «Неужели сама императивная форма нравственного закона должна была обвинить и унизить человечество…?» Не тем ли самым, в случае «предписания, которое человек как разумное существо дает самому себе», была вызвана «видимость чуждого и позитивного закона»? 1) – «Аскетический дух» такого закона не совместим с «чувствами красоты и свободы». «Прекрасная душа», в которой «чувственность и разум, долг и склонность гармонируют», заслуживает предпочтения перед «схоластическим учеником морального правила, как того требует слово мастера (Канта?)», как тициановская картина перед жесткими штрихами рисунка. Конечно, вся эта красота характера, самый зрелый плод его человечности, является – как провозглашается в начале следующего раздела о «достоинстве» – «всего лишь идеей», которая только «дана» человеку, но никогда полностью не достижима.
__
1) Здесь следует ссылка на «радикальное зло», это «исповедание веры» автора «Критики человеческой природы» в его последнем сочинении: «Откровение» – по словам Шиллера – «в пределах разума».
Кёрнер, как мы уже можем предположить, полностью согласен с замечаниями своего друга против Канта; правда, для него они не зашли достаточно далеко. Он отвечает (29 июня) весьма антикантиански: «То, что ты говоришь о моральной философии Канта, я поддерживаю всей душой. Ваше извинение за Канта разумно, но я почти думаю, что вы отдаете ему слишком много чести. Возможно, ему не хватает чувства нравственной красоты; и я еще не полностью убежден в доказательности его моральной системы. Что же тогда заставляет нас обобщать каждое отдельное действие и рассматривать его как максиму? Разве не является высшим совершенством мыслящего существа определять себя в зависимости от индивидуальных обстоятельств, а не в соответствии с общими правилами, которые, в конце концов, являются лишь средством от умственной неспособности (!)?». Кстати, в последней половине «произведения» Шиллера, которое он приветствует с большим одобрением и как высшее доказательство «изящества», «достоинство уже слишком преобладает, и это должно, мне кажется, быть подчинено изяществу в изложении философии – так же как и в добродетели (!)». (!) К сожалению, и в этом случае мы не имеем ответа Шиллера, по крайней мере, в письме или directe, на такой чисто эстетический взгляд на вещи. Возможно, этому помешало его путешествие в Швабию.
Но «AnmuthundWürde» вызвал к жизни не только старого друга Кёрнера, но и более значительные фигуры, самих Гёте и Канта, высказывания, которые слишком значительны для отношения обоих к Шиллеру, чтобы не упоминать их здесь.
Что касается Гете, то можно было бы подумать, что он почувствовал бы себя обращенным к Шиллеру. Но дело обстоит как раз наоборот: это скорее тормозило, чем способствовало взаимопониманию между двумя великими. Гете сам сообщает об этом в своем» Annalen». 1)
__
1) IV 587
Объяснив ранее, как отталкивали его прежние безудержно гениальные произведения музы Шиллера, он продолжает: «Его эссе о „Благодати и достоинстве“ было столь же мало способно примирить меня. Философию Канта, которая так возвышает предмет, казалось бы, ограничивая его, он поглощал с радостью; она развивала то необыкновенное, что природа заложила в его существо, и он, в высшем смысле свободы и самоопределения, был неблагодарен великой матери, которая, конечно, не относилась к нему по-мачехиному… Я мог даже истолковать некоторые резкие отрывки прямо в свой адрес; они показывали мое вероучение в ложном свете… Огромная пропасть между нашими мировоззрениями только еще больше расширялась… Ни о каком союзе не могло быть и речи», потому что «никто не мог отрицать, что между двумя умственными антиподами разрыв больше, чем диаметр земли». Точно так же он упоминает в другом месте 1), что «резкие выражения», с которыми Шиллер обращался к «доброй матери» с «изяществом и достоинством», сделали это сочинение «столь ненавистным» для него.
Если Шиллер недостаточно далеко зашел для Гете, поэта природы, в признании претензий чувственности и природы, то Кант, философ, зашел слишком далеко. Но мы не имеем в виду, как это делает Куно Фишер, что позиция Шиллера «уже больше склонялась к образу мышления Гете, чем Канта «2), а наоборот. Критическое слово об этом позже. Пока же достаточно отметить, что ««Мужество и достоинство» было гораздо более благосклонно воспринято Кантом, чем Гете. Во втором издании «Religioninnerhalbetc.», которое было опубликовано в следующем году (1794), Кант заговорил о вмешательстве Шиллера в пространном примечании к тому самому отрывку, который установил контраст между ригористами и латифундистами. Это единственный отрывок в его работах, в котором кенигсбергский мудрец высказался о своем отношении к одному из своих величайших учеников; по этой причине, а также потому, что он касается исключительно центрального пункта нашего вопроса, мы не можем не привести его здесь полностью, несмотря на его объем. Кант пишет: «Профессор Шиллер в своем мастерском трактате об изяществе и достоинстве в морали не одобряет эту концепцию обязательства, как будто она несет с собой настроение, подобное картонному домику; но я, поскольку мы едины в самых важных принципах, не могу не согласиться и в этом; если только мы сможем разобраться между собой. – Я охотно признаюсь, что именно по причине своего достоинства я не могу приписать понятию долга никакого очарования. Ведь оно содержит безусловную необходимость, с которой благодать находится в прямом противоречии.
__
1) V 1195. 2) A. a. 0. S. 77
Величие закона (как на Синае) внушает благоговение (не робость, которая отталкивает, и не очарование, которое приглашает к знакомству), которое пробуждает в подданном уважение к своему господину, а в данном случае, поскольку он находится в нас самих, чувство возвышенности нашей собственной судьбы, которая для нас привлекательнее всего прекрасного. Но добродетель, то есть твердое отношение к выполнению своего долга, также благотворна по своим последствиям, более чем все, чего может достичь в мире природа или искусство; и великолепный образ человечества, созданный в этой своей форме, позволяет сопровождать милости, которые, однако, если еще говорят о долге, держатся на почтительном расстоянии. Если же мы посмотрим на те приятные последствия, которые добродетель, если бы она повсюду нашла себе дорогу, распространила бы в мире, то моральный разум вовлекает в игру чувственность (силой воображения). Только победив чудовищ, Геракл становится Мусагетом 1), перед работой которого трепещут те добрые сестры. Эти спутницы Венеры Урании становятся сестрами-богинями вслед за Венерой Дионы, как только вмешиваются в дело долга и хотят дать за это пружины. – Если мы теперь спросим, что является эстетическим качеством, темпераментом добродетели, так сказать, мужественной и потому жизнерадостной, или тревожной, склоненной и подавленной, то вряд ли нам понадобится ответ.
__
1) В своей диссертации (с. 65, прим. 1) я уже позволил себе указать на возможную связь между этим образом, использованным Кантом, и двумя последними строфами «Идеала и жизни».
Последнее рабское состояние души никогда не может иметь места без скрытой ненависти к закону, и бодрое сердце в исполнении долга (а не утешение в признании его) является признаком почтительности добродетельного нрава, даже в благочестии, которое состоит не в самоистязании кающегося грешника (что очень двусмысленно…), а в твердой решимости стать лучше в будущем, которая, подстегиваемая хорошими успехами, должна порождать бодрое настроение духа, без которого никогда нельзя быть уверенным, что человек также любит себя. …), а в твердой решимости поступать в будущем лучше, которая, подстегиваемая хорошими успехами, должна порождать бодрое настроение духа, без которого никогда нельзя быть уверенным, что человек полюбил и добро, т.е. что он взял его в свои максимальные рамки. Радостное впечатление, которое произвело на Канта это рассмотрение Шиллера, видно из его письма к Кёрнеру от 18 мая 1794 года: В новом издании своей «Философско-религиозной теории» Кант позволил себе высказаться по поводу моего сочинения о грации и достоинстве и защититься от содержащихся в нем нападок. Он отзывается о моем труде с большим уважением и называет его работой руки мастера. Я не могу выразить, как я рад, что это письмо попало в его руки и что оно произвело на него такое впечатление». Какое глубокое почтение и непритворная радость выражены в этих строках! Это почитание ученика, почти ученика по отношению к мастеру, радость смешивается со скромным почтением к великому человеку века, которому по счастливой случайности попало в руки его письмо и побудило его так высоко оценить его. И с другой стороны, Кёрнер снова оказался прав, когда с обоснованной гордостью ответил своему Шиллеру замечанием, которое говорит о многом: «То, что Кант высоко ценит вас, меня не удивляет. В характере ваших умов есть определенное сходство, которое можно заметить при ближайшем сравнении» (25 мая 1794 года).
Вернемся от этого отступления к оставленной хронологической последовательности. Одновременно с «AnmuthundWürde», как сообщил Шиллер 27 мая 1793 года, он написал эссе о «патетическом представлении». Оно было опубликовано в «Талии» (3-е и 4-е издания) под названием: «VornErhabenen. ZurweiterenAusführungeinigerKantischenIdeen», в двух частях. Только вторая часть была позднее включена Шиллером в сборник его «Младших прозаических сочинений» под названием «О патетическом», тогда как первая была переработана для этой цели и в этой более поздней форме, «отличавшейся больше собственными взглядами», была включена в этот сборник (1801) и, таким образом, в наши издания Шиллера под названием «О возвышенном». – На самом деле, раннее издание 1) в соответствии со своим названием полностью соответствует кантовской точке зрения и, например, ставит «моральную определенность» в резкий контраст с «физической». 2) Более важным для нашей цели является различие, проведенное в трактате «О патетике» между моральной и эстетической оценкой (с. 417—424). Оно будет рассмотрено позже с систематической точки зрения.
__
1) Перепечатано в Kürschner 129,1. p. 115—140.
2) Там же стр.125 и далее. Аналогично, «Zerstreuten Betrachtung en über verschiedene ästhetische Gegenstände» (8. W. XI 475 ff.), опубликованные в пятой части «Талии», как эстетические в более узком смысле, не содержат ничего существенного для нашей цели.
В качестве основы для такого рассмотрения и одновременно для исторической фиксации точки зрения Шиллера здесь может найти свое место «попутное замечание» о «разнообразии эстетического впечатления, которое концепция долга Канта производит на различных критиков». «Незначительная часть публики находит эту концепцию долга очень унизительной; другая находит ее бесконечно возвышающей сердце. Оба правы, и причина противоречия кроется лишь в различии точек зрения, с которых оба рассматривают этот предмет. Однако нет ничего великого в простом исполнении своего долга, а поскольку лучшее, на что мы способны, – это лишь исполнение, и притом недостаточное исполнение, своего долга, то в высшей добродетели нет ничего вдохновляющего. Но верно и настойчиво исполнять свой долг, несмотря на все ограничения чувственной природы, и неизменно следовать святому закону духа в узах материи – это действительно возвышенно и достойно восхищения. Конечно, в нашей добродетели нет ничего достойного внимания, и сколько бы мы ни позволили ей стоить, мы всегда будем бесполезными слугами; с другой стороны, в мире чувств она тем более желанный объект. Итак, если мы оцениваем поступки с нравственной точки зрения и соотносим их с моральным законом, то у нас нет оснований гордиться своей нравственностью; если же мы рассматриваем возможность этих поступков и соотносим способность разума, лежащую в их основе, с миром видимости, то есть если мы оцениваем их с эстетической точки зрения, то у нас нет оснований гордиться своей нравственностью. Т.е. в той мере, в какой мы оцениваем их эстетически, нам позволено определенное самоощущение, более того, оно даже необходимо, потому что мы обнаруживаем в себе принцип, который велик и бесконечен вне всякого сравнения» (с. 422). Как мы не смогли преодолеть удаление слова в комментарии Канта против Шиллера выше, так мы не сможем преодолеть удаление слова в комментарии Шиллера здесь.
Ибо если первый отрывок – помимо общего интереса, на который могут претендовать оба, – является единственным явным свидетельством позиции Канта по отношению к Шиллеру, то второй – особенно метким доказательством глубины понимания, с которым поэт воспринял учение философа. Может ли «ригористическая» этика быть лучше понята в своей глубинной сути, более горячо защищена от противников, более тонко развернута эстетически – и это последнее, как мы увидим, в дальнейшем развитии кантовских идей? – Вероятно, Кёрнер почувствовал эту тесную связь между своим другом и Кантом, когда, долго «размышляя» над эссе Шиллера, написал ему: «…Я так же мало согласен с тобой, как и с Кантом. Я так же мало согласен с Вами в принципах, как и с Кантом. В результатах мы снова встречаемся…". (25 ноября 1793 года).
Наконец, еще одно важное свидетельство кантианства Шиллера этого 1793 года, столь богатого философскими урожаями, мы имеем в оригинальных письмах об эстетическом воспитании 1), действительно отправленных принцу Шлезвиг-Гольштейн-Августенбургскому, из которых, как известно, первые семь, к счастью, сохранились в копиях, а остальные сгорели во время пожара в копенгагенском замке. Как бы ни было интересно рассмотреть эти письма более подробно и сравнить их с эстетическими письмами в собрании сочинений, мы должны воздержаться от этого по вполне понятным причинам. С другой стороны, мы считаем, что не должны не упомянуть те отрывки, которые прямо касаются философии Канта. – В первом письме (9 февраля 1793 года) он заявляет, что философская революция свергла прежнюю систему эстетики, «если можно иначе назвать ее», и что «Критика способности суждения» Канта подготовила, если не основала, новую теорию искусства.
__
– Перепечатано в Kürschner 129, 2 p. 77—131. Он написал его частично во время своего пребывания в Швабии в 1793 году.
Но у наших самых выдающихся мыслителей – очевидно, речь идет в основном о Канте – все еще «заняты руки» метафизикой, естественным правом и политикой, и поэтому мало времени для философии искусства, «рыцарем» которой решил стать Шиллер. Его профессия в философии была «еще очень неопределенной», но у него было преимущество в том, что он уже «довольно долго практиковался в искусстве», и он, в частности, «больше, чем кто-либо другой из его братьев-художников в Германии, научился на ошибках». (с. 78 f.) Если он, как «новичок, который только вчера заглянул в святилище философии», осмеливается предпринять самостоятельную попытку решить эстетическую проблему после Канта, то сама философия Канта дает ему и смелость, и средства для этого. «Эта плодотворная философия, которую так часто обвиняли в том, что она всегда разрушает и ничего не строит, дает, по моему нынешнему убеждению, прочные фундаментные камни для возведения системы эстетики». (p. 79 f.) – Во втором письме (13 июля 1793 года) Шиллер объясняет, что ему «очень часто» придется следовать критической философии, но подчеркивает разницу между своим способом чтения лекций и «догматическим» способом Канта. «Строгая чистота и схоластическая форма, в которой представлены предложения Канта, придает некоторым из них твердость и „особенность“, чуждую их содержанию, и, лишенные этой оболочки, они предстают как отложенные во времени утверждения общего разума». 1) «Философские истины… должны быть найдены в другой форме, применены и распространены в другой форме. Красота здания становится видимой только после того, как убирают приспособления каменщика и плотника и рушат леса, за которыми оно возвышалось. Но большинство учеников Канта позволяют вырвать у себя дух, а не механизм его системы, и таким образом показывают, что они больше похожи на рабочих, чем на строителей. (p. 81 f.) 2) Когда в дальнейшем в этом письме Шиллер ссылается на Французскую революцию, в фактическом развитии которой он не увидел осуществления своих надежд на „монархию разума“, которая „уважает и рассматривает человека как самоцель“, мы хотели бы провести параллель с этим одновременным устным заявлением, которое, насколько нам известно, до сих пор малоизвестно и которое сохранил для нас его друг детства фон Ховен. 3) В разговоре во время пребывания в Швабии, в котором он пророчески предсказал, среди прочего, наполеонизм, он сказал: „Действительные принципы, которые должны лечь в основу действительно счастливой буржуазной конституции, – это… указывая на „Критику разума Канта, которая только что лежала на столе, нигде еще не было“. – В третьем письме (без даты) он хочет „оправдать двойное утверждение“, что прекрасное „помогает воспитанию просто чувственного человека в рационального“, но что возвышенное „улучшает недостатки прекрасного воспитания“. (стр. 96) (Это „двойное утверждение“ уже содержит основные идеи двух меньших трактатов: UeberdienotwendhwendigenGrenzenbeimGebrauchschönerFormen“ и JJeberdenmoralischenNutzen ästhetischerSitten», которые появились в «Horen» в 1795 и 1796 годах соответственно, и которые можно считать уже решенными, по крайней мере, для исторической части этой работы).
__
1) Ср. вышеприведенныйотрывокиз «Anmuth und Würde* von der Wiederherstellung der gesunden Vernunft».
2) Ср. дистих: «Как один богач кормит столько нищих! Когда короли уходят, купцы вынуждены заниматься торговлей.
3) C. v. Wolzogen, Schillers Leben S. 243.
На с. 99 все действия из чувств объявляются в подлинно кантовски строгой манере «плохо и повсеместно физическими» 1) и более того (с. 99 и далее) моральная «свобода» или «определение разумом» в целом резко противопоставляется «чувственной зависимости» или «рабству природы.
– Четвертое письмо (11 ноября) содержит! Каноническое наставление: Sapereaude! для века, просвещенного «более зрелой философией» и «лучшими нравами», но находящегося в заторможенном состоянии. Признается, что «просветительская работа должна начинаться с нации, с улучшения ее физического состояния». Социалистическая мысль! – Пятое письмо (25 ноября) сначала дает исторические объяснения того, что до сих пор было теоретически доказано, а затем остроумно излагает стили, говоря о Канте: «Так, «Критика разума» Канта, очевидно, была бы менее совершенным произведением, если бы она была написана с большим вкусом». (стр. 117) – Шиллер использовал шестое письмо (3 декабря 1793 года) почти дословно для более позднего эссе «О моральной пользе эстетических нравов», за исключением введения и заключения. В первом есть явное и полное признание Канта, которое отсутствует в более поздней адаптации и звучит так: «Признаюсь сразу, на время, что в главном пункте учения о морали я мыслю совершенно по-кантовски. Ибо я верю и убежден, что только те наши поступки называются нравственными, на которые нас побуждает лишь уважение к закону разума, а не импульсы, как бы изысканны они ни были 2) и как бы внушительны ни были их названия. Я полагаю, как и самые строгие моралисты, что добродетель должна абсолютно покоиться на самой себе и не может быть связана ни с какой отличной от нее целью. Хорошим (согласно античным принципам, которые я полностью игнорирую в этой работе) является то, что происходит только потому, что это хорошо». (p. 118 f.) В заключении письма, которое также отсутствует в трактате, следует важное для нашей темы предложение о том, что «известные пределы человечества» заставляют даже «самого строгого этика» несколько ослабить применение своей системы… и «прикрепить благосостояние мира… к двум сильным якорям – религии и вкусу». stilltobefastenedforsafetytothetwostronganchors, religionandtaste» – в связи с этим заключительным предложением трактата, интеллектуальные и очень откровенные замечания о религии, которые очень характерны для позиции поэта в отношении последней, поскольку показывают его, как он сам пишет, «полностью таким, какой он есть» (с. 129) – Короткое седьмое письмо (без даты), посвященное эстетической общительности, не имеет значения для нашей цели.
__
1) Vgl. Kant pr. V. 92, Met. d. S. 207.
2) Vgl. Kant pr. V. S. 27 f.
Теперь мы переходим к году, столь важному для истории немецкой поэзии и, по своим последствиям, не без влияния на позицию Шиллера в отношении философии, в котором была установлена великая связь между Шиллером и Гете:
1794
Во время своего пребывания в Швабии – зимой 1793/94 года – Шиллер уже задумал объединить самых замечательных писателей Германии в журнале, который превзошел бы все, что когда-либо существовало в этом жанре. 13 июня 1794 года были разосланы приглашения принять участие в «Horen» 1). В письме, в котором он сообщает об этом Кёрнеру (12 июня 1794 года), он называет Гёте и Канта 2) первыми среди «избранных лучших писателей-гуманистов», которых он имел в виду. А сопроводительные письма, которые он написал к печатному проспекту нового журнала, среди которых письма, адресованные Гете и Канту, имеют одну и ту же дату – 13 июня, являются началом переписки Шиллера именно с этими двумя людьми, которые – мы вполне можем сказать – были для него самыми решающими в его самый зрелый период.
__
1) «Новая Талия» была получена в конце 1793 года.
2) В других письмах-приглашениях, например, к Якоби и Матиссону, имя Канта было помещено вверху. В письме, в котором Фихте настоятельно одобряет «предложение герра Шиллера», говорится: «Для нашего Института, перед миром и потомством, было бы высшей рекомендацией, если бы нам было позволено назвать Ваше имя во главе». Шуберт в «С. W.» Канта (XI 2, 113 и XI 1, 147 f.).
Переписка с кенигсбергским философом, конечно, ограничивалась этим письмом-приглашением Шиллера и ответом Канта, который пришел только через девять месяцев (см. ниже), вероятно, по вине философа, который вообще очень плохо писал письма; 1) в то время как письмо Гете было только введением к совместной деятельности обоих мужчин, которая теперь выражалась почти ежедневно в течение многих лет, иногда устно, иногда письменно. Однако еще более значительной является внутренняя связь между Кантом, Шиллером и Гете, возникшая примерно в то же время. Не в последнюю очередь философия Канта до сих пор разделяла этих двух антиподов духа (см. выше под 1790 и 1793 гг. с. 230 и с. 244 и сл.); теперь Канту предстояло навсегда свести их вместе. Разговор об опыте и идее, связанный с идеей Гете о метаморфозе растения, в котором Шиллер показал себя «образованным кантианцем», стал, как позже рассказывал сам Гете в своих «Tages- undJahresheften», «первым шагом» к их постоянному сближению. 2)
__
1) Ср. мой комментарий в GoedekesGrundriss, 2-е изд. V §247 и биографию Шуберта в Kant’sS. W. XI 2, pp. 43 f., 79, 191, где в последнем месте также указывается на определенное оправдание. Сам Кант часто оправдывается, отчасти необходимостью завершить свои работы, отчасти своим возрастом (XI 1. с. 121 и в других местах).
2) Гете С. W. IV 537 f.
Шиллер использовал письмо-приглашение к Канту, чтобы вернуться к замечанию, направленному против него в «Religioninnerhalb» и т. д. (см. выше), и – извиниться. Оставив в стороне просьбу, сформулированную в самых лестных и почтительных выражениях, о «доле, пусть даже небольшой», в новом «литературном обществе», мы должны опустить все остальное, поскольку оно имеет самое непосредственное отношение к нашей специальной теме. Шиллер пишет:
«Я не могу упустить эту возможность и не поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделили моему маленькому трактату, и за снисходительность, с которой Вы упрекнули меня по поводу моего второго. Только живость моего желания сделать результаты основанной Вами моральной доктрины приемлемыми для той части публики, которая все еще, кажется, бежит от нее, и нетерпеливое желание примирить недостойную часть человечества 1) со строгостью Вашей системы, могли на мгновение придать мне репутацию Вашего противника, к чему, на самом деле, у меня очень мало способностей и еще меньше склонности. В том, что вы не поняли неправильно то отношение, с которым я писал, я убедился с бесконечной радостью от вашего признания, и этого достаточно, чтобы успокоить меня в отношении неправильных толкований, которым я тем самым подвергал себя в других.
– Наконец, примите уверения в моей самой искренней благодарности за благосклонный свет, который вы зажгли в моем духе, – благодарности, которая, как и дар, на котором она основана, безгранична и вечна». 2) Даже если списать некоторые обороты речи в этом письме на связанную с ним цель или вежливую любезность, все равно остается достаточно, чтобы найти в нем благодарный энтузиазм ученика к мастеру.
Именно в это время Шиллер в остальном становится вполне кантианцем. 3)
__
1) Этот отрывок очень напоминает цитированный выше отрывок из S. 22 из трактата о патетическом*: … не презираемая часть публики__»
2) Werke Канта XI 1, S. 169.
3) Ср. письмо кантианца Эрхарда, друга Шиллера, барону Герберту (17 мая 1794 г.), который сообщает, что Шиллер «полностью проникся духом системы Канта». (Tomascbekp. 265, 357)
4 июля он пишет Кёрнеру: «Теперь я на время оставил всякую работу, чтобы изучать Канта. Однажды я должен смириться с этим, если не хочу всегда продолжать свой путь в спекуляции неуверенными шагами», и – после ответа Кёрнера, пожелавшего ему благословения «гения философии» на это исследование, которому «в значительной степени способствовали» его контакты с Гумбольдтом и Фихте – 20 марта: «Изучение Ианта – это все еще единственное, чем я продолжаю заниматься, и я наконец замечаю, что оно становится во мне все ярче. Больше ничего не произошло в Хорене, и Кант еще не ответил». 1) Да, 4 сентября он чувствует себя настолько отвращенным от поэзии, что «правильно боится» работать над собственным черновиком «Валленштейна», «ибо с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь, что на самом деле могу представить себе не что иное, как поэта, и что самое большее, где я хочу философствовать, поэтический дух удивляет меня… В поэтическом я в течение трех или четырех лет» – то есть с момента обращения к кантовской философии – «облекся в совершенно нового человека». – В своем ответе (10 сентября) Кёрнер называет стремление своего друга к философскому содержанию «нордическим грехом», из-за которого тот нарушил собственное воображение, доказывая это тем же выражением, которое он использовал 31 мая 1793 года в «Religionsschrift» Канта. – 12 сентября уверенность Шиллера в себе снова возросла – возможно, благодаря уступке Гете 2); теперь он «с большим удовольствием» работал над «Перепиской с принцем Августенбургским» в «Письмах об эстетическом воспитании человека», а также писал «от сердца и с любовью» «эссе о природе и наивности», которое должно было стать «как бы мостом к поэтическому творчеству».
__
1) О том, с каким нетерпением Шиллер ждал ответа Канта, свидетельствует письмо Фихте к Канту от 6 октября 1794 года, в котором говорится: «…Господин Шиллер, который заверяет Вас в своем почтении, с нетерпением ожидает Вашего решения по поводу запроса, который был сделан по вопросу, который интересует его в высшей степени, и не менее других нас. Можем ли мы надеяться?» В первоначальный консорциум» Horen» входили Шиллер, Вольтман, Фихте, В. В. Гумбольдт.
2) Гете пригласил Шиллера погостить у него в доме на более длительный срок; см. переписку стр. 10 и далее.
Первое письмо Гете, в котором он выражает свою «кантовскую веру», относится к этому периоду завершения его основной эстетической работы, о которой также часто упоминалось ранее (например, 20. 6 и 29. 6. 93, 4. 2 и 11. 7. 94). 26 октября Гете с полным восторгом отзывается о той части эстетических писем, присланных ему в рукописи, в которой он нашел то, что «давно признавал истинным», то, чем он «отчасти жил, отчасти желал жить, изложенным столь связно и благородно» 1)», а также упоминает об одобрении своего друга Мейера. 28 октября Шиллер отвечает, что голос последнего «утешает его над противоречием Гердера, который, кажется, не может простить мне моей кантовской веры», а затем продолжает: «Сама философия Канта не терпит основных положений и имеет слишком строгий характер, чтобы с ней можно было примириться. Но это делает ей честь в моих глазах, поскольку доказывает, как мало она может терпеть произвол. Такая философия, следовательно, не хочет быть отброшенной простым покачиванием головы. Она строит свою систему на открытом, светлом и доступном поле исследования, никогда не ищет тени и ничего не оставляет для частного чувства, но она хочет, чтобы с ней обращались так же, как с ее соседями, и ее можно простить, если она не уважает ничего в качестве основания для доказательства. Меня ничуть не пугает мысль, что закон перемен, перед которым ни одно человеческое или божественное дело не обретает благодати, разрушит и форму этой философии, как и всякой другой; но основам ее не придется бояться этой участи, ибо, сколько существует человеческий род, столько существует и разум, он молчаливо признается и в целом действует». Жаль, что визит Гете к Шиллеру, состоявшийся через несколько дней и продолжавшийся несколько дней, лишил нас письменного ответа первого на это философское кредо его новообретенного друга.
__
1) Гете, с другой стороны, слишком льстил себе, так как он пренебрег характером Шиллера, когда позже сказал, что тот «из дружеского расположения ко мне, возможно, больше, чем по собственному убеждению» не стал бы обращаться с «доброй матерью» (sc. nature) в эстетических письмах «с такими резкими выражениями», как в «Anmuth und Würde». (V 1195).
Приверженность последнего к Канту проявляется в письме тем резче, что за ним сразу же следует весьма неблагоприятный приговор «субъективному спинозизму» «нашего друга Фихте». 1) Кёрнер испытал такое же удовольствие от чтения рукописи, как и Гёте, хотя как старый друг он позволяет себе различные критические замечания. Например, он считает, что Шиллер зашел слишком далеко, что он слишком много ссылается на кантовские предложения, хотя его аудитория «шире, чем у Канта», и что он рассматривает эстетическое воспитание скорее как средство, чем как самоцель. (7 ноября) Соответственно, Шиллер также гораздо ближе к нашему философу, чем Кёрнер. Однако пренебрежительная дискредитация Гердера, которая уже была высказана Гете – «Гердер не любит их (эстетические письма) как кантовские грехи и дуется на меня по этому поводу», – пишет Шиллер 7 ноября, – в более позднем письме Кёрнера (40 ноября) называется патетикой, проистекающей из нетерпимости и самодовольства. «Неужели он не нашел в Ваших письмах ничего, кроме кантовских идей? И даже если он не совсем согласен с Кантом, может ли он не признать высокий характер, его (его?) способ философствования, если он способен на беспристрастное суждение?». – Что касается «второй доставки» эстетических писем, которая «стоила ему больших усилий» (4 дек.), Шиллер считает, что упрек Кёрнера в том, что он «кантисирен», «к сожалению (!) еще более заслужен». То, что это «кантисирен» здесь, однако, относится только к трудности материала, ясно из предложения, которое следует сразу за этим. «Но иначе и быть не могло, как только разработать окончательные причины. Тем не менее, я надеюсь, что в нем наблюдалась большая простота, чем та, к которой до сих пор привыкли». (Дек. 19) – В последнем письме 1794 года, наконец (Дек. 29), он выражает «безмерное удовлетворение» собой. «Моя система теперь приближается к зрелости и внутренней последовательности, которые гарантируют ей твердость и продолжительность… Все вращается вокруг концепции взаимодействия абсолютного и конечного, вокруг понятий свободы и времени, власти и страдания.
__
1) В более ранних письмах (например, от 12 июня и 4 июля 1794 года) вердикт о Фихте, на которого Шиллер изначально возлагал большие надежды, более благоприятен, поскольку Шиллер возлагал на него почти большие надежды (ср. Гумбольдт – Шиллеру 22 сентября 1794 года).
Такое же приподнятое настроение выражено в первом письме нового года.
1795
Кёрнеру, которому он посылает в продолжение эстетических писем до 17-го включительно. «Такого единства, как то, которое скрепляет эту систему, я еще никогда не создавал в своем уме, и должен признаться, что считаю свои доводы непреодолимыми». Он вызывает на поединок самого друга. «Каждое ваше выступление сослужит мне теперь великолепную службу и увеличит ясность моих идей». (5 янв. 1795 г.) Так пишет только самоуверенная сила философского мыслителя. Но, с другой стороны, поэтическая часть этой поэтико-философской двойной натуры была так сильна и так легко пробуждалась, что не более чем через два дня, после чтения «Вильгельма Мейстера», пронизавшего его «сладким» ощущением «духовного и физического здоровья», он смог написать Гете: «Я не могу выразить Вам, как смущает меня часто чувство, когда я смотрю на философское существо из произведения такого рода. Там все так радостно, так живо, так гармонично решено и так по-человечески правдиво; здесь же все так строго, так жестко и абстрактно и так в высшей степени неестественно, потому что вся природа есть только синтез, а вся философия – антитеза. Конечно, я могу засвидетельствовать, что в своих рассуждениях я остался настолько верен природе, насколько это совместимо с концепцией анализа; более того, возможно, я остался более верен ей, чем наши кантианцы считают допустимым и возможным.
Как сама красота берется из всего человеческого существа, так и этот мой анализ берется из всего моего человечества, и для меня должно быть слишком важно знать, насколько он совпадает с вашим“. (7 января 1795 г.) На это весьма значительное письмо Гёте также не ответил письменно, по причине личной встречи между ними; однако о последнем вопросе мы узнаем из письма Шиллера к Кёрнеру от 19 января, в котором он описывает впечатление от устной лекции о части эстетических писем Гёте. „Вчера вечером у меня был очень интересный опыт того, насколько ясным эссе в его нынешнем виде является даже для некантианских читателей. Я прочел его Гете и Мейеру, которые были здесь восемь дней, и оба были увлечены им от начала до конца, причем в такой степени, на которую едва ли способно любое произведение красноречия.“ Насколько большое внимание он уделял постоянной систематической связи с Кантом, помимо внимания к читателям, которые не были строго философски настроены, видно из следующего замечания в том же письме: „Я также полностью исправил неправильное толкование бытия и возникновения там, где это было необходимо; хотя это уже было достаточно определено в самом деле. Ибо когда я говорю, что человек есть лишь постольку, поскольку он изменяется, самый строгий кантовский ригорист не может ничего возразить против этого, поскольку человек уже не является нуменоном.
Что касается самих «Писем об эстетическом воспитании человека», то мы еще меньше, чем в случае с другими сочинениями Шиллера, которых мы коснулись, можем обсуждать их систематическое содержание или даже давать им характеристику. Это главное эстетическое произведение Шиллера слишком важно и обширно для этого; насколько это необходимо, оно в любом случае будет обсуждаться в последующем критическом разделе. Здесь же мы ограничимся приведением тех отрывков, которые цитируют Канта и поэтому представляют исторический интерес. Здесь их гораздо меньше, чем в оригинале писем (см. выше с. 249—253). В первом письме Шиллер признает – в соответствии с аналогичным содержанием второго письма к принцу (см. выше с. 250) – что это «по большей части кантовские принципы, на которых будут основываться следующие утверждения», и далее выражает мысль, уже высказанную там, а также в «Anmuth und Würde» и письме от 26 октября 1794 года. Октябрь 1794 г.: «По поводу тех идей, которые являются господствующими в практической части системы Канта, только философы расходились во мнениях, народ же, смею доказать это, всегда был един. Освободите их от их технической формы 1), и они предстанут как отложенные во времени требования здравого смысла и как факты нравственного инстинкта, который мудрая природа поставила на страже человека, пока светлое прозрение не сделает его совершеннолетним».
__
1) Сравните более красивое воплощение этой картины в письме к князю (выше стр. 251).
В примечании к 13-му письму (с. 52) он говорит, что идея о необходимом противоречии между разумом и чувственностью «никак не соответствует духу системы Канта, но вполне может лежать в ее букве». – Наконец, в 15-м письме он комментирует обсуждение понятия красоты: «В этой работе, как и во всем остальном, критическая философия открыла путь, чтобы привести эмпиризм обратно к принципам, а спекуляцию – к опыту». (с. 62, примечание.) Таким образом, эти краткие выдержки из самого письма подтверждают чувство друга и оппонента, что один и тот же в основном дух Канта То, что такая независимая индивидуальность, как Шиллер, не может быть принуждена к какому-либо образцу, само собой разумеется, и его значение для дальнейшего развития кантовской системы будет обсуждаться позже. Здесь же нам остается лишь отметить историческое влияние. То, что такое влияние имело место и со стороны философии Фихте (в ее первой форме), мы уже отмечали в другом месте. 1) О том, что он не был слишком глубоким, свидетельствует оживленный спор, который Шиллер вступил с Фихте в 1795 году именно по этим вопросам. Фихте представил свои идеи на ту же тему под названием «Дух и буква в философии» (Geist und Buchstab in der Philosophie) в качестве эссе для «Horen», но Шиллер отверг его как неподходящее. 2) Высказывание Фихте в письме, в котором он жалуется на это Шиллеру, характерно для позиции обоих по отношению к эстетике Канта. В своем письме Фихте думает, что он «распространил ясность, которой нет нигде, по поводу нескольких темных высказываний Канта в теории вкуса, в результатах которых я с ним совершенно согласен», а затем замечает, весьма изумленный: «Но что я говорю? Именно в этих отрывках и возникают ваши вопросительные знаки». 3) (!) Так, в письме, которое он в конце концов отправил Шиллеру после публикации части эстетических писем, сам Кант смог написать полную похвалы фразу: «Я нахожу письма об эстетическом воспитании человека превосходными и изучу их, чтобы иметь возможность сообщить Вам свои мысли о них». 4) Для истории философской этики и эстетики одним из самых прискорбных фактов является то, что это намерение Канта – о котором сокрушался уже Вильгельм в. Гумбольдт 5) – а также «культивирование» «знакомства» и «литературного общения» с «талантливым и ученым человеком» и «дорогим другом» в целом, которое кенигсбергский философ предполагал в этом письме, осталось неосуществленным.
__
1) Ср. вмоейдиссертациистр. 63 ив Heft 1 und 2 dieser Zeit schrift S. 62.
2) Schiller und Fichtes Briefwechsel ed. J. H. Fichte. 1847. S. 28 ff.
3) a. a. O. S. 39.
4) S. W. XI, 1, S. 169 -171. Письмо датировано 30 марта 1795 г.
5) Гумбольдт – Шиллеру 11 декабря 1795 г.: «… Хотел бы он (Кант) еще написать тебе свои „Ueberlegtes“ о твоих письмах до своей отставки» (a. a. O. S. 247).
Помимо других причин, «несдержанности старости» и «множества еще предстоящих мне работ», которые Кант часто приводит, в том числе и здесь, в свое оправдание, было еще известное притеснение нашего философа берлинской цензурой 1), которым он мотивировал и «отсрочку» запрошенного им вклада в «Horen» 2), который впоследствии, в результате преждевременного закрытия этого самого идеального из всех немецких журналов, вообще не мог быть осуществлен. Возможно, отрывок из 19-го «Эстетического письма», который мы недавно почти дословно обнаружили в «OpusPostumum» Канта (см. выпуски 1 и 2 этого журнала), является признаком того, что Кант делал заметки с целью предполагаемого обсуждения писем Шиллера, которое он потом уже не успел сделать из-за перегруженности другими работами, в связи с нарастающей слабостью старости. О том, как много планов было у Канта в то время, несмотря на 71 год, можно судить по заметке в письме В. В. Гумбольдта к Шиллеру от 5 октября 1795 года:> … Недавно я разговаривал с профессором из Эрлангена, его зовут Мемель. Он только что приехал из Кенигсберга и много знает о Канте. Среди прочего он сказал, что у Канта в голове все еще огромное количество незаконченных идей, над которыми он не только хочет работать, но и работать в определенном порядке…". 3). Радостное впечатление, которое произвело на нашего поэта прибытие долгожданного письма из Кенигсберга, хотя в этом отношении заметно более слабое, чем прежде, отражено в письме его к Кёрнеру от 10 апреля 1795 года, в котором говорится: «Кант написал мне очень дружеское письмо, но просит отсрочки в отношении Horen. Он хочет написать мне больше о моих эстетических письмах, которые он очень хвалит, когда изучит их. Однако я только рад, что старик все-таки в нашем Обществе.
__
1) См. последнююобработкув: Fromm, ImmanuelKantunddiepreussischeCensur. Haipbg. u. Lpz. 1894.
2) «Что касается моего небольшого вклада в этот дар для публики, то я должен просить о некоторой задержке, потому что, поскольку на вопросы государства и религии теперь наложено преднамеренное эмбарго, а других статей, представляющих интерес для читающей публики, почти нет, эту перемену погоды необходимо соблюдать еще некоторое время». Однако в своем объявлении» Horen» «превосходно и безоговорочно» исключил все, «что относится к государственной религии и политической конституции». (Briefw. m. GoetheI. p. 2.)
3) Переписка между Шиллером и Гумбольдтом, с. 155.
Степень проникновения философских начинаний, особенно исследований Канта, во все, даже военные, круги в то время. Исследования Канта проникли во все, даже военные круги, о чем красноречиво свидетельствует заключительный отрывок письма Кёрнера (от 27 апреля 1795 года). «Ваши эстетические письма, как он пишет, чрезвычайно вдохновили его (майора фон Функа 1) на философию, и он немедленно приказал Тилеману 2) дать ему все, что у него есть из трудов Канта, Фихте и Рейнгольда в его полевом снаряжении». Должно быть, Канту было приятно узнать, что его также почитают и изучают среди гусар на Рейне. Причем двумя офицерами, которые значительно преуспели в своей области». – Да, идеи Канта даже изображались художниками на аллегорических картинах. 3)
4 мая 1795 года Шиллер писал своему другу Кёрнеру, что он намеренно послал свою «Элементарную философию» заранее в эстетических письмах, «чтобы иметь возможность вернуться к ней позже в отдельных замечаниях». Таким образом, он надеется «не оставить ни одного важного предложения из первых двух и трех родов необсужденным в течение нескольких лет». В могучем порыве своей вновь пробудившейся поэтической продуктивной силы – не знаем, радоваться ли этому больше или сокрушаться, – он не успел этого сделать. Вместо этого из-под его пера вышли только два эстетических произведения, первое из которых – более свободная переработка «Vom Erhabenen», уже упоминавшаяся выше (с. 248) под названием:
– —
1) Функ очень часто появляется в переписке между Шиллером и Кёрнером; он также упоминается в «Шиллер-Гёте» как автор» Horen».
2) По договоренности с Шиллером, Тилеманн как офицер должен был представить «Лагерь Валленштейна», среди прочих произведений, на рецензию Кёрнеру (Шиллер – Кёрнеру, 18 июня 1797 года). – Великолепная конная песня из него «с энтузиазмом распевается Тилеманном и его окружением». (Кёрнер 25 декабря 1797 г. а. О. IV 101).
3) Переписка Шиллер-Гёте стр. 111, 112, 116. Шиллер (5 февраля 1796 г.) считает «восхитительную новость» «надеюсь, шуткой».
Ueber das Erhabene («О возвышенном»), в котором развивается основная идея (с. 314) о том, что «к прекрасному следует добавить возвышенное», чтобы эстетическое воспитание стало полным целым. Поскольку в этом отношении она уже показывает свою связь с мыслью Канта, она даже напоминает нам Канта в своих выражениях, например, когда говорится об «утонченной чувственности», что «в соблазнительной оболочке духовного прекрасного» она способна отравить святость максим «у их источника». 1) Однако даже в нем, говоря словами Гумбольдта, «один и тот же способ представления возвращается снова и снова в различных обличьях и многообразных применениях» 2), так что мы можем почувствовать, что нам нет необходимости углубляться в него.
То же самое относится и к единственному оставшемуся эстетическому трактату Шиллера Ueber naive und sentimentalische Dichtung, который появился в «Horen» в конце 1795 и начале 1796 года, почти в еще большей степени. Ибо это сочинение, которое Розенкранц 3) называет «поэтикой в соответствии с принципами Кантовой критики силы суждения», в целом слишком далеко от нашей темы. Поэтому мы даже не вдаемся в знаменитое сравнение идеалиста и реалиста (S. 268 – 281) с их реальными или предполагаемыми личными аллюзиями, по крайней мере, здесь, или в объяснение наивного, которое прямо связано с Кантом, а ограничимся тем, что выделим суждение поэта о характере и философской профессии Канта, которое содержится в начале трактата. «Тот, кто научился восхищаться автором (sc. Критики эстетической силы суждения) только как великим мыслителем, будет рад найти здесь (sc. в главе об интеллектуальном интересе к красоте) след его сердца и убедиться благодаря этому открытию в высокой философской профессии этого человека (которая требует обоих качеств вместе взятых)» (S. 168 note).
__
1) Сравните Кр. д. пр. V. P. 108: … Это было бы равносильно желанию загрязнить нравственное отношение в его источнике»; аналогично Met. d. Sitten (ed. v. KirchmannS. 207). Sitten (ed. v. Kirchmann) p. 207: «Die Tugend lehre wird dann.. всвоемисточнике… испорчено».
2) Гумбольдт – Шиллеру 27 ноября 1795 г. (а. а. О. S. 219).
3) ИсторияфилософииКанта, стр. 4 (Geschichte der Kantschen Philosophie S. 4)
Как мы уже видели (стр. 256), последний трактат был призван дать Шиллеру «мост, так сказать, к поэтическому творчеству», от которого он полностью отказался в течение нескольких лет. Таким образом, мы вступаем в последний период, почти точно в последнее десятилетие жизни поэта, который характеризуется его отказом от философских занятий и возвращением к поэзии, очевидно, под влиянием Гете. Следующий период, то есть примерно вторая половина 1795 года, в которую были написаны его последние эстетические сочинения 1), образует своего рода переходный период. Как мы уже видели, 5 мая 1795 года он все еще обсуждал многие философские вопросы и заявил, что философские занятия гораздо предпочтительнее исторических. «Философские занятия не требуют стольких заученных приготовлений, делают ум более здоровым и доставляют бесконечно больше удовольствия». С другой стороны, со второй половины года появляется больше признаков поэтической деятельности (ср. письма к Кёрнеру от 3 авг., 17 авг., 11 сент.).
___
1) Последние листы aNaivenundsentim. Dichtung появились в начале 1796 года, «и таким образом мое философское и критическое письмо для Horen закончено на довольно долгое время.» (7 янв. 1796)
На самом деле, как он пишет 3 августа, он еще не пустился «в широкое море» поэзии, а «плывет по берегу философии». Это время появления так называемых философских поэм, той благородной поэзии мысли, которая дала высшим философским идеям воплощение в плавучем, возвышенном языке и блестящем ритме, равных которому не было со времен Платона. Как бы ни была восхитительна задача философского рассмотрения этих наиболее зрелых цветов гения Шиллера вместе с более ранними стихотворениями, мы слишком высокого мнения о нем, чтобы заниматься таким предметом вскользь. Друзья (Гете, Кёрнер, Гумбольдт, Гердер) испытывали сильнейший восторг и восхищение философско-поэтической двойственностью Шиллера. Так, Гете писал о последнем моменте, который должен интересовать нас более подробно при описании философского хода развития Шиллера: «Твои стихи…. теперь такие, какими я надеялся увидеть их у Вас раньше. Эта странная смесь созерцания и абстракции, присущая вашей натуре, теперь проявляет себя в совершенном равновесии…". (6 октября 1795 г.), а Кёрнер почти в то же время нашел друга в «философской оде» с ее «великолепием воображения, языка, построения стиха» и соединением «философского и поэтического энтузиазма» «уникальным» (14 и 27 сентября). Гумбольдт, однако, выразил свой величайший восторг, сказав, что он «никогда не находил порождение гения столь чисто раскрытым», как в – мы хотели бы сказать – самом философском из этих стихотворений «Идеал и жизнь «*, в котором выражена «высочайшая зрелость» гения и одновременно «верное отражение» натуры Шиллера (21 августа 1795 г.). 1)
__
1) Ср. полное подробное письмо a. a. 0. S. 83—88 – сам Шиллер ставил «идеал и жизнь» выше всего среди своих стихотворений (ср. там же 3.119), тогда как Гете предпочитал «идеалы», Кёрнер «природу и школу» (теперь: «гений»), Гердер «танец» (S. 117). – Я прокомментировал возможное использование Канта в последнем образе стихотворения в своей диссертации (S. 65, примечание).
В одном из предыдущих писем (от 4 августа) он уже дал прекрасный психологический анализ последнего: «Оба столь различных направления (поэзия и философия) проистекают в вас из одного источника; и характерная особенность вашего духа состоит именно в том, что он обладает обоими, но также и в том, что он совершенно не может обладать одним только… То, что иначе так совершенно отделяет поэта и философа друг от друга, великое различие между истиной действительности, полной индивидуальности, и истиной идеи, простой необходимостью ловкости: это различие как бы упразднено для тебя, и я не могу объяснить его себе иначе, как из такой полноты духовной силы, что она от недостатка сущности в действительности возвращается к идее и от бедности идеи к действительности.» 1) – Сам Шиллер, естественно, чувствовал себя очень довольным и приподнятым восторженным одобрением таких знатоков. В его ответе Гете (от 16 октября) есть интересное самоосуждение. Он признает, что этот жанр поэзии очень утомителен для ума, «ибо если философ может дать отдых своему воображению, а поэт – своей силе абстракции, то я, занимаясь этим видом творчества, должен всегда держать эти две силы в равном напряжении, и только благодаря вечному движению внутри меня я могу соединить эти два разнородных элемента в некое решение». В одиночестве он не жалеет о годах, потраченных им на философское прояснение и развитие. «В этом я теперь убедился на собственном опыте: только строгая определенность мысли помогает легкости. В противном случае я верил в обратное и боялся твердости и жесткости. Теперь я действительно рад, что не позволил себе соблазна вступить на кисельный путь, который я часто считал губительным для поэтизирующего воображения.»
__
1) Там же, S. 64.
Можно рассматривать это самооправдание поэта в определенной степени как эпилог к философскому периоду его жизни, который уже подходил к концу.
30 ноября 1795 года он писал Гумбольдту: (Чтобы изучать древних) «Теперь я также отказался на неопределенное время от всякой спекулятивной работы и чтения (хотя мне еще многое предстоит сделать). То, что я читаю, должно быть из старого мира, то, над чем я работаю, должно быть представлением»; 9 января 1796 г. тому же: «Теперь мне… больше нечего делать в философской и критической области на некоторое время и спешу с облегченным сердцем к моей музе»; и, соглашаясь с этим, 18 января 1796 года Кёрнеру, что он «надолго оставил теорию» (ср. также отрывок от 7 января 1796 года, уже цитированный выше, стр. 266, прим. 1).
Насколько нам известно, Шиллер не вернулся к основательному и продолжительному занятию философией. Поэтому высказывания о Канте и философии, о которых мы будем говорить далее, являются единичными, разбросанными в переписке, сначала более частыми, затем год от года все реже и реже.
Начиная с 1795 года, в этом отношении еще есть что добавить:
Во-первых, отрывок из письма Гете (от 17 августа 1795 года) о христианстве как эстетической религии, который также важен для нашей специальной темы 1): «Я нахожу в христианской религии практически расположение к самому высокому и благородному, и различные проявления этого в жизни кажутся мне столь отвратительными и неприятными лишь потому, что они являются искажениями этого высшего. Если придерживаться той особенности христианства, которая отличает его от всех монотеистических религий, то она заключается не в чем ином, как в упразднении закона или императива Канта, на место которого христианство хочет поставить свободную склонность. Поэтому в чистом виде оно есть представление прекрасной морали или воплощение священного, и в этом смысле оно есть единственная эстетическая религия; отсюда я также объясняю себе, почему эта религия составила столько счастья с женской природой и до сих пор встречается в определенной сносной форме только у женщин». Конечно, в этих словах нет явного признания «эстетической» религии, но они содержат «виртуальную предрасположенность» к ней. На этом месте Шиллер прерывается словами: «Но я не хочу больше ничего говорить в письме об этом щекотливом вопросе.
____
1) После критики «Исповеди прекрасной души в «Вильгельме Мейстере».
1 ноября, также в письме к Гете, Николай заявил, что в своих нападках на приложения философии Канта он «объединил вместе все хорошее и ужасное, что придумала эта философия». Это выдает, даже если «ужасное» не относится к самому Канту, по крайней мере, уже не тот прежний энтузиазм, как тогда, когда он приобрел трактат Канта «О вечном мире» 1795 года, но не читал ни его, ни письменных комментариев к нему, присланных ему Кёрнером 18 декабря до 7 января 1796 года. 1)
Год 1796 это год «Xenia». Поэтому мы пользуемся случаем, чтобы в нескольких кратких словах вернуться к часто цитируемой Doppel-Xenion:
Угрызения совести.
Я люблю служить друзьям, но, к сожалению, делаю это по склонности, и поэтому мне часто бывает больно, что я не добродетелен.
Решение.
Другого совета нет, надо стремиться презирать их
И затем с отвращением выполнять то, что велит долг.
То, что эти стихи написаны Шиллером, нельзя отрицать, как и то, что их смысл направлен против преувеличения понятия долга у Канта. Но 1) поэту позволено противостоять философу, а 2) тем более в» Xenien», ибо они объявлены самим Шиллером «непослушным, очень диким бастардом» (его и Гете), «большей частью дикой безбожной сатирой… перемешанная с отдельными поэтическими, даже философскими вспышками мысли» 2), и 3) в приведенных выше строках 3) даже не нужно выступать против самого Канта, а скорее против «его комментаторов», «бедных бездарей, вгрызавшихся в философию Канта» (Кёрнеру 18 февраля 1793 г.). Feb. 1793), которые напридумывали много «ужасного» (Гете 1 ноября 1795), «бездельников» и пеонов, которые только и умели, что обращаться с «механизмами его системы», «нетерпимых доброхотов», «вольноотпущенников» в царстве разума (первое письмо принцу Голштинскому) 4).
В конце концов, те же ксении приводят сравнение самого Канта с одним богачом, который кормит столько нищих, с королевским строителем, который кормит множество «kärrner». Важное и обширное письмо Шиллера к Гете от этого года (от 9 июля), в котором рассматривается вопрос о том, не нуждается ли Вильгельм Мейстер в философии и почему – «здоровая и прекрасная природа… не нуждается в морали» – и которое, по сути, является спором между Шиллером и самим Гете.
__
1) В. В. Гумбольдт находит это произведение Канте «местами очень изобретательным и написанным с большой фантазией и теплотой», но «иногда действительно слишком прозрачным», что, конечно, не пришлось бы по вкусу Шиллеру (Шиллеру, 30 октября 1795 г.).
2) Шиллер – Кёрнеру, 1 февраля 1796 года (аналогично в тот же день – Гумбольдту).
3) А также другие эпиграммы, до сих пор не напечатанные в большинстве изданий Шиллера, например, «Душение и удавка» (Dfintier, ErläuterungenIX, Xp. 174), «MoralischeSchwätzer», «MoralderPflichtundderLiebe» u. a. (Kürschnera. 0. 119, IIS. 197 f), некоторые из которых по своему тону не могли быть написаны Шиллером самому Канту.
4) S. 82. «Царство разума» – это царство свободы, и нет рабства более позорного, чем то, которое человек переносит на этой святой земле. Но многие, кто, не имея внутренней власти, позволяют себя там эксплуатировать, тем самым доказывают, что они не свободны, а только отпущены на свободу.»
Наконец, отметим горячее одобрение Гете кантовской полемики этого года: «Сочинение Канта о благородном способе философствования доставило мне большое удовольствие; благодаря этому сочинению разделение того, что не принадлежит друг другу, пропагандируется все ярче». (Гете – Шиллеру, 26 июля 1796 г.)
1797
В то время как Кёрнер увлеченно изучает Канта (письма от 21 января и 29 мая), Шиллер читает «одновременно с Гёте» «Поэтику» Аристотеля, которая «действительно укрепляет и облегчает» его (Кёрнеру, 3 июня). 23 января он желает своему другу (Кёрнеру) «что-нибудь хорошее и остроумное в области философии и критики» для «Horen», поскольку сам он должен полностью посвятить себя «Валленштейну». Однако то, насколько Шиллер, а вслед за ним и Гете, в основном поддерживают флаг Канта и считают его дело своим, видно из их мнения о нападках Гердера и Й. Г. Шлоссера на критическую философию. Так, Шиллер пишет Кёрнеру 1 мая: «Гердер сейчас представляет собой совершенно патологическую натуру… У него ядовитая зависть ко всему хорошему и энергичному… На сердце у него самый большой яд против Канта и новейших философов, но он не совсем осмеливается выйти наружу, потому что боится неприятных истин, и лишь изредка кусает кого-нибудь в тельце. Надо возмущаться, что такая большая необыкновенная сила для доброго дела так совершенно пропадает; Шлоссер иногда вызывает у меня подобное чувство.
«Против последнего был направлен другой памфлет Канта, озаглавленный: VerkündigungdesnahenAbschlusseseinesTractatszumewigenFriedeninderPhilosophie, опубликованный в «BerlinerMonatsschrift» в декабре 1796 года. Гете отозвался о ней 14 сентября 1797 года: «Очень достойный продукт его хорошо известного образа мышления, который, как и все, что исходит от него, содержит самые чудесные отрывки, но при этом по композиции и стилю является скорее кантовским, чем кантовским. Мне доставляет большое удовольствие, что благородные философы и проповедники предрассудков могут раздражать его настолько, что он всеми силами противостоит им. Однако мне кажется, что он поступает несправедливо, обвиняя Шлоссера в нечестности, по крайней мере, косвенно…". На что Шиллер отвечает 22 сентября: «Я также прочитал маленький трактат Канта, и хотя содержание его не дает ничего нового, я остался доволен его превосходными идеями. В этом старом господине все еще есть что-то такое истинно юношеское, что хочется назвать эстетическим, если бы не смущала отвратительная форма, которую хочется назвать философским канцелярским стилем». 1) Его суждение о Шлоссере в этом письме уже более суровое, чем у Гете: «Шлоссер, возможно, действительно является тем, кем вы его считаете, но его позиция по отношению к критическим философам настолько сомнительна, что характер вряд ли можно оставить без внимания…". Однако после того, как Шлоссер написал собственное извинение, в длинном письме к Гете от 9 февраля, которое касалось только этой темы, он был откровенно язвителен.
– —
1) В письме к Шиллеру (29 дес. 1795) Гумбольдт объясняет темноту и задумчивость стиля новейших философов тем, что «они слишком полны своим предметом и ведут больше монологов о нем с собой, чем бесед с аудиторией».
1798
Мы опускаем из подробного письма все, что касается только Шлоссера, и подчеркиваем лишь следующее, что в высшей степени характерно для внутренней позиции Шиллера в отношении критической философии: «… Что можно сказать, когда после стольких усилий новых философов, не пропавших даром, чтобы привести суть спора к наиболее определенным и актуальным формулам, кто-то приходит с аллегорией, и то, что было тщательно подготовлено для чистой мыслительной способности, опять окутывается легкой неясностью, как это делает этот герр Шлоссер…? делает». «Поистине непростительно, чтобы писателю, который держится за некую честь, позволялось вести себя столь не философски и нечистоплотно в такой чистой области, какой философская область стала благодаря Канту». А теперь скажу пару слов о том, как непревзойденно ясны отношения тотальной человеческой природы к научному исследованию, поэта к философу, Шиллера к Канту! «Вы и мы, другие представители правовых наук, знаем, например, что человек в своих высших функциях всегда действует как единое целое и что природа вообще повсюду действует синтетически – по этой причине, однако, нам никогда не придет в голову в философии ошибиться в различии и анализе, на которых основано всякое исследование, так же мало, как мы будем воевать с химиком за искусственное аннулирование синтезов природы.» 1) «Но эти господа замочные мастера также хотят чувствовать запах и чувствовать свой путь через метафизику, они хотят распознавать синтетически везде, но… это жеманство… всегда поддерживать человека в его тотальности, одухотворять физическое и очеловечивать духовное, является, я боюсь, только жалкой попыткой обеспечить себе счастливое существование в своей уютной темноте.»
__
1) Та же идея, сравнение философского анализа с химическим, часто встречается у Канта, например, в конце «Критики практического разума» (с. 195).
И Гете соглашается с «очень отрадным и освежающим» письмом своего друга; он уже 30 лет находится в разладе с натурой Шлоссера (своего шурина). О своем отношении к философии он, однако, признается: «Философия становится для меня все более важной, потому что с каждым днем она все больше учит меня отделять от самого себя, что удается мне тем более, что моя природа, подобно разделенным шарикам ртути, так легко и быстро воссоединяется. Ваш метод – прекрасная помощь мне в этом…". (10 февраля) Как отличается это теплое признание чистой философии от слов, которые Шиллер написал в начале их знакомства – в ноябре 1790 года – о чувственном, «трогательном» способе философствования Гете! Когда так много говорят о том, что Шиллер отвернулся от философии под влиянием Гете, здесь видно, как много он узнал и воспринял философского от Шиллера.
Переписка этой весны дает еще одно важное свидетельство о поэте для Канта, а именно о его ригоризме. 28 февраля Гете насмешливо сообщил, что некий француз по имени Мунье «крайне плохо воспринял то, что Кант объявляет ложь безнравственной при всех условиях» 1), и что теперь он считает, что «подорвал» «славу» Канта. В продолжение этого дела Шиллер ответил 2 марта: «Действительно, стоит отметить, что небрежность в эстетических вещах всегда связана с моральной небрежностью, и что чисто строгое стремление к высокому прекрасному, с высочайшей либеральностью по отношению ко всему, что есть в природе, приведет к ригоризму в моральной сфере.
__
1) Ср. Кант: Ueber ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lögen. Berliner Blätter 1797.
23 июля Шиллер высказывает мысль, что «от эстетического признания и вульгарности можно получить столько же пользы, сколько от философского – вреда». – 27 числа этого месяца он посылает Гете «грубый» отзыв Канта о Николае в двух посланиях «о букмекерстве», на что Гете на следующий день отвечает: «Отзыв Канта о Заальбадере весьма мил. Что мне нравится в старике, так это то, что он при каждом удобном случае может повторять свои принципы и бить в одну точку. Более молодому, практичному человеку лучше не обращать внимания на своих оппонентов; более старому, теоретическому человеку не нужно пропускать ни одного неуклюжего слова. Мы хотим, чтобы так было и в будущем».
Философские новинки, как мы видим, читают оба и обмениваются мнениями. Менее благоприятным, чем только что упомянутые, является отзыв об «Антропологии в прагматическом отношении» Канта, опубликованный в конце 1798 года. Гете писал Шиллеру 19 декабря 1798 года: «Антропология Канта – очень ценная для меня книга и будет еще более ценной в будущем, если я буду наслаждаться ею неоднократно в небольших дозах, ибо в целом, в ее нынешнем виде, она не освежает. С этой точки зрения человек всегда видит себя в патологическом состоянии, а поскольку, как уверяет нас сам старый господин, человек не может стать разумным раньше шестидесяти лет, то объявить себя дураком на всю оставшуюся жизнь – дурная забава. Но если прочесть несколько страниц в добрый час, то остроумное обращение всегда будет восхитительным; кстати, я ненавижу все, что просто наставляет меня, не увеличивая и не оживляя непосредственно мою деятельность». Шиллер отвечает 21 декабря: «Мне очень хочется прочесть „Антропологию“ Канта. Патологическая сторона, которую он всегда подчеркивает в человеке и которая, возможно, уместна в антропологии, преследует почти во всем, что он пишет, и именно она придает его практической философии такой мрачный вид. То, что этот веселый и жизнерадостный дух не смог полностью очистить свои крылья от грязи жизни, и даже не полностью преодолел некоторые мрачные впечатления молодости и т.д., вызывает удивление и сожаление. В нем все еще есть что-то, что, как и в случае с Лу, напоминает монаха, который открыл свой монастырь, но не смог полностью искоренить его следы». Разве Шиллер не должен был быть «антифилософским капризом» друга поэта?«Антифилософские причуды», как однажды говорит Гервинус 1), «к подобным пренебрежительным высказываниям»?
1799—1805
Из последних лет жизни поэта следует прежде всего отметить ряд статей о противниках Канта и других философах, которые можно воспринимать как косвенные свидетельства позиции Шиллера и его окружения по отношению к философии Канта.
5 июня 1799 года, после публикации «Метакритики» Гердера, Гете писал: «С каким невероятным заблуждением старый Виланд присоединяется к слишком раннему триумфу метакритики, вы увидите из последней статьи в „Меркурии“, с изумлением и не без неудовольствия. Ведь христиане утверждают, что в ночь, когда родился Христос, все оракулы умолкли, так и теперь апостолы и ученики нового философского евангелия утверждают: в час рождения метакритики старик в Кенигсберге на своем треножнике был не только парализован, но даже упал, как Дагон, на нос. Ни один из идолов, воздвигнутых в его честь, больше не стоит на ногах, и не нужно многого, чтобы не найти необходимым и естественным зарезать всех товарищей Канта, как тех непокорных обезьян Ваала». Весь тон этих строк уже показывает, на чьей стороне Гете знает своего друга и самого себя; ответ Шиллера (от 7 июня) выдержан в том же ироническом спокойствии: «Шум, поднятый Виландом по поводу книги Гердера, будет иметь, боюсь, совсем не тот эффект, на который он рассчитывает. Мы можем спокойно ожидать этого и займем свои места в качестве тихих зрителей этой комедии, которая будет достаточно красочной и шумной». Даже позже отношения Шиллера с Гердером оставались напряженными. 2)
__
1) G. d. d. D., V 436.
2) О том, что разная позиция по отношению к Канту была главной причиной этого, свидетельствует C. v. Wo] zogen, SchillersLebenS. 280: «Гердер любил замыкаться в себе в ту эпоху, и его неприязнь к Кантовой философии, которой Шиллер был предан всей душой, не позволила бы свободного общения без грубого задевания за живое.
Шиллер также находил «Речи о религии» Шлейермахера «при всей их претензии на теплоту и близость, в целом очень сухими и часто претенциозно написанными»; они и романтические стихи Тика, оба «берлинские продукты», «вышли из одной и той же среды» (26 сентября 1799 года Кёрнеру).
А Фихте, которого Шиллер и Кёрнер вначале встретили с такой надеждой, последний в 1800 году – и Шиллер ему не противоречил – считал «философским Аттилой», с которым нужно «повоевать один раз в его стране», «чтобы он не опустошил все наши поля и сады один за другим». (Кёрнер – Шиллеру, 29 декабря 1800 г.)
В переписке этих последних лет есть только одно прямое высказывание о самом Канте. В своих размышлениях о «Потерянном рае» Мильтона Гете также пришел к свободе воли, «над которой я в иных случаях нелегко ломаю голову», и к ее связи с «радикальным злом» Канта. «Таким образом, становится ясно, как Кант неизбежно должен был прийти к радикальному злу, и почему философы, которые находят человека столь очаровательным по своей природе, так плохо относятся к его свободе, и почему они так сопротивляются, когда не хотят отдать им должное за добро по склонности». (Гете – Шиллеру 31 июля 1799 г.) На это Шиллер отвечает (2 августа): «Я уже не помню, как Мильтон помогает себе выйти из вопроса о свободе воли, но развитие Канта для меня слишком монашеское; я никогда не мог с ним примириться». Кант рассматривает «две бесконечно разнородные вещи», «инстинкт добра» и «инстинкт чувственного блага» «совершенно как равные потенции и качества», помещая «свободную личность совершенно одинаково против и между обоими инстинктами». Конечно, прерывает он, они оба «не призваны» «успокаивать человеческий род» по поводу «этих темных мест в природе», которые, кстати, «не пусты» для оратора и трагического поэта и могут – слава Богу! – «всегда оставаться в сфере видимости». Здесь мы видим то же явление, которое уже отмечали в высказывании об антропологии Канта (21 декабря 1798 года): под влиянием Гете чисто эстетическая концепция морали, которая в философских сочинениях Шиллера была отчасти решительно отвергнута, отчасти представлена как оправданная, впоследствии взяла в нем верх – по крайней мере, в сиюминутных настроениях, но, возможно, и навсегда.
В последние несколько лет Шеллинг, которого Шиллер уже 10 апреля 1798 года (Гете) желал видеть в качестве «хорошего кандидата» для «нас, йенских философов», в тамошнем университете и о назначении которого в Йену он выразил свое удовольствие Кёрнеру (31 августа этого года), часто упоминается в переписке Шиллера и Гете. Вместе с ним и Нейтхаммером (которого Уэбервег III 238 называет фихтеанцем, хотя до этого он, во всяком случае, был – см. выше – ревностным кантианцем) у него был философский кружок, который часто упоминается, особенно в 1799 году, в котором, конечно, часто только – l’Hombre играется. 1) Но чем больше философия Шеллинга поворачивала к абсолюту, тем больше Шиллер должен был в своих основных кантовских настроениях испытывать отторжение. Так, в пространном письме к Гете от 27 марта 1801 года он высказывает мысль, что «эти господа идеалисты слишком мало обращают внимания на опыт из-за своих идей»; точно так же 20 января 1802 года он высказывает мнение, что «от трансцендентальной философии (Шеллинга) до реального факта еще не хватает моста», что «наши молодые философы хотят перейти непосредственно от идей к действительности», тогда как «от общих полых формул к условному случаю нет перехода». В том же духе он жаловался Кёрнеру 10 декабря 1804 года, что «пустая метафизическая болтовня философов искусства» сделала его «больным от всякого теоретизирования».
__
1) В нашу задачу не входит более подробное рассмотрение отношений Шиллера с Шеллингом, которого он, действительно, затрагивал то тут, то там, например, в предисловии к «Невесте Мезины», что вполне естественно, учитывая частые контакты между ними. – В то время Гегель выступал только как частный лектор в Йене; Шиллер назвал его «основательной философской головой» (Шиллер – Гумбольдту, 18 августа 1803 года), но подчеркнул его «недостаток таланта к изложению» (Шиллер – Гете, 30 ноября 1803 года).
Последнее философское высказывание, дошедшее до нас от Шиллера, содержится в его последнем письме Вильгельму фон Гумбольдту, датированном 3 апреля 1805 года – за пять недель до смерти Шиллера. «Спекулятивная «Философия, – пишет он там, – если и завладела мной, то отпугнула меня своими пустыми формулами; на этом бесплодном поле я не нашел ни живого источника, ни пищи для себя». До этого момента связь с философией Шеллинга ясна и вполне согласуется с процитированными ранее упущениями. Но когда он продолжает: «Но глубокие основные идеи идеальной философии остаются вечным сокровищем, и только ради них надо считать себя счастливцем, что жил в это время», то и здесь интерпретация системы тождества возможна, но не абсолютно необходима. Мы бы предпочли интерпретировать ее в смысле лучших философских лет Шиллера, как напоминание о временах, которые, как он писал тому же Вильгельму фон Гумбольдту двумя годами раньше (17 февр. 1803 года), будут «вечно незабываемыми», «1794 и 1795 годы, когда мы вместе философствовали в Йене и были наэлектризованы духовным трением», оба в одинаковом энтузиазме к философии мудреца, «идеи которого стали элементом, в котором дышал и жил его дух, который в годы болезни..…. спутником, другом и утешителем», действительно, «который также давал ему уверенность во всех событиях его внешней жизни.» 1)
– —
1) C. v. Wolzogen, SchillereLebenp. 333 – В этой трактовке Канта мы рады согласиться с Томашеком, который по отношению к Данцелю решительно отрицает мнение, которого мы придерживаемся – уже завоеванное до знакомства с книгой Т., – что ее «нельзя считать вопросом для знатока» (a. a. 0. 8. 433).
Мы не хотели и не могли дать полный отчет о влиянии философии Канта на всю литературную деятельность Шиллера. Это потребовало бы тщательного блуждания по всем областям философии Канта, особенно поэтической в узком смысле, что мы не смогли предпринять здесь, несмотря на привлекательность такого путешествия. С другой стороны, мы считаем, что представили достаточно точную и верную, а также, надеемся, ясную картину отношения Шиллера к Канту и его философии в ее историческом развитии, основанную на подлинных свидетельствах главных героев. Можно выделить четыре различных этапа:
1) 1787—1790. Кёрнер и Рейнгольд указывают Шиллеру на Канта. Сдержанность его поэтической натуры. Только к концу этого периода начинаются зачатки настоящего «кантианства». 1)
2) 1791—1794 Шиллер – ревностный кантианец, хотя и в независимой форме, что естественно при оригинальности его духа. В отличие от Гете. За эти четыре года не написано ни одного крупного стихотворения.
3) 1795 г. Возрождение склонности к поэтическому творчеству. Влияние Гете. Философия и поэзия в равновесии. Время возникновения философских поэм.
__
1) Кстати, Кант, должно быть, знал и ценил других поэтов уже в 1789 году, так как среди рекомендаций, которые Гуфеланд привез из долгого путешествия своему вновь нанятому коллеге Шиллеру, была, как тот с удовольствием отмечает в письме от 4 мая 1789 года, одна из рекомендаций Канта (SchillersLebenp. 197).
После этого переходного состояния, наконец
4) 1796—1805: Полное и окончательное возвращение к поэзии. Только в промежутках между философскими чтениями и дискуссиями о поэзии, особенно с Гете, которого он сблизил с философией. Несмотря на отдельные антифилософские и античные высказывания, приверженность основным идеям философии Канта, соответствующее отвращение к романтизму даже в его философских представителях (поздние Фихте, Шеллинг, Шлейермахер, Шлегель).
Период, в который он был действительно философски продуктивен, в который он написал почти все свои философские трактаты, является вторым (в лучшем случае включая третий). Поэтому мы должны основывать наше систематическое рассмотрение на последнем, чтобы с его точки зрения изучить, насколько Шиллер был тем кантианцем, каким его всегда считали те, кто был ближе всего к нему – не в школьном смысле, конечно, – а именно.
LITERATUR -Ein bisher noch unentdeckter Zusammenhang Kante mit Schiller. Von K. Vorländer. 57—62, Philosophische Monatshefte Unter MitwirkungvonProf. Dr. Fr. Ascherson, Bibliothekar an der UniTerslt&tabibllothek zu Berlin, sowiemehrerer nam haften Fach gelehrten redigirt und herausgegeben vonProf. Dr. Paul Natorp. XXX. Band.Berlin. Verlag von Gteorg Reimer.1894.