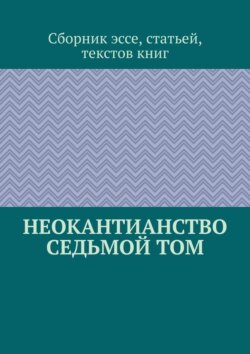Читать книгу Неокантианство Седьмой том - - Страница 6
Карл Форлендер
Этический ригоризм и нравственная красота. III
ОглавлениеЭстетическое дополнение к этическому ригоризму.
Даже если строгое, критическое разделение различных направлений сознания является первой задачей философии как системообразующей, методической науки, это не должно быть концом дела. Ведь эти направления, определенные способы производства сознания, с которыми мы познакомились в науке, морали и искусстве, – это, в конце концов, лишь ветви одного дерева, происходящие из одного общего источника сознания, из которого они разошлись по разным направлениям, производя из себя каждый своеобразное содержание. В ощущении этого родства, как дети одной матери, они стремятся выйти из своей изоляции к систематическому объединению. В предыдущей части мы сравнили процедуру дробления и анализа философской науки с процедурой формирования логических понятий; сравнение можно продолжить. Как предпосылкой всякого познания является разделение и различение посредством признаков, но полное понятие возникает лишь после того, как разделенные частичные понятия объединяются в целое, так и критика является лишь предпосылкой и подготовкой к систематике. Правда, прежде всего необходимо разграничить и отделить, чтобы объект мог выйти из размытости и неясного перетекания друг в друга, в которых он впервые предстает перед нами, и обрести твердую форму; и поэтому чистота и независимость отдельных сфер сознания может быть сохранена только путем их строгого разграничения, путем твердого определения границ. Но это разделение и изоляция были сделаны лишь с методической целью предотвратить смешение, а не для того, чтобы отрицать или прервать всякую связь. Однако если и после того, как независимость и автономия отдельных сфер была обеспечена формальным методом, то теперь можно, более того, нужно, строить мосты связи, взгляд, который до сих пор был жестко прикован к одной, ограниченной цели, может быть свободно направлен во все стороны, примирение может занять место разделения, за формой оппозиции может последовать форма гармонии, за чистым разделением может последовать не упразднение противоположностей, согласно концепции Гегеля, а соединение в контексте системы.
Связующий элемент, который переплетает нити, должен находиться вне трех сознаний и в то же время быть достаточно тесно связанным с ними. Остается только четвертый элемент, уже охарактеризованный в предыдущем эссе, который тесно переплетается с ними всеми как их общая основа: чувство. И даже если изображать этот «источник из потаенных глубин» в его всемогуществе остается прерогативой поэта, то, как однажды сказал Шиллер, «не одна только поэзия приводит разделенные силы души в единство, … как бы создает в нас все человечество». 1) Даже для философа, если человек в остальном представляет собой… более связное целое*, чем он представляется в расчленении абстракции, философу «позволено больше», чем именно это разделение и расчленение, с которого он должен начать; вторая задача остается за ним, не средствами поэта и чувства, а средствами науки и требовательной систематики, искать связующие нити и создавать целое из частей, организм из членов, другими словами: Да, через это объединение в систему своеобразие отдельных областей только достигает своего полного роста 2), они должны объединиться друг с другом, чтобы дополнить друг друга, чтобы возник образ совершенного человечества.
Чтобы применить это к нашей конкретной теме, мы должны искать эмоциональное, т.е. эстетическое, дополнение к этическому ригоризму.
__
1) Recension von Bürgers Gedichten, XII 342.
2) Ср. Cohen, Kant’s Begründung der Aesthetik S. 342.
Моральный закон распространяется на нас, людей, т.е. разумных, не только желающих, но и чувствующих существ. Как бы мало нравственная воля ни характеризовалась удовольствием или неудовольствием, она, тем не менее, обязательно связана с чувством, будь то удовольствие или неудовольствие, власть или свобода. Понятие разумного существа вообще*, которое Кант часто использует в своей этике, по существу является лишь методической абстракцией, хотя и абсолютно необходимой и неизмеримо плодотворной ради чистоты морального закона, независимости этической науки. Реальный, конкретный человек, однако, в то же время облечен чувственностью, является разумно-рассудочным существом. Нравственное существо без чувств было бы пустой тенью без плоти нашей плоти и крови нашей крови. По мнению Шиллера, ангелам и демонам не место в трагедии, равно как, добавим мы, и в философской науке. Должному должно быть противопоставлено существо, которое должно, субъект, который отличается и чувствует иначе, чем того требует категорический императив Поэтому, думая о моральном законе как о движущей силе, обязательно думают и о воздействии на чувство. Без чувства невозможно применение первого к человеку, следовательно, невозможна прикладная этика. Итак, для нас теперь вопрос: с какой точки зрения чистый, формальный моральный закон представляется человеку как чувствующему существу, мораль – антропологическому человеку, homonoumenon – homophaenomenon, сильтовое существо – природному существу? Или в самой краткой форме: Каким образом моральный закон ощущается человеком?
Когда Кант, развивая этот вопрос, заявляет, что чувство уважения – это «первый, возможно, также единственный случай, когда мы смогли определить из понятий apriori отношение познания (здесь речь идет о чистом практическом разуме) к чувству удовольствия или неудовольствия» 1), Коген справедливо обобщил это предложение, сказав, что этот случай, это отношение скорее представляет собой область эстетики в целом 2). Ибо чувство составляет особое содержание эстетического сознания. В том смысле, что мораль чувствуется, она становится эстетической. И поэтому этика сама по себе требует дополнения через эстетику не для своего обоснования, а для своего исполнения и применения к человеческой природе. В этом смысле наш заголовок говорит об эстетическом дополнении к этическому ригоризму. Не так, как если бы мы пытались каким-то образом войти в обширную область собственно эстетики.
__
1) Kr. d. pr. V. 89 f.
2) A. a. 0. S. 143.
Наш интерес – этический; поэтому все чисто эстетическое исключается с самого начала. Конечно, мы вступаем в пограничную область эстетики, но нас интересуют только ее этические отношения. Подобно тому, как при создании этики необходимо было рассмотреть отношение морали к науке, так и при ее применении должно обсуждаться отношение к чувству, а в очищенном виде – к эстетическому сознанию. Поэтому основные эстетические понятия должны помочь нам в расположении материала. Однако с незапамятных времен они были неоспоримы: прекрасное и возвышенное. Поэтому далее мы будем рассматривать мораль с этой двойной точки зрения: морально возвышенное и морально прекрасное.
При этом необходимо соблюдать методологическую предпосылку, что материал остается тем же самым: мораль. Этика не может выйти за пределы самой себя; не существует морального превзойти долг. Напротив, эстетическое дополнение лишь показывает нам новую форму, в которую выливается мораль, для которой, однако, несмотря на все ее величие, она остается всего лишь материалом.
1. Морально возвышенное это форма, под которой мораль впервые предстает перед чувствами. В вплоть до XVIII века «возвышенное», как часть «возвышать», все еще употреблялось в своем собственном, местном смысле 1) и, согласно бесспорному 2) «номинальному определению» Канта, обозначало то, что является parexcellence (абсолютным) или великим вне всякого сравнения (Кр. 100); поэтому можно было бы также сказать: бесконечное. Теперь во всей природе нет ничего, что нельзя было бы считать малым по сравнению с другим (Кр. 103). С другой стороны, в каждой идее есть нечто возвышенное, поскольку она прорывается сквозь конечное как бесконечное, освещает его, или, в версии Канта: позволяет чувственности> видеть за бесконечным (там же, 121). Поэтому настроенность разума на возвышенное требует его восприимчивости к идеям (там же). Но если это возвышенное отвечает всем идеям разума (там же, 97), то кому же тогда может принадлежать предикат возвышенности в более высоком смысле, в более сильной степени, чем самой высокой идее, которую можно мыслить, безусловному и неограниченному закону Зельтена, единственному в мире и внешнему миру, который является parexcellence и абсолютно великим, во всех местах и во все времена!
___
1) Ср. словарь Гримма, раздел «Искусство возвышенного».
2) Мы, конечно, не можем входить в более глубокие исследования эстетики и определений. – Кр. означает «KritikderUrtheilskraft» Канта в издании Реклюма, кн. V. «Критика практического разума» в том же сборнике.
Правда, Кант не рассматривал морально-возвышенное как таковое и под этим именем, а, скорее, в соответствии со своим критическим методом, обсуждал моральное в рамках своей этики, а возвышенное – в эстетике. Но систематическую возможность эстетического отношения к морали он с полной ясностью выразил в значительном отрывке «Критики способности суждения». «Плохое в хорошем, – говорит он там (Kr. 123 f.), – само по себе не принадлежит к эстетической силе суждения», но «определяемость субъекта этой идеей, и притом такого субъекта, который сам по себе может чувствовать препятствия чувственности, но в то же время может чувствовать превосходство над ней, преодолевая ее как изменение своего состояния, т. е. нравственного чувства, не есть единственное, что может быть обработано эстетически. i. моральное чувство, тем не менее, связано с эстетической силой суждения и его формальными условиями в такой степени, что оно может служить для того, чтобы законность действия из долга в то же время представлялась как эстетическая, т.е. как возвышенная или также как прекрасная, не теряя своей чистоты». Таким образом, моральный закон может, независимо от его чистоты, быть представлен эстетически и в то же время – воздержимся пока от прекрасного – как возвышенный. Да, эта моральная черта возвышенного мощно проявляется в эстетике Канта, возможно, слишком мощно для формального характера, который, тем не менее, должен принадлежать ей согласно трансцендентальному методу. Ибо, если мы подчиняем возвышенное объекту природы только «посредством некоторой субрецепции (смешение уважения к объекту вместо уважения к идее человечности в нашем субъекте)» (Kr. 111), то в этом проявляется преобладание моральной субстанции над эстетической формой. Но мы не будем углубляться в этот предмет, важный для основания эстетики 1). С этической точки зрения нас больше интересует тот факт, что уже в «Критике практического разума» и «Основоположении», т.е. за много лет до того, как Кант изложил структуру своей «Эстетики», и в сочинениях, которые тем не менее предостерегают от так называемых возвышенных и благородных действий как морального восторга, эстетический термин возвышенного все же вливается в перо Канта-этика, хотя, возможно, бессознательно и без систематической связи, и именно в тех отрывках, где его язык поднимается в пафосе чувства до ораторского размаха в призе морали. Мораль и возвышенное, этика и эстетика так тесно связаны между собой.
___
1) Vergl. Cohen a. a. 0., S. 282 f., 238 ff., 252.
Можно показать, как предикат возвышенности либо эксплицитно прилагается ко всем фундаментальным этическим понятиям Канта, либо может быть легко перенесен на них в соответствии с их систематическим контекстом. Моральный закон предстает в «торжественном величии», и «душа считает себя возвышенной в той мере, в какой она видит священный закон возвышенным над собой и своей бренной природой» (pr. V. 94); он заставляет нас почувствовать «возвышенность нашего собственного сверхчувственного существования (там же, 107). Долг апострофируется как «возвышенное, великое имя», перед которым умолкают все склонности (105). От закона возвышенность переходит к его создателю и носителю, к моральному субъекту, личности, которая «представляет нам возвышенность нашей природы (в соответствии с ее предназначением)» (106), возвышенность потому, что благодаря ей мы чувствуем себя возвышенными над «механизмом всей природы», включая нашу собственную природную личность. Возвышенной, таким образом, является идея человечности (Кр. 111), которая иногда отождествляется с самим законом, возвышенной как в собственной личности, так и в личности каждого другого человека, да, далее, во всем идеальном человечестве всех времен и всех стран, которое может быть суммировано в «славном идеале» «царства нравов». И это чувство возвышенности нашей судьбы возрастает в сознании самостоятельности, в сознании того, что мы сами себе и вообще закону и только поэтому подчинены этому закону, ибо сознание простого подчинения отпугнуло бы чувство возвышенного (Grundlegung p. 66). Наконец, возвышенность находит свое наивысшее возвышение в идее автономии, в том, что человек является конечной целью творения, а значит, и самоцелью, и в идее нашей моральной свободы, которая объединяет все этические понятия, упомянутые выше, и которая, в конечном счете, является причиной всего возвышенного.
По этой причине воздействие, которое возвышенное в природе оказывает на наши чувства, может быть в большей степени перенесено на моральное возвышенное. То, что мы все еще рассматриваем этот вопрос, делается не только для того, чтобы прояснить связь между этическим и эмоциональным моментом, но и для того, чтобы защитить этический ригоризм от упреков в суровости, холодности и трезвости, которые часто выдвигаются против него. Чувство уважения, которое вызывает в нас концепция морального закона, – это смешанное, двойное чувство, состоящее из удовольствия и неудовольствия. Все возвышенное сначала пробуждает в нашей груди, через ощущение нашей неадекватности идее, заторможенность, торможение нашей способности воображения, которая, как и все раздельное, связана с неудовольствием; мы поражены и молчим, чувствуя, как нас пронзает наше ничтожество. Но когда мы осознаем, что породили эту идею изнутри себя, торможение превращается в освобождение, подавление – в возвышение, нежелание – в высшее наслаждение. Мы сами возносимся к инопланетному величию, и нам как будто возвращается большее. Если всякое представление бесконечного вообще расширяет душу, так как наше воображение чувствует себя неограниченным благодаря устранению препятствий (Кр. 132), то насколько большее значение имеет представление о нравственном законе! Нет ничего более возвышающего и вдохновляющего, чем идея нравственного разума; Кант проповедовал это в бесчисленных отрывках своей «Этики». Правда, сначала нас, чувственных людей, охватывает священный трепет при созерцании ноуменального величия чистого закона, но этот священный трепет, который мы испытываем при виде глубины божественного расположения к нам 1), вскоре смешивается с чувством восторга от возвышенности нашей автономной, целеустремленной судьбы. Глаза, которые раньше с трудом выдерживали солнечное сияние нравственного закона 2), теперь не могут насытиться его славой (pr. V. 94).
___
1) Кант, DasmaginderTheorieидр.
2) Это сравнение использует не только Шиллер, но и Платон).
И непостижимость «самоочевидного вопроса о том, что «в тебе есть нечто, что может осмелиться вступить в борьбу со всеми силами природы в тебе и вокруг тебя, чтобы победить их, когда они вступают в конфликт с твоими моральными принципами», 1) отнюдь не ослабляет это восстание, а, скорее, только усиливает его до высшей степени. Таким образом, упрек в холодности и безжизненности, в черствости и трезвости, который так охотно выдвигается против этического ригоризма и который, кажется, также кроется в словах Шиллера о «школьном ученике морального правила» (XI, 369), совершенно несостоятелен для того, кто однажды был захвачен бесконечным величием морального закона. Напротив, Кант мог бы с полным правом сказать Шиллеру, что чувство возвышенности нашей собственной судьбы влечет нас больше, чем всякая красота 2): что он сам признал позднее, когда писал, что чувство возвышенного «может подняться до уровня восторга» (см. предыдущую страницу) и, «хотя оно и не является собственно наслаждением, тем не менее, гораздо предпочтительнее для тонких душ, чем всякое наслаждение» 3). Ведь именно возвышенное движет, тогда как прекрасное «предполагает и поддерживает ум в спокойном созерцании» (Kr. 99, verg.) 112).
__
1) Учение о добродетели, с. 341; ср. p. 52 f.
2) Религия в пределах стр. 22 примечание.
3) UeberdasErhabeneXII, 300. Этот отрывок более определенный, чем тот, который был написан ранее в «ZerstreuteBemerkungenetc.» (1793): «…с чувством, которое, хотя и не может быть названо собственно удовольствием, намного превосходит удовольствие» (XI, 479).
Поэтому Кант с полным основанием возражал против «совершенно ошибочного мнения», что «идея нравственного закона и предрасположенности к нравственности в нас… если бы она была лишена всего, что она может рекомендовать чувствам, то не несла бы с собой ничего иного, кроме холодного, безжизненного одобрения и никакой движущей силы или эмоции». «Все как раз наоборот; ибо там, где теперь чувства ничего не видят перед собой, а безошибочная и неискоренимая идея нравственности все же остается, скорее следовало бы умерить порыв неограниченного воображения, чтобы не дать ему подняться до энтузиазма» (Кр. 133). Напротив, мораль как движущая сила способна к мировому движению, так что она породила все великое в мировой истории, ибо нет другого истинного величия, кроме того, которое создает «моральная свобода». Сюда относятся два эссе о трагическом, трактаты VomErhabenen, UeberdasPathetische, UeberdasErhabene, вторая часть AnmuthundWürde, большая часть ZerstreuteBetrachtungen и т.д., в то время как развитие прекрасного от S.W., которое систематически по крайней мере одинаково важно, фактически обслуживается только «Anmuth» и эстетическими письмами, но другие трактаты учитывают обе темы примерно в одинаковой степени. Тем не менее, для нашей цели мы можем быть краткими.
Но на кого такая доктрина должна произвести более сильное впечатление, кому она должна быть более близка, чем Шиллеру, проповеднику свободы, как его однажды охарактеризовал Гете в сознательном контрасте с самим собой 1). И когда Гёте говорит о своем друге в другом месте 2): «Философию Канта, которая так высоко возносит человека, кажущимся его ограничением, он принял в себя с радостью», не описывает ли он тем самым наиболее правильно основную черту возвышенного, которое носит свое название от «возвышать», и в то же время наиболее удачно выражает близкое родство обоих героев, которое заметил еще Кёрнер (ср. выше стр. 247)? Преобладание морального момента в поэзии Шиллера, которое определило его прежде всего как драматурга, а в данном случае больше всего как трагика – так же как он сам вывел понятие трагедии из стремления к нравственно целесообразному и развил его в связи с возвышенным – а также в его характере в целом, слишком часто подчеркивалось, чтобы нуждаться в дальнейших словах. Любимые герои Шиллера действуют в соответствии с категорическим императивом, Гете – в соответствии с аффектом, говорит Гервинус однажды 3). И это основное направление поэта Шиллера, «искать в морали наиболее достойный материал для совершенной формы искусства», 4) также соответствует отношениям в его теоретической рефлексии. О том, насколько Шиллер был захвачен концепцией возвышенного – а это было со времени его знакомства с «Критикой способности суждения» Канта, – свидетельствует уже то чисто внешнее обстоятельство, что большинство его эстетических трактатов посвящено тому же самому, и предпочтительно морально возвышенному.
__
1) Annalen von 1794, IV 537.
2) Einwirkung der neueren Philosophie, V 1195.
3) G. d. d. D» V 504.
4) Tomaacheka. a. 0. 8. 477.
Моральное возвышенное, однако, является наиболее близкой, в какой-то степени наиболее естественной формой, в которой мораль выражает себя эстетически. Ведь сначала нравственный закон предстает перед нами в своем всемогуществе по отношению к нашей природе, в своем величии по отношению к нашим склонностям, в своем конфликте с нашей чувственностью. Разделение сильнее объединения, и поскольку сознание разделения связано с неудовольствием, возвышенное все равно остается затронутым неудовольствием, воспринимается «с удовольствием, которое возможно только посредством неудовольствия» (Kr. 115). Но, хотя и наиболее близкое, морально возвышенное не остается единственной формой, в которой мораль способна выразить себя эстетически. Теперь мы рассмотрим:
2. Морально прекрасное.
Должна ли пропасть между моральным законом и человеческой природой оставаться вечно незаполненной, дисгармония между должным и сущим – вечно неразрешенной, противостояние между разумом и чувственностью, долгом и склонностью – вечно сохраняться? Наш ответ: да, в той мере, в какой чистота закона находится под вопросом. Чистота закона, на которой основана независимость морали, не должна нарушаться никакими соображениями, связанными с нашими склонностями, природой, чувственностью или чем-либо еще; Но именно в субъекте, в чувствах человека как чувственно-разумного существа, может произойти преодоление пропасти; по крайней мере, человек должен стремиться к такому примирению противоположностей, чтобы не оставаться вечно разорванным и разделенным внутри себя, а стать единым в себе и с собой.
Как бы парадоксально это ни звучало поначалу, момент красоты уже скрыт в возвышенном. Ведь к унизительному чувству покорности уже примешивалось (ср. выше с. 541) чувство удовольствия, возбуждаемое и питаемое мыслью о том, что мы сами породили идею морального закона в нашем внутреннем существе, что это, следовательно, наша собственная личность, наше «лучшее Я*, которому мы подчиняемся в «свободном самопринуждении*. Это чувство наслаждения еще не могло свободно развиваться; нежное растение еще зарастало подавляющей структурой морального закона, объединение от разделения, доверительная привязанность от внушающей благоговейный страх робости, и таким образом возникло контрастное чувство возвышенного. Но как напряжение не может возрастать до бесконечности, как дисгармония стремится раствориться в гармонии, так и возвышенное должно перейти в прекрасное 1), морально возвышенное должно перейти в морально прекрасное. Тогда нравственный закон уже не стоит перед нашими глазами в частично ослепительном, частично торжественном величии, но, поглотив их, спускается со своего мирского трона в глубины нашего сердца 2). Мы больше не чувствуем себя под ним, как под строгим дисциплинаром, но чувствуем себя в нем как дома, наполнены им, чтобы соответственно формировать свою жизнь и жизнь других.
«DeeGeeetxesatrengeFeesei связывает только рабское чувство, которое ее отталкивает, С сопротивлением человека исчезает даже величие Бога».
__
1) Ср. Trendelenburg, Niobe. Einige Betrachtungen fiber das Schöne und Erhabene. Berlin 1846. p. 22 ff.
2) В этой глубокой притче из «Жизни и смерти «* высший эстетический идеал – сравните слова Гете о Зевсе Фидия, что в нем Бог стал человеком, чтобы возвысить человека до Бога – соприкасается с самыми глубокими и плодотворными мыслями религиозной мистики (Евангелие Логоса, dvdpaais и xatdßaais Максима Исповедника, рождение Бога в нас у Экхарта и Таулера).
Теперь нравственность и природа обвенчаны друг с другом, природа стала нравственной, а нравственное проявляется как природа. Теперь это уже не просто нравственные существа без плоти и крови, и даже не бесцельные природные существа, но две половинки, ищущие друг друга, нашли друг друга, чтобы образовать единое, целое, совершенное человеческое существо, «совокупность человеческой природы». Пропасть исчезла, установилась гармония, идеальное равновесие душевных сил человека. Это идеал прекрасного человечества или нравственной красоты, который Шиллер представляет нам во всем своем великолепии.
Представленный нам во всем своем великолепии. Он напоминает древнеэллинскую калокагатию, но здесь избегается бессистемное смешение доброго и прекрасного 1) и бессознательная наивность углубляется нравственным сознанием. Наша культура должна вести нас обратно к природе путем разума и свободы (наивная и сентиментальная поэзия); только через идеал мы возвращаемся к единству. Здесь не место показывать, как Шиллер с самого начала был предрасположен к этому единству чувственного и духовного факторов в человеческой природе; иначе нам пришлось бы обсуждать его сочинения от «Магтетердиссертации» до «Кюнстлерна «*. Далее мы также выделим лишь несколько характерных отрывков из его кантовского периода, главным образом те, в которых он ставит нравственно прекрасное рядом с нравственно возвышенным, следуя за Кантом и в то же время воспитывая его дальше. Ибо не случайно, что поэт впервые развивает свои взгляды на морально-прекрасное в систематическом контексте именно там, где он впервые обсуждает Канта 2); в том смысле, что, выразив ранее свое полное согласие с этическим ригоризмом Канта «в области чистого разума и в моральном законодательстве», он теперь обозначает в «реальном исполнении морального долга» точку, где он хочет попытаться утвердить отвергаемые там «претензии чувственности».
__
1) Сравните особенно письмо от 23 февраля 1793 года после нашей цитаты, S. 236 f.
2) Милость и достоинство XI
– «Таким образом, как бы ни противостояли друг другу действия влечения и действия долга в объективном смысле, в субъективном смысле это не так, и человек не только может, но и должен приводить в связь удовольствие и долг, он должен подчинять свой разум удовольствиям». Чувственная природа соединяется с его «чистой природой духа» не как «бремя», которое нужно отбросить, или как «грубый покров», который нужно сбросить – это средневековые, монашеские настроения – но «для того, чтобы самым тесным образом примирить ее с его высшим «я». «Сделав его разумным существом, то есть человеком, природа уже объявила ему обязательство не разделять то, что она соединила, не оставлять чувственное позади себя даже в самых чистых выражениях его божественной части и не основывать триумф одного на подавлении другого» (a. a. 0. p. 364). «Если бы чувственная природа всегда была только подавляемой стороной в моральной и никогда стороной, завершающей реальную, как могла бы она отдать весь огонь своих чувств торжеству, празднуемому над собой?» (a. a. 0. p. 4). 1) (ibid. 368.) Напротив, нравственный образ мыслей человека должен «проистекать из всей его человечности», должен стать его природой; ибо «враг, которого просто сбросили, может снова подняться, но примирившийся действительно побежден». (364) Эта «ставшая природа* морали – характер прекрасной души, «печать совершенной человечности». Ибо – любимая мысль Шиллера – «человек предназначен не для того, чтобы совершать отдельные нравственные поступки, но чтобы быть нравственным существом»; «не добродетель, но добродетель – его правило», а добродетель означает: склонность к долгу. Следовательно, прекрасная душа не действует, а является 2); она не знает о своей красоте и «с легкостью, как если бы из нее действовал простой инстинкт, исполняет самые постыдные обязанности перед человечеством». И поскольку чувственность и разум, долг и склонность достигли в ней гармонии, смешанное чувство уважения переходит в смешанное чувство любви. Чувство больше не смотрит с опаской на закон разума; сам законодатель, «Бог в нас», склонился к чувственному и видит себя удовлетворенным «согласием случайного в природе с необходимым в разуме». Разум, напряженный в отношении, приходит к разрешению, к покою в любви (ibid. p. 387 ff.).
__
1) Три приведенных отрывка из» AnmuthundWurde» – это те самые, которые, как мы увидим ниже (с. 557), также привлекли внимание Канта, так что он записал их, чтобы приложить к ним свои замечания.
2) Очевидно, что поэтическим переводом этого отрывка (XI 368) является известный дистих: Благородство есть и в нравственном мире. Обычные натуры платят тем, что они делают, благородные – тем, что они есть.
Это наиболее характерные черты шиллеровского идеала нравственно прекрасного. Все они взяты из «AnmulhundWürde». И на самом деле, в этом трактате уже содержится все существенное для нашей темы. Как известно, сила Шиллера заключалась не в расширении, а в интенсивности его мира мысли, что он сам знал и часто признавал 1). Конечно, существуют многочисленные параллельные отрывки или дальнейшие, более богатые изложения высказанных здесь мыслей; их можно найти в сохранившихся фрагментах его эстетических лекций, которые иногда почти слово в слово совпадают с тем, о чем здесь говорится 2), далее в эссе о моральных преимуществах эстетических манер, в эстетических письмах, наконец, в стихах и переписке. Но они не принесли нам ничего принципиально нового, даже эстетические письма, при всем богатстве их других глубоких и плодотворных мыслей. Ибо, если даже ведущая мысль этих писем, что то, что уничтожает сопротивление склонности к добру, способствует нравственности, связана с понятием нравственно прекрасного, то она, как и основная тема эстетического воспитания человеческого рода вообще, касается скорее воспитательного, т.е. педагогического, чем чисто этического вопроса и потому лежит в стороне от нашего пути. Кстати, мнение Шиллера по этому вопросу, изложенное во многих местах, настолько хорошо известно, что только по этой причине мы можем воздержаться от более подробного обсуждения. Поэтому нам достаточно сослаться, как на особенно важные, на менее известные отрывки из так называемых «Эаллий», которые мы раскопали на стр. 237—239 (выпуск 5/6), и в заключение мы рассмотрим только сравнение, которое также представляет интерес с систематической точки зрения и которое содержится в письме к Кёрнеру от 28 февраля 1793 года.
__
1) Ср. среди прочего письмо Гете от 31 августа 1794 года.
2) В Kürschner a. 0. esp. S. 10, 24, 26.
Там поэт называет птицу в полете «счастливейшим представлением материи, побежденной формой, тяжести, преодоленной силой». Гравитация, однако, ведет себя «так же против живой силы птицы, как – в случае чистых детерминаций воли – склонность ведет себя по отношению к законодательной причине». Орел, парящий сквозь чистый эфир, облака под ним (nuncpluat), к солнцу, является для нас символом возвышенного, а крылья используются как «символ свободы». Но в то же время он представляет собой победу чистой красоты, ибо «мы воспринимаем красоту везде, где масса полностью господствует над формой и… над живыми силами… полностью господствует».. полностью доминирует». Это верно как для эстетического мира, так и для морального, и для последнего также является примером угасания возвышенного в прекрасном 1).
Обратное дополнение прекрасного возвышенным будет рассмотрено позже. Здесь же мы имели дело только с чистым представлением нравственной красоты. Вряд ли можно сомневаться в том, что последняя предстает в наиболее богатой форме в творчестве Шиллера. Но как Кант отнесся к понятию нравственной красоты, которое так успешно отстаивал и так плодотворно развивал его ученик? Отверг ли он ее полностью, как принято считать? Отвечая на этот вопрос, мы должны более подробно, чем это было необходимо, остановиться на многократно обсуждавшейся позиции Шиллера по вышеупомянутой проблеме.
___
1) Ср. аналогичный образ в поэме» Движущие силы жизни», первоначально озаглавленной «Прекрасное и возвышенное», и в последней строфе «Идеал и жизнь».
На самом деле, Кант, похоже, понимал под возвышенным только чувство, вызываемое моральным законом, и практически исключал прекрасную мораль. По крайней мере, длинный отрывок из «Критики способности суждения», который непосредственно касается этой темы, вряд ли можно понять иначе на первый взгляд. Там (Кр. 129) говорится:».. … Поскольку эта сила (моральный импульс) фактически дает о себе знать эстетически* только через жертвоприношения (что является лишением, хотя и ради внутренней свободы, но, с другой стороны, раскрывает непостижимую глубину этой сверхчувственной способности, с ее последствиями, простирающимися в неизмеримое), удовольствие отрицательно с эстетической стороны (по отношению к чувственности), т.е. против этого интереса, но если смотреть с интеллектуальной стороны, то оно положительно и связано с интересом. Отсюда следует, что интеллектуальное, само по себе функциональное, нравственно доброе, оцениваемое эстетически, должно представляться не столько прекрасным, сколько возвышенным, так что оно вызывает скорее чувство уважения, отталкивающего влечения, чем любви и доверительной привязанности; ведь человеческая природа соглашается на это добро не сама по себе, а только силой, которую разум прилагает к чувственности.
Таким образом, добро не может быть «эстетически оценено» как прекрасное и достаточно возвышенное, поскольку оно «негативно» по отношению к чувственному, противоречит его интересам и «фактически лишь делает себя эстетически узнаваемым через жертвы». И все же некоторые стилистические обороты речи оставляют возможность интерпретации, которая не исключает полностью нравственно прекрасное, например, «фактически только», «хотя ради внутренней свободы» и особенно «скорее чувство уважения… чем любви и доверительной привязанности» (не: только уважение, но не любовь). Однако мы можем оставить эту возможность в стороне, поскольку несколькими страницами ранее Кант гораздо яснее говорил о систематическом допущении прекрасного; мы имеем в виду уже затронутый выше (с. 539) отрывок с другой точки зрения (Кр. 124), где о нравственном чувстве говорится, что оно может служить «для того, чтобы законность действия из долга в то же время можно было представить себе как эстетическую, т.е. как возвышенную или также как прекрасную, не теряя при этом своей законности». Таким образом, Кант допускает систематическую возможность нравственно прекрасного, даже если сам он не развил эту мысль в своей системе. Ибо мы считаем, что можем утверждать это без сомнения: Критический философ не дал систематического развития идее прекрасной морали, несмотря на всю свою погруженность в актуально прекрасное и несмотря на то, что он даже представляет красоту «в опасном осложнении с моралью 1) как символ добра». Действительно, вышеупомянутые и многие другие отрывки, кажется, исключают ее. Тем не менее, зародыши и начала этой концепции, которая так мощно развилась у его ученика, присутствуют уже у Канта.
Таковые, по нашему мнению, заключаются прежде всего в идее автономии. При добровольном подчинении закону, данному самим собой, чувство подчинения все более и более отступает перед сознанием того, что мы подчиняемся именно своему лучшему «я», и позволяет возникнуть в нас тому чувству гармонии и примирения, которым, как мы признали выше (с. 546), характеризуется прекрасное. Поэтому чувство уважения..… со склонностью», поскольку моральный закон, «навязанный нами самими», все же «является лишь следствием нашей воли» 2); и, «чтобы волить то, для чего один только разум предписывает обязанность чувственно пораженному разумному существу, способность разума внушать чувство удовольствия или удовлетворения от исполнения долга, безусловно, принадлежит ему». 3) По этой же причине Кант мог сказать в своем знаменитом апострофе к долгу, что он не угрожает ничем, «что возбуждает и пугает естественное отвращение в разуме», а просто устанавливает закон, который сам по себе находит путь в разум». 4)
__
1) Cohena. a. 0. 8. 264 ff.
2) Grundlegungp. 20 примечание.
3) Ibid. 8. 91. Слова, выделенные выше, также выделены у Канта.
4) Pr. V. 105. Это исправляет приведенное выше «не само по себе* (Kr. 129). Там, однако, речь шла о «человеческой природе», здесь – о «разуме».
Сюда же относится многое из того, что мы уже объяснили в предыдущем очерке об оправдании чувства Кантом, особенно предложение о «разумном самолюбии* (pr. v. 89); к этому мы хотим добавить отрывок Religion в p. 58: «Естественные склонности, рассматриваемые сами по себе, хороши, т.е. безупречны, и не только бесполезно, но и вредно и предосудительно желать их искоренить; их нужно только приручить…»
Выражение «нравственная красота» или «нравственно прекрасное», конечно, нигде не встречается в критический период Канта, и вышеприведенный отрывок (Kr. 124), кроме одного из «Учения о добродетели», который будет упомянут позже, является, насколько нам известно, единственным, в котором эстетический термин «schönc» вообще относится к чистой нравственности; ибо когда в Kr. 131 «аффект тающего рода» причисляется к «прекрасному чувственного рода», то этот прекрасный чувственный род лишь очень слабо соответствует шиллеровскому идеалу нравственной красоты. То, что Канту не «возможно не хватало» чувства последней, как думал Кёрнер (см. выпуск 5/6 стр. 244), доказывают «Замечания об ощущении прекрасного и возвышенного» (1766), которые мы обсудим в нескольких словах, хотя в целом мы исключили из нашего обсуждения докритические сочинения Канта, а также докантианские сочинения Шиллера 1).
– Там истинная добродетель основывается на принципах, но они явно базируются на «чувстве красоты и достоинства человеческой природы» (с. 23). Прекрасное, однако, по сути отождествляется с добром, чувствами сострадания, симпатии и доброты, которые совпадают с добродетелью «лишь случайно» (с. 19 f.). Это «вспомогательные инстинкты», «дополнения добродетели» или «перенятые добродетели»; хотя они никогда не могут считаться «подлинной добродетелью», они, тем не менее, имеют близкое сходство с ней и облагораживаются своим родством с ней; они порождают «прекрасные поступки» (с. 23 f.). Характеристика нравственной красоты, данная Шиллером (см. выше с. 548), – легкость в себе и свобода от стесняющих усилий – встречается уже здесь (с. 51). Однако, в частности, рисунок двух полов как представителей прекрасного и возвышенного содержит большое количество настолько метких замечаний, что после их прочтения возникает желание заподозрить влияние Канта на Шиллера, тем более что из его переписки с Гете мы знаем, что он читал сочинения Канта – как кажется, довольно рано (19 февраля 1795 года). Среди прочего, принятая добродетель называется прекрасной добродетелью. Женщины «будут избегать зла не потому, что оно неправильно, а потому, что оно безобразно, и для них добродетельные поступки означают те, которые нравственно красивы».
__
1) Мы цитируем второе издание (1771).
Ни ought, ни must, ни obligation». – «Я с трудом верю, что прекрасный пол способен на принципы, и надеюсь этим не обидеть, ибо они крайне редки и у мужчин» 1). Эстетическое суждение также четко и определенно отличается от суждения «согласно моральной строгости», «поскольку в ощущении прекрасного мне остается только наблюдать и объяснять видимость» 2).
В любом случае, понятие моральной красоты не осталось чуждым Канту, даже если он почти полностью отодвинул его на задний план в трех своих великих критиках по методологическим причинам, указанным ранее. С другой стороны, понятие благородного, уже заявленное в «Наблюдениях «* (с. 12) как совместимое с прекрасным и развитое в Kr. 1*30 f., кажется нам несколько более близким к понятию морально-красивого у Шиллера, который часто использует оба термина одинаково. Над моральным энтузиазмом (см. выше с. 542), который не заслуживает одобрения с чисто этической точки зрения, но «тем не менее эстетически возвышен», Кант ставит «отсутствие аффектации ума, решительно преследующего свои неизменные принципы», который он называет «возвышенным в гораздо более превосходном смысле» и характеризует как благородный нрав.
__
1) Там же. S. 52.
2) Ibid. p. 62; ср. определение Шиллером красоты – свобода во внешнем облике.
Сейчас мы говорим о принципах, а не о примирении с чувственностью, но «неизменный» характер этого расположения, по крайней мере, свидетельствует о некотором внутреннем родстве с идеалом Шиллера о нравственном образе мышления, ставшем природой. Кстати, здесь мы хотели бы еще раз отметить, что любимая идея Шиллера, тесно связанная с этой, о том, что культура должна снова стать природой, исходит от самого Канта. Если Минор 1) предполагает влияние «идей» Гердера как решающее, мы не сомневаемся, что это могло сыграть свою роль, поскольку идея в целом была в то время пропитана образом мышления Руссо, но у нас есть прямое свидетельство Шиллера о заимствовании у Канта со ссылкой на очень конкретный отрывок из «Критики способности суждения» (ср. выпуск 5/6, с. 238).И даже если уклониться от переноса означенного там отрывка с эстетической точки зрения в этическую область, можно сослаться на кантовский отрывок – написанный в 1786 году, то есть задолго до философских эссе Шиллера и, скорее всего (ср. там же стр. 228), прочитанный последним – из MuthmasslichenAnfangMenschengeschichte*, где Кант развивает «трудную проблему» со ссылкой на Эмиля Руссо: «как должна продолжаться культура». 228), где Кант, следуя Эмилю Руссо, развивает «трудную проблему»: «как должна продолжаться культура, чтобы развить предрасположенности человечества как морального вида, принадлежащие его судьбе, так, чтобы они больше не противоречили предрасположенностям как вида природного», и заканчивает словами: «…пока совершенное искусство снова не станет природой, что является конечной целью моральной судьбы человеческого рода». Греки, на которых так часто ссылается Шиллер, также не отсутствуют в работе Канта и восхваляются в значительном месте как пример счастливого союза высшей культуры со свободной природой 2).