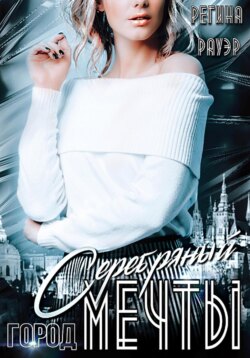Читать книгу Серебряный город мечты - - Страница 10
Глава 9
ОглавлениеКвета
Я вырываюсь молча.
Пинаюсь.
И замираю, когда мой тайный похититель шипит.
Говорит, становясь совсем не тайным:
– Квета, черти с тобой!
– Марек?! – жесткую ладонь от губ я всё ж отдираю.
Вскидываю голову, дабы в острые черты лица и серые глаза, сверкающие непонятной ненавистью и яростью, вглядеться.
Убедиться, что он.
– Марек, – он подтверждает сухо.
Дёргает раздражённо уголком рта, и гримаса в мазнувшем свете уже подкравшегося яркоглазого монстра получается жуткой.
Быстрой.
Но на богатое воображение и страхи почти главный фотограф «Dandy» времени не даёт. Он перехватывает мою руку, сжимает стальными пальцами запястье, тянет за собой вглубь каменного прохода, что у́же Винарны Чертовки12.
Тащит.
И язык, едва успевая переставлять ноги, я прикусываю вместе с сотней вопросов, следую слепо и послушно за личным Белым кроликом, который, как и положено сказочному кролику, спешит и к разговорам не расположен.
Не до них.
Когда за спиной рокочет мотор, перестают плясать жёлтые огни, замирают, находя вдруг потерянную жертву, и урчание зверя становится разочарованным.
Не достать.
Не догнать, пусть хлопок двери и вторит перестуку моих каблуков, который дробится о брусчатку, разносится, отскакивая от каменных стен и наполняя пространство эхом.
Звоном в ушах.
И головой вертеть не стоит, но я всё равно верчу, оглядываюсь на бегу, чтобы чёрную тень, стоящую в сияние фар и не спешащую догонять, увидеть.
Не разглядеть.
Зашипеть от боли и рывка.
– Квета!
Марек торопит.
Уводит в темноту и неизвестность, что изредка вспарывается огнями и разрезается вспышками голосов, ныряет в дыры проулков, петляет по старинным улицам чужого города. И в пространстве и времени я теряюсь, чувствую себя настоящей Алисой, которая за кроликом всё же прыгнула, перевернула мир с ног на голову и в черноте бесконечного туннеля заплутала.
Упала.
На холодные камни перед старой церковью с пронизывающим чернильные небеса шпилем, в реальность которой, запрокинув голову, я сначала поверить не могу.
И задышать снова не могу.
Я лишь смотрю.
А Марек дёргает вверх, цедит недовольно, удерживая для окружающих, коими враз наполнился весь мир, беззаботную улыбку:
– Вставай!
– Встаю, – я пытаюсь, поднимаюсь, чтобы сразу охнуть и на Мареке, дабы снова не свалиться, повиснуть. – Каблук…
– Удивительно, что только сейчас, – он говорит едко, волочет до скамейки, на которую пихает небрежно.
Буравит взглядом.
Недоверчивым.
И с вопросом, пропитанным недоверием и подозрением, я, поднимая голову и растирая ноющую ногу, его опережаю:
– Что ты здесь делаешь?
– Могу тоже самое спросить у тебя, – Марек фыркает, крутит головой по сторонам, и в улыбке в ответ на обеспокоенный вопрос проходящей мимо супружеской пары он расплывается лучезарной.
Заверяет, что у нас всё прекрасно.
И улыбаюсь, подтверждая его слова, я не менее лучезарно, держу хорошую мину при плохой игре, пока законопослушные и добропорядочные баварцы не вызвали порядка ради полицию.
– Ты – снег, свалившийся на мою голову, – Марек, глядя вслед удаляющейся паре, выдыхает зло, ерошит и без того всклоченные волосы, и рядом он плюхается, дабы ноги вытянуть и взглядом, полным претензии, одарить уже меня.
– Терпеть меня не можешь именно за это? – я любопытствую светским тоном.
Размышляю.
И ботильон, дыбы оценить масштабы трагедии, всё же стягиваю.
– Нет, – он буркает, наблюдает косо за моими действиями и нос морщит неодобрительно, поскольку демонстрация носков в радужную полоску на очередной старинной площади одобрения вызывать не может. – Мне с тобой сложно общаться. Ты… ты взбалмошная и непонятная.
– Бывает, – я бормочу рассеянно.
Покачиваю каблук, что остался держаться лишь на честном слове и репутации итальянских мастеров, кои свои шедевры создавали для ковровых дорожек, а не забегов и марш-бросков на спасение.
Не предусмотрели они как-то подобные жизненные пердюмонокли…
– Права была вся редакция, что скучно жить Крайнова не умеет. И я начинаю понимать опасения и переживания Любоша. На тебя было совершенно покушение, а ты сидишь и рассматриваешь свои ботинки!.. Квета, ты меня вообще слышишь?!
– Ботильоны, – поправляю я машинально, и под разъяренным взглядом тяжело вздыхаю, переспрашиваю. – Что?
– То, что тебя хотели похитить, – он заявляет колючим голосом, приговаривает. – Или убить. Или… не знаю, но та машина ехала за тобой. И ты должна обратиться в полицию. Мы с тобой сейчас пойдем, и ты напишешь заявление.
– Марек, мне нужны новые черевички, – я пропускаю мимо ушей про полицию, утверждаю очевидное. – Ты знаешь город. Где?
– Где? – он повторяет.
Смотрит обескураженно, и про то, что ему со мной сложно, я себе напоминаю, машу для наглядности и простоты ботильоном перед его носом:
– Где здесь ближайший обувной?
– Какой обувной, Квета?! – он взирает изумленно, и изумление это медленно переплавляется в злость. – Тебе надо в полицию!
– Мне надо новые черевички и кофе, – я буркаю протестующе, надеваю ботильон, а задравшийся рукав свитера показывает часы и девятый час вечера.
И на ближайший обувной, значит, можно не рассчитывать.
До машины мне прыгать инвалидным кузнечиком.
– Ты ненормальная, – Марек, закрывая глаза, вердикт выносит обреченно. – Господи!..
– Не поможет, – отзываюсь я легкомысленно. – Моя машина на Швабаханлаге, семнадцать. Крытая стоянка. Как добраться скажешь?
– Там ведь больницы, – он произносит удивлённо.
После молчания длинной в вечность.
И долгого взгляда.
– Больницы, – я за ним повторяю согласно.
Не продолжаю.
И первым неохотно сдается он.
– Я был на конференции. Институт света Макса Планка. Снимки для научного журнала, поэтому Любош может не волноваться, – Марек рассказывает скрипуче, взвешивает каждое слово, отчего они, слова, кажутся ненадёжными и ломкими. – На врагов я не работаю, интересы родины не предаю.
– Молодец.
– В детстве я часто здесь бывал, гостил у дяди с тетей. Они сейчас перебрались в Нюрнберг, – мою похвалу и иронию он игнорирует, смотрит сквозь меня на церковь, и передёрнуть плечами от его пустого взгляда не позволяет только гордость. – Конференция закончилась рано, поэтому я решил прогуляться. Поезд до Нюрнберга в половину десятого, – рукав куртки Марек приподнимает, смотрит на часы, чтобы после перевести взгляд на меня и вежливо уведомить. – Я провожу тебя до машины. Мы близко от Швабаханлаге.
– Спасибо.
– Пожалуйста, – он хмыкает.
Встает.
Протягивает галантно руку.
И до машины мы добираемся в тишине.
Без разговоров, на которые найти сил не получается. Они, силы, исчезают как-то враз, уползают, превращаясь в стелющийся по земле туман. И усталость наваливается мгновенно, пробирает на пару с холодом до костей, и думать, что до Праги ещё триста километров, не хочется.
Думать не хочется, но приходится.
Думать и на внезапный вопрос отвечать. А сначала лезть в недра машины и туфли, попутно суя Мареку лезущую под руку коробку, искать.
Переспрашивать растерянно:
– Что?
– Ты в своем уме, Квета?! Ты хоть представляешь, сколько она стоит? – он вопрошает.
Даже орет.
Возмущённо.
И этого возмущения куда больше, чем когда я вырывалась в проулке, отказалась идти в полицию и привязалась с вопросом про обувной. И лоб, чтобы собрать мысли в кучу, приходится потереть найденной туфлей и на сидении удобней устроиться.
Взглянуть на Марека снизу вверх.
– Она?
– Кукла! – он выплевывает яростно, убивает взглядом, и по боку уже раскрытой коробки показательно стучит. – Тебе подарили ее позавчера. Забыла?
– Нет.
И да.
Позавчера Ага дала визитку профессора Вайнриха, и неизвестный пан, пришедший из девятнадцатого столетия, волновать меня перестал.
И его коробку я закинула на заднее сидение.
Не думала.
О кукле и её бутылочного цвета глазах, что слишком ярки и живы для игрушки. Там, в кофейне, они смотрели в душу, знали обо мне всё. И может именно поэтому я больше не смогла открыть коробку, поднять крышку похожей на гроб шкатулки, взглянуть ещё раз.
И восхищение Аги к шедевру кукольного дела и старине я разделить не смогла, и спор Любоша с Мареком и Алехандро в попытке определить эпоху и наряда, и куклы не поддержала. Не ответила всем и сразу почему мне и почему такой странный подарок.
Тревожный подарок.
От которого на душе гулко воют гиены, делают круги вокруг противно ноющего сердца, сжимают его в нехорошем предчувствии, и касаться подарка больше не хочется.
Не получать бы его.
Не думать, не знать, не помнить.
Забыть взаправду.
Сделать вид, что куклы нет и учтивого пана не было. Была неприятная, но не страшная встреча в венской кофейне, кокетливые взгляды Аги на Марека, обольстительные улыбки Алехандро и его просьба показать город.
Дать номер телефона.
Формальная просьба.
И широкий галантный жест, ибо мой номер и даже адрес у Алехандро явно есть и так: служба безопасности «Сорха-и-Веласко» работать плохо не могла. И давать ему разрешение позвонить и пригласить под потемневшим взглядом Любоша было тоже формально и неприятно, но отказать нельзя.
И не улыбаться было нельзя.
И держаться получалось, лишь сжимая согнутую пополам визитку Дитриха Вайнриха, который был куда важнее ювелирных принцев и всех кукол мира.
– Квета, ты понимаешь, что она очень ценная? – Марек вопиет, смотрит так, словно я подожгла Тынский храм иль взорвала Карлов мост. – Её не меньше ста лет! Я бы даже сказал, что больше двухсот!
– Ты разбираешься в куклах?
– В Нюрнберге есть музей игрушек. Моя тётя работает там, и у неё одна из самых больших коллекций кукол во всей Германии, – меня просвещают ледяным тоном, сверкают глазами, что кажутся стальными и холодными.
– Позавчера ты об этом не говорил.
– Позавчера… – он запинается, и тень, скользнувшую по его лицу, я понять не успеваю, – было многолюдно. О таких вещах при всех не рассказывают.
– О таких вещах кричат на безлюдных стоянках.
– Не ёрничай. Я думал тебе позвонить.
– Не успел? Или передумал?
– Решил для начала поговорить с Эльзой, – он отбривает раздражённо, замолкает, и его предложение после задумчивой паузы изумляет. – Но ты можешь поговорить с ней сама, если поедешь со мной в Нюрнберг.
– Тетушка с дядюшкой будут в ужасе, – я, пряча растерянность, ужасаюсь наигранно, вопрошаю иронично. – Или ты им постоянно приволакиваешь ненормальных девиц на ночь глядя?
– Только по средам, – он улыбается скупо.
Но улыбается.
И напряжение между нами надламывается, истончается медленно, дает улыбнуться первый раз за этот вечер искренне и на визит к тетушке с дядюшкой согласиться.
Оказаться.
В мастерской, что больше похожа на волшебный чулан. И пока тётушка Марека, подхватив лупу, рассматривает мою куклу, я рассматриваю её кукольное царство. Хожу осторожно вдоль полок, на которых расселись фарфоровые дамы, уставились на мир стеклянными глазами, но в их глаза смотреть не страшно.
Интересно.
И разглядывать их интересно.
Подмечать нить жемчуга в волосах, которые кажутся настоящими. Насчитывать семь слоев юбок пышного платья. И напротив кукольного домика, расположившегося за стеклом шкафа, я замираю восторженно, забываю как дышать.
– Марек, но это ж невозможно… – я говорю шёпотом.
Поднимаю голову.
И смех у него выходит тихий.
– Здесь пятнадцать комнат и не меньше тысячи предметов. Образец нюрнбергского дома семнадцатого века. Раньше умели делать поразительные вещи.
– Оно же всё такое маленькое… – я показываю на пальцах и головой встряхиваю. – Тут даже картины на стенах. И вазы, и посуда, и ветки в камине. Марек, это чудо!
– Не большее, чем твой подарок, – Эльза подходит неслышно.
И говорит она негромко, севшим голосом.
Выглядит взволнованной.
– Кукла уникальная, Эльза? – Марек крутится на каблуках ботинок резко, оборачивается первым. – Я был прав?
– И да, и нет. Квета, ты… – она качает головой, и, пожалуй, в её серых, как и у Марека, глазах мелькает тревога. – Есть подарки, которые лучше никогда не получать.
– И истории, которые не знать, – я отвечаю ей в тон.
Мрачно.
И заискрившуюся злость пытаюсь удержать.
– Да, – Эльза подтверждает и на племянника взгляд переводит. – Кукла шестнадцатого века, Марек.
– Но…
– Но ты сваришь нам кофе, а историю я расскажу твоей подруге, – она говорит непреклонно, и рот, открытый для возражений, Марек закрывает.
Уходит.
И к невесомым креслам около столика с изогнутыми ножками, выполненных в духе рококо, Эльза манит меня пальцем только тогда, когда, разрывая гнетущую тишину, обиженно хлопает дверь.
– Марек обиделся, – я констатирую.
А его тетушка небрежно отмахивается:
– Марек переживет. Твоя кукла, твоя история. Моему племяннику незачем это знать.
– Что именно знать, вы так и не сказали, – я напоминаю любезно, умещаю обстоятельно локоть на подлокотник и подбородок кулаком подпираю.
Рассматриваю тетушку Марека, что без Марека выглядит менее доброжелательной, и представить, что на пороге фахверкового дома я час назад попала в широкие объятия необъятной тетушки, не выходит.
Теперь мне не рады.
– Я расскажу всё, что знаю и могу предположить, но я хочу, чтобы Марек держался подальше и от куклы, и от тебя, – она говорит резко.
И понять её беспокойство я могу, поэтому киваю согласно.
Легко.
– Думаю, даже ты понимаешь, что вещи с историей в пять столетий, слишком ценны. Уникальны. Единичны. Можно очень быстро назвать все музеи и частные коллекции, где есть куклы того времени. И невозможно назвать, сколько они будут стоить, если их вдруг захотят продать. Тебе же подарили. И… не просто куклу шестнадцатого века.
– Вы так уверены, что шестнадцатого?
– Раздень её, – Эльза предлагает, кладет мою куклу на стол.
И на белоснежном, каком-то больничном, фоне моя кукла вдруг кажется слишком хрупкой и… беспомощной, неопасной. И тянусь оттого я к ней послушно, беру и в бутылочные глаза, что смотрят с укоризной, заглядываю.
– Зачем?
– Посмотри. Её одежда. Ткань. Малиново-пурпурный бархат. Вышивка кипрским золотом. Подол расшит жемчугом. Мода того времени. И она сама… Конечно, я могу ошибаться, нужна экспертиза, но… посмотри, она собрана. Навощенная голова, руки и ноги, а вот туловище… оно из серебра, Квета.
– Так не бывает?
– Может и бывает, однако я только раз в жизни слышала про серебряных кукол, – она встает, слишком легко для своей комплекции, меряет шагами свою игрушечную комнату с воздушной мебелью рококо и сотней кукол.
И думать, как она ничего не задевает, неуместно, но… думается.
– Забытая легенда, в которой слишком много белых пятен. Мне рассказывал её отец, во время войны он был в Куттенберге.
– Кутна-Горе.
– Да, но он называл по-другому. Они вели добычу руд. Там всегда что-то добывали. Серебро, свинец, цинк. Сокровища. Ту легенду им рассказал кто-то из местных, а они поверили. Искали, бредили, сходили с ума, пропадали, а потом… – она усмехается криво, и что имеется в виду под этим «потом» я не спрашиваю, – потом всё изменилось и стало не до сокровищ. И про серебряный город все забыли.
– Почему серебряный?
– Потому что из серебра, – Эльза улыбается снисходительно, поясняет как неразумному ребёнку. – Последний пан из рода Рудгардов заказал диковинный подарок для своей новорожденной дочери. Куттенберг в миниатюре. Его делали больше ста мастеров на протяжении пятнадцати лет. Пана называли сумасшедшим. Дальние родственники даже писали королю и требовали лишить всех прав. Нельзя тратить огромные деньги рода на… игрушки, которые к тому же рождали слухи.
Напоминали о кострах инквизиции.
И суевериях.
– Жители серебряного Куттенберга. Они получались слишком… живыми. Глаза, лица, тёплые руки, только сердце из серебра, холодное, как у их хозяйки. Альжбета из Рудгардов. Единственная и, как положено в легендах, любимая дочь.
Эльза замолкает.
И продолжать я не прошу.
Не хочу.
Потому что счастливых концов у легенд не бывает, и моя кукла, в глазах которой теперь грусть, мои мысли подтверждает.
– Пан умер, когда Альжбете было тринадцать, – Эльза всё же продолжает, – говорили, что родственники, ничего не добившись от короля, решили проблему сами. Вот только подарок всё равно закончили и на пятнадцать лет девочке его подарили. Альжбета играла в свой город… и среди всех жителей у неё была особенная кукла. Любимая, похожая на свою хозяйку. Светлые волосы, зелёные глаза, она была больше, чем остальные жители города.
– Вы думаете эта она? – свой подарок я откладываю, прячу в рукава свитера пальцы, что заледенели враз, и не верю.
И верю.
– Думаю, – тётушка Марека кивает, останавливается за креслом напротив меня, и от её взгляда перехватывает дыхание. – И я не хочу знать, как кукла, пропавшая вместе со своей хозяйкой и всем серебряным городом, оказалась у тебя.
– Мне её подарили.
– Подарили, – она усмехается, соглашается пугающе. – Ей тоже подарили.
И она пропала.
Исчезла в одну из тёмных осенних ночей.
– Король приезжал лично. Но… ничего. Они словно провалились сквозь землю. Кто-то говорил, что и провалились. Чтобы построить серебряный город, пан заключил сделку с самим дьяволом, и отдать он пообещал через семнадцать лет то, что первым увидит, вернувшись домой.
– И первым, конечно, оказалась его дочь, – я бормочу себе под нос.
Насмешливо.
Но Эльза слышит, кивает согласно:
– Я тоже думала, что это всё ваши чешские сказки, Квета.
– Теперь не думаете?
– Теперь… – улыбка выходит кривой, и ответ я не слышу.
Он тонет в звонке моего телефона, который надрывает повисшее натянутой нитью напряжение и вернувшегося с кофе Марека заставляет вздрогнуть. Наливаются возмущенным звоном фарфоровые чашки на серебряном подносе. И мой собеседник, имя которого я не посмотрела, вторит не менее возмущенно.
Сердито.
– Кветослава, до тебя невозможно дозвониться!
– Пани Магда? – я соображаю долго, но соображаю, и пани Гавелкову, что живет по соседству в Кутна-Горе, признаю. – Что случилось?
– Дима, твой жилец, – она выдвигает с претензией, и возмущение в её голосе обороты набирает, наполняется тревогой. – В вашем доме шум и грохот, скулит собака и не горит свет. Я не понимаю, что происходит, и не знаю, что мне делать! Будь кто другой, я бы уже вызвала полицию, но…
– Но вы сначала позвонили мне, – я выдыхаю, подхватываю машинально куклу и застывшего на пути к двери Марека по широкой дуге обхожу.
– Квета! – он окликает.
Вручает поднос с расплескавшимся кофе тетушке, идёт за мной.
– Да, – пани Гавелкова подтверждает, и сомнения в её голосе мне не нравятся.
– Пани Магда, я… я скоро буду, не надо полиции, – я прошу, сцепляю зубы, чтобы не начать молить, сдёргиваю куртку с вешалки и из дома, скатываясь с высокого крыльца, сбегаю.
– Квета, постой же! Что случилось?!
– Марек, что происходит?
– Эльза, что ты ей сказала?
– Ночь на дворе, вернитесь все домой!
– Дядя! Квета, да постой же ты!
Марек догоняет, хватает за локоть и к себе бесцеремонно оборачивает.
– Объясни! – он требует.
И объяснить, вспоминая правила хорошего тона, мне всё же стоит.
– Мне нужно вернуться домой. Там… проблемы.
– Которые не терпят утра?
– Не терпят.
– Тогда я поеду с тобой.
– Нет.
– Марек, что вы кричите на всю улицу! Господи!
– Эльза, подожди!
– Эльза, спасибо вам за… интересную историю, – голову, чтобы найти взглядом всполошенную тётушку, я вскидываю, отступаю, выпутываясь из рук Марека. – И тебе спасибо, что спас от смерти.
– Квета, я…
– Спас? Марек, что она говорит?! Я не…
– Эльза!
– Прости, – ему я улыбаюсь извиняюще, пячусь быстро к машине, что приветливо пищит, и руками развожу. – И спасибо за всё, но мне, правда, надо.
Одной.
Дим – это запредельно личное.
– Квета! – Марек злится, рвется, но тётушка его тормозит.
И из её рук выпутаться куда сложнее.
И остановить меня он не успевает, лишь хлопает бессильно по капоту «Купера», когда я даю задний ход и, выворачивая руль, уезжаю.
12
Винарна Чертовка – самая узкая улица Праги.