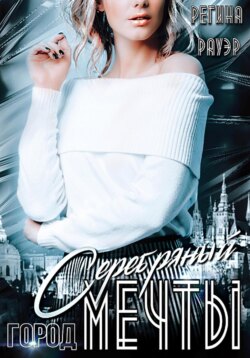Читать книгу Серебряный город мечты - - Страница 12
Глава 11
ОглавлениеКвета
Сон уходит враз.
Пропадает, оставляя после себя пустоту. И в этой пустоте тщательно затёртое отчаянье, которому день за днём нельзя давать выход и разрешать облачаться в мысли. Ибо они, мысли, привяжутся и задыхаться заставят.
Обернутся кошмарами.
Прокрадутся под кожу, опутывая ржавыми цепями страха и бессилия. И закричать, ощущая собственную никчёмность и беспомощность, будет нельзя.
Никогда нельзя кричать.
Пани Власта не одобрит.
И слёзы… слёзы – признак распущенности. Неумение держать себя в руках и непозволительная слабость, на которую я не имею права, поэтому стену цвета беж, что, как сказала бы Ага, модного ныне оттенка «greige», я прожигаю сухими глазами.
Смотрю безотрывно.
Разматываю в памяти кадры собственного детства, в котором мама была жива и в котором пани Власту ещё получалось называть бабичкой, радоваться поездкам к ней, в Карловы Вары, и рассказывать о верблюдах далёкой и жаркой страны.
Хвастаться, что дом здесь, в Кутна-Горе, у нас будет больше.
Дом папа строил для мамы.
А мама смеялась, что в их спальне, по увещеваниям именитого дизайнера, будут стены цвета «гоголь-моголь» и что папа, коего привлекали к спорам об оттенках штукатурки, не видит разницу между экрю и беж.
Дизайнеру мама в итоге дала отставку. Дом – свой, первый – она хотела видеть без «гоголь-моголя или хотя бы цвета ванильного льда». И египетских мотивов с позолотой и расписанными цветами колоннами она не хотела.
Мама хотела уют.
Дерево.
И камень.
Настоящий камин в огромной гостиной с французскими окнами на террасу, и она была в ужасе, когда папа, уверенный, что пред настоящим камином должна лежать настоящая медвежья шкура, откуда-то гордо приволок эту самую шкуру.
На Рождество шкура была подарена пани Власте.
Вызвала переполох в доме и смех, который и сейчас прорывается улыбкой от всплывшего из глубин памяти растерянного лица пани Власты.
Она ведь не может теряться.
Изумляться.
Смеяться неловко, но искренне.
Она не могла даже уже тогда быть… человеком, но в то Рождество, последнее с мамой, была. Улыбалась без привычной сдержанности и холодности. Не ругалась, когда я, размахивая адвент-календарем и крича, что пришёл Щедрый день16, покатилась по глянцевому паркету в подаренных и связанных ею же носках и врезалась, не успев затормозить, в неё.
Пани Власта рассказывала сказки.
Легенды.
И в Дом Рождества я ходила с ней, а после, сжимая сухую и тонкую ладонь, слушала «Рыбовку»17 в костёле святой Анны и точно знала, что, пока держусь за обманчиво хрупкие пальцы бабички, со мной ничего не случится.
Я не потеряюсь.
В толпе.
И в жизни.
И кажется, что если бы тогда я не отпустила её руку, то, быть может, в самом деле не потерялась бы, не заблудилась бы спустя полгода в коридорах каирского госпиталя, куда доставили маму прямо с раскопа.
У неё заболела голова.
Мама устала.
Так, обеспокоенно хмурясь, сказал папа и увёл меня с собой из палатки. Выдал перчатки, респиратор и за микроскоп, дав изучать самый важный и ценный обломок саркофага писца царских корреспонденций, усадил. Не замечал, как я крутила винты и в целом всё, что крутилось и отвинчивалось, а затем полезла к рассортированным и разложенным фрагментам скелетов, трогать кои мне запрещалось категорично.
Но любопытно.
Уверенно, что сегодня не заругают.
И не заругали.
Папа лишь рассеянно попросил положить на место челюсть, нижнюю. И по голове он меня потрепал рассеянно, назвал – что делал крайне редко – чалыкушу и пообещал, что мама к утру поправится.
Не поправилась.
Утром поднялась температура. Появился озноб, что к обеду сменился жаром и бредом, в котором мама говорила со мной, звала. Пусть я и стояла рядом, дергала её сердито за руку – обжигающе горячую, сухую, похожую на пергамент, – и просила очнуться.
Не играть так.
Потому что такая игра мне не нравилась и Мена, старый и худой копт, числившийся врачом и знавший свой загадочный мертвый язык, мне разонравился. Он неодобрительно качал головой, говорил что-то папе, отчего папа темнел в лице.
Не обращал внимания на меня.
Звонил кому-то.
Ругался.
И почему-то он совсем не обрадовался, когда вечером, оглашая криками весь лагерь, я примчалась к нему сказать, что у мамы спала температура и она узнала меня. Папа только непривычно криво улыбнулся, потрепал показавшейся тяжёлой рукой по голове и вещи отправил собирать.
Машина должна была уже скоро прийти.
Увезти в госпиталь.
Где температура у мамы снова поднялась, застыла на отметке сорок. Она перестала нас узнавать, и папа, забыв обо мне, метался между врачами, умоляя их сделать хоть что-то. Разговаривал взволнованно и громче обычного, а после, когда из маминой палаты вышел врач и, подойдя к нему, что-то тихо сказал, папа опустился прямо на пол и заплакал.
Закаменел, как Сфинкс.
И даже не дёрнулся, когда пани Власта, пожалуй, впервые наплевав на все правила приличия, прямо в аэропорту потребовала объяснить, как так получилось, что у мамы оказалась тропическая малярии, и отвесила, не дождавшись ответа, пощёчину.
Хлёсткую.
Звенящую даже в воспоминаниях.
От которых я жмурюсь, сажусь резко в кровати, и встревоженный Айт, примостившийся без разрешения в ногах, голову поднимает, смотрит вопросительно.
– Ни-че-го, – я выговариваю шёпотом, по слогам.
Нашариваю туфли, что, как и пол, кажутся ледяными.
Но вставать надо.
Чтобы подушку, скрывая своё присутствие, взбить, прислушаться к размеренному дыханию Дима и Айту непонятно зачем пояснить:
– Любимое русское слово Бисмарка.
Которое я повторяю, выйдя в коридор и прикрыв дверь, несколько раз. Стою почти минуту, прежде чем сделать первый шаг и по стене из тёмного дерева пальцами провести.
Запрокинуть голову к массивным балкам потолка.
Пройти, слушая обиженный скрип половиц.
Почти стон, в котором слышится справедливый упрёк. Мама ведь не хотела бы, чтобы с её домом… так, вот только и по-другому у нас не вышло. Папа сюда приезжать не любил.
Не мог.
И я не могла.
И детская, давно ненужная, напротив спальни так и не наполнилась моими вещами. Остались неразобранными пыльные коробки в пустой комнате на втором этаже, что, кажется, должна была стать гостевой спальней. Не расположились перевязанные шпагатом стопки книг на массивных стеллажах в кабинете папы.
Повисла по углам изящным кружевом паутина, а пыль укрыла серым одеялом всё остальное.
Потемнели от грязи окна.
Потускнели.
И сам дом потускнел, постарел без хозяйки. И, наверное, это безумие просить прощение и чувствовать вину перед ним, но…
– …прости, – я шепчу и по спинке стула в гостиной рукой провожу, глажу, – ты прости, что мы тебя предали.
Бросили.
Ибо оплачивать счета из Праги было легче и проще. И звонить от случая к случаю пани Гавелковой, узнавая всё ли в порядке, было тоже проще. Легче было обратиться раз в год в клининговую компанию и заплатить.
Не приезжать самим.
– Я… попытаюсь исправить.
Приберусь.
Для начала и сама.
Без чужих людей в доме, поэтому от помощи пани Гавелковой, что приносит три пакета с кастрюлями и кастрюльками «перекусить», я отказываюсь. Распахиваю все окна, давая промозглому свежему воздуху заполнить дом.
Поиграть некогда кипенно-белым, а теперь посеревшим тюлем.
И тюль вместе со шторами я снимаю.
Заметаю осколки.
А пани Гавелкова возвращается.
Тащит, прижимая к груди, ворох тряпья.
– Переодевайся, молодежь! – она командует, сваливает на стол гору тряпья, что рассыпается, оказывается джинсами и футболкой, ярким платком с перекрещенными костями.
Швыряет, заставляя отскочить, мне под ноги кеды.
И фыркает, окидывая меня пренебрежительным взглядом и упирая руки в боки, пани Магда насмешливо:
– Кто ж в костюмах-то деловых грязновую разводит, а?!
Никто, но во что переодеться не нашлось, а брать вещи Дима не хватило наглости. Или смелости. Или всего и сразу, только вот выкинуть испорченные брюки с рубашкой, которые и так безбожно измялись ото сна, мне проще.
– Бестолочь, – пани Магда вывод делает сама. – Ничего-то вы, молодежь, не разумеете! И не смотри, бери. Вещи чистые. Моего непутевого они, когда он ещё не раздобрел и не обнаглел окончательно.
– Спасибо, – я говорю растерянно.
Прижимаю к груди старую одежду Йиржи.
И к дверям в кухню, дабы переодеться, развернуть себя даю.
– И платок на голову повяжи, непутевая! – пани Гавелкова кричит.
Плюется, поскольку платок, подумав, я всё же повязываю, однако неправильно, и пани Магда, отвешивая подзатыльник и заставляя наклониться, мне его споро и ловко перевязывает.
По-человечьи.
Спрашивает, отступая и оглядывая придирчиво, деловито:
– Окна мыть будешь?
– Буду.
– Крахмалом мой, он лучше любой химии, – она, пожевав губы и подумав, велит.
Оставляет этот самый крахмал на столе, чтобы к дверям твёрдым гренадерским шагом направиться, остановиться на самом пороге и через плечо обеспокоенно и в тоже время иронично поинтересоваться:
– Сама-то справишься?
– Справлюсь, пани Магда.
Я справлюсь сама.
Сделаю то, что сделать должна была уже очень давно, но не сделала. Не приехала, объехав полмира, сюда.
И прав был Дим, что я стрекоза.
– Попрыгунья Стрекоза… – я бормочу сердито.
Распластываюсь на полу гостиной, ибо ковер оказывается тяжёлым, пыльным и неповоротливым. Громоздким, и мы с Айтом, что спустился бесшумно и по пятам следовал за мной, дотолкать его до террасы не можем.
– Всё, сдаюсь, – я пыхчу.
И от Айта, утешающе фыркающего над ухом и тыкающегося мокрым носом мне в шею, я жмурюсь и отмахиваюсь.
Перекатываюсь, устраиваясь удобней.
Распахиваю глаза, чтобы увидеть… Дима, который оказывается рядом ещё более бесшумно и незаметно, чем его же собака, словно подкрадывается, заставляя вздрогнуть, выдать неловкую под пристальным взглядом улыбку и Айта за крепкую шею обхватить.
Проинформировать, поправляя сползший на глаза платок, бодро:
– У нас внеплановый санитарный день. Моем, убираем, стираем.
Таскаем ковры.
Ковёр, который Дим отбирает молча, уносит во двор. И мусорные огромные пакеты он утаскивает сам, приносит ненайденную мной стремянку, с которой снимать остатки штор удобней, чем со стула на носочках.
Дим помогает.
Без слов.
Вот только тишина, обычно раздражающая и тягостная, с ним не напрягает и работать у нас выходит… слаженно. Привычно, и пани Гавелкова, что приносит на обед ещё четыре пакета кастрюль и кастрюлек, лишь качает непонятно головой.
Не вмешивается.
И в четвёртый раз она появляется лишь тогда, когда я домываю полы, а Дим, опустившись на ступени террасы, курит. Она приходит вместе с беспутным племянником, что выглядит отвратительно бодрым, жмёт, гремя кучей браслетов, руку Диму и радостно оглашает, что ужин у него сегодня за завтрак.
– Я, друзья мои, счастливо проспал весь день, но теперь жутко голоден. Съем целого вепря и мне будет мало, клянусь, – Йиржи уверяет мечтательно.
Хлопает себя по впалому животу.
И в сторону кухни под неодобрительное ворчание Айта он удаляется первым.
– У моего беспутного никаких манер, – пани Гавелкова тяжело вздыхает.
А Дим тихо хмыкает, провожает взглядом пани Магду, коя без перехода всплескивает руками, приговаривает, что на стол надо накрывать пока не остыла свиная рулька, и за племянником она следом устремляется.
– Манеры – это, иногда, семейное, – он стряхивает пепел.
Сминает папиросу.
И уйти в дом, заступая дорогу, я ему не даю:
– Дим, нам надо поговорить.
– Надо, – он соглашается после паузы.
Рассматривает.
Молчит, оступаясь на ступень вниз, и снова выходит глаза в глаза. И его глаза, карие, в сумраке вечера кажутся чёрными.
Бездонными.
Такими, что я теряюсь.
И первым слова находит Дим.
Впрочем, возможно, он в отличие от меня их никогда и не терял, поэтому и заговорить у него получается уверенно, отстраненно:
– Я разгромил твой дом, ты примчалась посреди ночи из-за меня, и мне следует извиниться за это всё. И за ущерб я заплачу.
– Не надо, – я говорю быстро.
Мотаю головой, когда ветер бросает в лицо прядь волос, опаляет вдруг холодом, пронизывает, и руками я себя обнимаю.
От ветра.
А не щедро-равнодушного предложения.
– Посуда, она… ерундовая, временная, на ремонт. От неё давно пора было избавиться.
Как и от рома.
И язык я прикусываю вовремя, не говорю, но Дим понимает сам, усмехается:
– Там ещё три ящика.
Да.
Достаточно, чтобы напиться до положения риз и свернуть себе шею или забыться хотя бы на пару часов в тяжёлом пьяном сне, что отдохнуть не даст, вымотает ещё больше, но все же это будет сон.
И смотря в его покрасневшие глаза, под которыми на контрасте давно залегли чёрные тени, я всё это понимаю, читаю без букв.
– Я договорилась с профессором Вайнрихом, – я сообщаю тихо, поскольку мир суживается до нас двоих, и громкие звуки в этом, нашем, мире неуместны. – Он готов тебя принять.
– Я ведь не просил.
Не просил.
Ещё в январе на обледенелом крыльце очередной больницы Дим сказал, что баста. Хватит и врачей, и клиник, и пустых надежд. С ветряными мельницами не сражаются, с юношескими мечтами расстаются, а с неизбежным смиряются и учатся жить дальше.
Точка.
И если я отказываюсь это понимать, то он может лишь меня поздравить, что я последний Дон Кихот на этой планете. И Попрыгунья Стрекоза, для которой всё легко и просто, для которой всё забава.
– Зачем, Север? – он спрашивает глухо.
Требовательно.
Отдаляется незримо.
И вынести ставший враз колючим и ледяным взгляд невозможно, и кулаки, чтобы не закрыть глаза и не отшатнуться, приходится сжать, впиться ногтями в ладони, вскинуть упрямо голову и его взгляд всё же выдержать.
– Затем, что это шанс. Пусть небольшой, мизерный, но это шанс. Бороться надо до конца. А ты сдаешься. Ты ведь никогда не сдавался, Дим!
– Никогда? – он ухмыляется.
Желчно.
Необъяснимо оскорбительно и унизительно.
– Откуда ты знаешь, Север, что я и когда? Что ты вообще знаешь, а?!
– То, что сдаваться нельзя. То, что профессор Вайнрих лучший нейрохирург в мире, – я говорю торопливо, и жар, который приливает к щекам, унижает даже больше, чем его интонация и взгляд. – То, что если бы я сказала заранее, то ты бы меня послал.
– Тебя я пошлю и сейчас, – он отзывается любезно, едко, яростно. – Дорогу найдешь сама. Вместе со своим лучшим в мире профессором. Я никуда не поеду.
Очередная точка.
И отодвигает меня Дим грубо, уходит стремительно, задевая плечом, но я всё равно говорю, кричу, сама того не понимая и забывая про все манеры, ему в спину:
– Ты сдаешься! Ты сдаешься и даже не хочешь попытаться!
– Сдаюсь? – он переспрашивает.
Тоже криком.
Останавливается, чтобы покачнуться, развернуться и ко мне вернуться. Не остановиться, вынуждая пятиться:
– Да, я сдаюсь, Север! А ты чего ждала, когда явилась сюда? Думала, осчастливишь? Профессор Вайнрих готов тебя принять! Какой шанс, какая возможность! А я тебя просил? Кто тебя вообще просил лезть, Север? Опять скучно стало? Нашла себе новое развлечение?
Дим орёт злобно.
Наступает.
И где-то там, в отдалении другого мира, мелькают обеспокоенные Йиржи и пани Гавелкова.
– Нашла! Я ведь стрекоза, да?!
– А нет? – он ухмыляется.
И мою руку, что взлетает для пощёчины сама, перехватывает.
– Второй раз не ударишь, Север, – Дим отчеканивает, заламывает руку, дёргает на себя так, что в него я врезаюсь, ударяюсь в каменную грудь, отчего воздух из легких выбивается и как дышать забывается.
Вот только всё равно больно.
Дышать.
Смотреть на него.
И правую руку, запястье которой он обхватил, тоже больно.
До разноцветных кругов перед глазами и хруста костей, что эфемерен, однако в ушах, оглушая, раздается. Только отпустить я не прошу, молчу, а он прожигает окончательно почерневшими глазами, хлещет словами:
– Я. Я, а не ты, раз за разом слушал сожаления и извинения. И мне, а не тебе, повторяли, что сделано всё возможное, что уж я как врач должен понимать реальное положение дел и то, что про мизерные шансы говорят тогда, когда безнадежно и без вариантов. Утешают.
Дим кривится.
Не продолжает.
И, наверно, это лишь секунда, которая всё же умещает в себе вечность и не меньше тысячи несказанных слов на двух языках, из которых я выбираю самые жгучие.
Не менее болезненные.
– Я тебя ненавижу.
Правда.
В эту нашу вечную секунду, что заканчивается, когда Дим отлетает, почти падая и сгибаясь пополам, от меня на несколько метров и слышится рассерженный голос Йиржи, я не лгу.
Не слышу, что орет Йиржи.
Я пячусь.
Не отвожу взгляда от Дима, что тоже смотрит, дышит тяжело, как после забега на длинную дистанцию или сразу марафона, молчит, пусть Йиржи и орет. Кажется, именно на него орет, указывает рукой на меня, выглядит непривычно злым.
Но удивиться этой злости не выходит.
Выходит только нащупать ключ от машины, сжать до боли, коя удержать себя в руках дает, и, сделав ещё два шага назад, я разворачиваюсь, срываюсь на бег до ворот, за которыми остался «Купер».
И шестьдесят километров до Праги.
Квартиры.
Кофе и Фанчи.
Шестьдесят километров я проеду, пусть запястье, правое, и пульсирует болью, что прокатывается до висков, набирает обороты, перерастая в гулкую дробь, и дробью этой поселяется в ушах. Дрожат предательски руки, и ключ, не вставляясь, издевательски стучит о панель.
– Да чтоб тебя!.. – я ругаюсь.
Когда дроби в ушах вторит стук в окно.
И водительскую дверь распахивают нагло и уверенно.
– Вылезай! – Йиржи приказывает.
– Пойди… – я выдыхаю сквозь зубы.
Оказываюсь на пассажирском сидение раньше, чем успеваю закончить фразу, и мои ноги Йиржи перекидывает деловито.
– …к чёрту.
– Лучше в Прагу, – он возражает.
Отбирает бесцеремонно всё ещё сжатый ключ, и «Купера», предателя, у него получается завести с полуоборота.
– Я понял, что надо прикупить шафрана, – Йиржи просвещает беззаботно, поправляет, подстраивая под себя, зеркала, – а настоящий шафран продается только в одной лавке и это на всю Прагу и Чехию. Безобразие. Лавку держит старый индус из Кашмира. Он угощает меня подлинным кашмирским чаем с шафраном и рассказывает про свою красавицу-внучку…
– Йиржи.
– Что? Не ревнуй. У красавицы-внучки есть красавец-жених. А я тебя угощу подлинным кашмирским чаем, – он обещает.
Излишне искренне.
Тормозит на светофоре, чтобы голову повернуть и невинность в почти бесцветных глазах продемонстрировать.
– Ты дурак, – я вздыхаю.
Сдаюсь.
И кеды скидываю, чтобы на сиденье забраться с ногами и виском к холодному стеклу прислониться, закрыть глаза, дабы сочувствие напополам с беспокойством за невинностью не увидеть.
– А то, – он соглашается.
Как-то легко.
И дышать от этой легкости становится не так больно.
16
Сочельник или же, как называют его в Чехии, Щедрый день (24 декабря)
17
Чешская рождественская месса, написанная Якубом Яном Рыбой, школьным учителем, в 1796 году. Музыкальный символ чешского рождества.