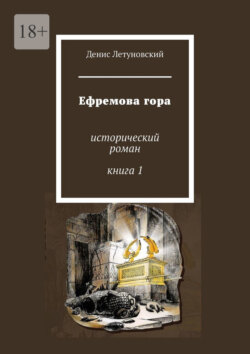Читать книгу Ефремова гора. Исторический роман. Книга 1 - - Страница 3
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРАЗДНИК
глава первая
Оглавление1
Седой первосвященник – судья израильский с высоким кидаром1 на голове и мальчик с надетым поверх одежды белым льняным эфодом2 сидели у входа в скинию.
– Дядюшка Илий, – произнес мальчик, – ты обещал рассказать мне о праведной Анне и счастливейшем из блаженных Елкане. Все говорят, что Елкана, отец мой, никого так никогда не любил, как любит он Господа и жену свою – Анну. И то, что Феннана, вторая его жена, нелюбимая, но плодоносная, как Лия – старшая жена Иакова, предка нашего, думала, что дети ее будут единственной ниточкой, тянущейся от дома Цуфа, Тоху, Илия, Иерохама и, наконец, Елканы, отца Самуила, который и просит тебя рассказать о праведной Анне и…
– О нет, – перебил Илий, – зачем я взял на воспитание этого ребенка!?
– Мать моя дала обет Господу: если родится мальчик – то есть я, то она отдаст его на все дни жизни его в дар Ему.
– Так что же ты просишь меня заново пересказывать, если ты и сам все знаешь?
– У меня… – покраснел Самуил, – …я уже все забыл…
– Неужели все? – улыбнулся Илий.
– Все, все! – охотно кивал мальчик.
Его коричневые глубокие глаза блестели от летнего солнца, палящего без тени даже маленького облачка. Илий вдруг вспомнил, как утром видел Офни3 с братом его Финеесом4, сыновей своих, берущих от жертвы Господу. «Что я могу сделать, если нечестие им слаще воздержания? Что я могу сделать, если я не могу ничего сделать?»
– Что же ты, дядюшка Илий? – спросил Самуил.
Илий будто очнулся от глубокого сна:
– Бог говорил со мной.
– Что же Он сказал? – не отставал ребенок.
– Он сказал: «Послушай Мое молчание и передай его сему отроку, и тогда посетит его мудрость Моя».
Самуил нахмурился:
– Я понял, – сказал он обиженно. – Ты хочешь, чтобы я немного помолчал, я надоедаю тебе своими глупыми детскими вопросами – прости меня, дядюшка Илий, я буду молчать, если на то воля твоя. Но если человек надоел другому человеку, то зачем говорить: «Бог говорил со мною»? Достаточно сказать: «Замолчи».
– Думай, как думаешь, – тихо ответил судья, – но только что Бог действительно говорил со мной.
У Самуила сделались невероятно большие глаза, и все его лицо как-то вытянулось:
– Но слово Господне весьма редко в наши дни, и видения Его не часты!
Илий не отвечал, и Самуил решил, что судья не услышал его:
– Вот, – сказал он с прежней резвостью, – ты снова задремал, дядюшка Илий, неужели тебе мало ночи для сна твоего? Ведь сны праведников коротки…
– Что мне знать о снах праведников, – вздохнул Илий, – когда сердце мое неспокойно за сыновей моих…
2
Первосвященник проводил большую часть своего свободного времени за беседами и нередко спорами с маленьким Самуилом. Когда-то давно он, на этом же самом месте, увидел молодую женщину. Она стояла в скинии, и без труда можно было заметить, как шепчут ее губы. Самого шепота слышно не было. Ее тело покачивалось. Ноги подкашивались, она чуть ли не падала. Создавалось впечатление, будто она голодна, или больна, или…
– Доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего и иди вон из храма! – вознегодовал Илий, взяв ее под локти.
– Прости, господин мой! – остановила его Анна. – Я – жена, скорбящая духом. Не пила я ни вина, ни сикеры. Это вино молитвы сделало из тела моего непослушную ослицу. Не думала я, как мне стоять или как кланяться, – в молитве пребывало сердце мое, и доныне пребывает, и будет пребывать, пока хоть кто-нибудь его не услышит!.. – платком закрыла она свое заплаканное лицо.
– И ты прости меня, старика! – обрадовался удивленный таким ответом Илий. – Иди с миром, Бог Израилев исполнит прошение твое и даст тебе все, что ты просила у Него.
Женщина ушла. Скиния обезлюдела. День заканчивался, и приближалось время вечерней жертвы.
Анна поспешила домой, ликуя и представляя, как обрадует она Илиевым (а значит, и Божьим!) благословением своего Елкану. «Что за ночь подарит нам Небо!» – восхищалась она красным закатом.
Рожденные из печной трубы тощие вороны, узкими прорезями глядящие на все, что творится там – под растопыренными пальцами. Сердце стервятника. Хищника. Камни летят в его проклятый веками след.
Вот он – путь, положенный передо мной, вот охраняющая меня рука, вот голос, говорящий из бездны самого гиблого одиночества. Каждый мой вдох наполнен общением. Пока не знаю с кем. Со всем видимым и тем, что до времени не замечаю. С живым и дремлющим: что окружает меня, что непрестанно радуется, без умолку рассказывает. Ах, я помню эти рассказы – с молоком луны и Анны оно щедро полнило поры, пробелы, незанятые пустоты моей чистой, благоухающей, авелевой души.
Я не нарушу ничье спокойствие. Мое тихое присутствие будет для вас благословением. Я буду с вами, пока Бог не благословит вас. В том будет моя вера, мое упование. Жив Господь, не оставляющий Своих детей, ненавидящих друг друга, непокорных, упрямых. Бедных.
Я приду, ты почувствуешь! Я постучусь к тебе изнутри. Я стану разговаривать с тобой твоим сердцем.
Когда-то было такое время, когда меня не было. Я появился тогда, когда начал себя помнить. А до этого – свитки, на тростнике которых лежит пыль. Я провожу по ней пальцем. Остается тонкая линия вечеров, коротавшихся за слушаньем маминых рассказов. Я помню ее молитвы, ее воздевания рук; скучные игры со сверстниками, скорое мое взросление, смену дня и ночи, череду этих нехитрых перемен. Впервые я распознал вечность, глядя на сменяющие друг друга события – неизменные в своей повторяемости. Я замечал, что след, оставленный мной на песке, засечка, сделанная на стволе дерева, обида, высказанная родителям, скоро затягивались, оставляя еле заметное углубление. Легкий нажим. Будто закат – несмелый надрез, шрам, внутри которого болит и светит впустую солнце.
Меня заперли. На этот раз моя комната была светлая, через купол которой можно было смотреть. Я смотрел… Все видел – белое с одним посреди глазом. Он долго спал, после чего вдруг просыпался, вспыхивал (я даже не успевал зажмуриваться), загорался весь, сиял и так уже и смотрел на меня, вздрагивая, моргая, подмигивая, однако зрачок не отводя в сторону. «Я бы так не смог», – думал я перед тем, как уснуть.
Снился глаз; потом их стало несколько; потом еще больше. Они смотрели на меня – по-доброму, по-незлому. Мне радостно было, что рядом есть кто-то. У каждого из них было по шесть позади крыльев, они произносили звуки, пели: «Свят, Свят, Свят…» – звучало как колыбельная. Помню каждое слово. Потом их не стало, и поэтому – думаю, что поэтому – их уже не было слышно. Ни потом, ни теперь…
* * *
– Сестра моя Феннана, где муж наш? Спешу я сообщить ему данное мне благословение Илия!.. «А значит, и Самого Бога!» – хотела добавить Анна, но не решилась.
– Что это за спешка такая, – нахмурилась Феннана, вытирая жирные руки о грязный, пропитанный кухней фартук, – разве ты не меньшая жена в доме Елкановом, чтобы так кричать? Знай свое место! Господь наградил меня за послушание и смирение детьми, что не устают выходить из чрева моего так, что скоро я потеряю им всякий счет. А ты, утроба которой закрыта, постель которой даже и после посещения мужа моего остается холодной и напрасной, вбегаешь с раскрасневшимся лицом и называешь меня сестрой своей, хотя и далека от родства моего… Что тебе надо, идолище бесчувственное? Или мало тебе Елканы, мужа моего, который приходит к тебе, когда я тяжела и не могу принять его?
Феннана напирала, словно загоняя в расставленные силки испуганную лань:
– Благословил ли тебя Илий на смерть твою? Если же нет, то что так радуешься? Или не большей тебе будет радостью сказать: «Вот, к предкам я ухожу, проведя всю свою неплодную жизнь в проклятии Божьем? Ах, зачем я была рождена? Ах, зачем родители мои не умертвили меня в первые дни мои?»
Анну обдало гнилое, зловонное дыхание. Пот и скрежет, нечесаные сальные волосы, выставленные шипы, когти, слизкая чешуя.
– Что же ты стоишь, никчемная, – причмокнула Феннана, – или выгнать тебя из дома Елканова, как гиену, которая не знает ни приюта своего, ни угла своего, ни родных своих, ни бога своего? Или разбить тебя, как пустой глиняный горшок без дна, в который лить можно день и ночь – все одно, все в песок. И за что только мой муж любит тебя, а меня нет? Ведь он жив в потомках своих благодаря мне!
Феннана с каким-то присвистыванием и вдруг вырвавшимся стоном тяжело и грузно зевнула:
– Шлюшка! С тобой он только развлекается! Ничего, пусть, недолго мне еще терпеть: изживу, сама уйдешь – псина из рода песьего. Ну!? – чего дрожишь?
Анна, задавленная, униженная, прижалась к стене, но, не пропуская огромный ком в свое маленькое горло, чуть всхлипывая, проговорила: «У меня будет сын», – и выбежала во двор, не подумав о том, услышала ее Феннана или нет.
Конечно же, Феннана ее услышала! Но не только услышала. Феннана почувствовала, что то, что сказала ей Анна, – это хотя и тихая, с трудом высказанная, сдавленная, почти немая, но – правда!
Выбежав во двор, Анна еле различала окружающее ее. Вот дом, вот место, с которого открывается прекрасный вид – с одной из самых больших высот Ефремовой горы; вот дети Феннаны – обступили ее (любимую, но несчастную жену), держа ее за руки, подводя к колодцу.
Поднялся хамсин5. Продыху от него нет! В каждой щели песок. Такой мелкий – пыль. «Из праха вышел, в прах и вернешься». Родные мои, кто вы? Почему вспомнили обо мне именно теперь? Сколько же вас! Кру́житесь над головой, ложитесь под ноги. Иду не видя, не замечая. Все вы тут: от самого первого крика человеческого. Как бы мне хотелось услышать этот крик! Нет ничего более желанного – продолжить вас. Знаю, рождаются мертвые: пройдет жизнь, высыпется песок весь без остатка, и нет нас. Где мы? Куда мы? – к вам! Стелиться под подошвы вновь пришедших, которые, как и мы, будут жить.
Взметайте, пойте пронзительным свистом! Пусть говорят, что, мол, снова Яхве послал непогоду – «по грехам, – говорить будут, – нашим». Но знайте, есть те, кто видит вас, кто чувствует ваше присутствие. Как нераздельная череда – шествуем спина в спину, держась за руки. И никто не посмеет прервать эту животворящую цепь. Из праха восстанут новые, ступающие по нашим следам.
Как жду я того момента, когда смогу заглянуть в глаза моему сыну! Как жду я того часа, когда скажу Елкане: «Вот, муж мой, это твой сын». «Са-му-ил…» – что-то сказало вокруг, что-то произнесло. Кто-то? Этот голос! Я где-то уже слышала его – такой знакомый, такой близкий. Даже голос матери можно забыть – не вспомнить, но этот! «Са-му-ил…» Снова раздалось одновременно далеко и настолько рядом, что будто изнутри – из того нутра, откуда только и может доноситься такой голос. Я не знаю ничего о потаенной стороне моей луны. «Анна, луна моя!» – говорит Елкана. «Но, – заплетаюсь я, от трепета не могу выговорить, – луна далеко, а Анна твоя здесь, в твоих руках…» «Анна, – будто в каком-то забытьи повторяет он, – жена моя, – не перестают шуметь финиковые пальмы, ручей тонкого Иордана льется, забирая дыхание, кружа голову, перетекая в конечности и наконец выплескиваясь наружу – внутрь, до самой моей глубины – там, где рождается нежность, успокоение, продолжение. – Анна, – слышу в его голосе, – луна моя! Анна…»
– Анна, Анна, лучше ли тебе, Анна, очнись же, Анна, жена моя! Елкана стоит рядом с тобой, Елкана, муж твой. Вот так, вот, приподними голову. Я помогу.
– Что со мной?
– Не разговаривай, тебе стало плохо, и ты упала в обморок. Как же ты напугала меня, Анна, любимая моя жена…
– Я хотела сказать тебе…
– Молчи, молчи, потом скажешь. Конечно, скажешь, только молчи, теперь молчи – потом…
Елкана смотрел на бледные, почти белые губы своей жены и шептал: «Сохранил Ты мне ее, Господи, сохрани и веру мою: я стар, она неплодна, но есть ли что невозможное для Тебя?..».
Весь день Елкана был не в себе. Переходил из комнаты в комнату, ворчал на рабов, не ел и не пил, а на Феннану раз так посмотрел, что та скрылась у себя в кухне и долгое время не показывалась.
«Время. Оно старит нас, делая немощными. Оно пролетает мимо, и свист его крыльев оглушает. Куда скрыться от него, куда спрятаться? Но не в побеге – в Боге свобода! Он не оставит нас, в немощи своей уповающих на Него. Однажды Он явит Себя, откроется носящим имя Его на руке и повязывающим его на лоб. Господь мой и Бог мой…» – Елкана смотрел на весенние плоды молодого тишрея6, молчал: за всю его тревожную и несладкую жизнь вокруг его глаз накопилось столько морщин, а на голове его было столько седых волос, что ему, как никому другому, было о чем молчать.
«Финики цветут. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой, что Ты даешь нам воду и добрый урожай. Сделай же милость, пошли благодать и жене моей, Анне, которую Ты дал мне, чтобы она расцвела, как только могут расцветать финиковые сады! Мальчика, Господи, отдам Тебе во служение, а девочку воспитывать буду в законе Твоем. И не будет Тебе по всей земле во все дни ее больше благодарности, чем от духа Елканова. Вот я, Господи, и вот жена моя пред лицом Твоим».
В свое время по молитве Иисуса, сына Навина, солнце остановилось. Теперь оно восполнило самое себя, стремительно догнав недостающее время. Прошло, как и не было. И не вернешь. Сиван7 освежил жаждущую землю поздними дождями.
Впереди томительная, съедающая все на своем пути засуха, бесконечная, а после – долгий сезон дождей. Но что это по сравнению с мимолетной жизнью, за которой скрыты бездны бездн, как облака, за которыми не видно Бога.
– Пой, Анна, пой, жена моя, у тебя родился сын!
Елкана вышел из шатра. Ему хотелось со всем миром поделиться вестью, чудом. «Вот оно – начало нового! Теперь готов я душу Тебе отдать – с благодарностью, с упокоением. Мой сын – назорей – станет вместо меня прославлять имя Твое».
– Э-э-эй, соседи! Исаак, Лия – возрадуйтесь вместе со мной, воздайте славу Тому, Кто силен оживить, восставить из мертвых, Кто вдохнул душу живую в бесплодное чрево. Радуйтесь, люди! Есть теперь заступник у рода Елканова: Самуил от первых дней своих посвящен Господу…
Елкана, как мог, бежал по улочкам и переулкам Рамы, стучал в двери знакомых и незнакомых ему домов, обнимал прохожих.
– Услышьте и передайте всем, кого встретите, – жив Господь! Жив Господь, не оставляющий в скорби молящихся Ему и уповающих на милость Его! Полуденные тени —
Качают ветку абрикоса,
В ладье просторной колыбели
Качает Самуила Анна.
Прохожие оглядывались: кто улыбался вслед пританцовывавшему старику, кто с равнодушием, а от некоторых и вообще доносилось: «Совсем с ума посходили! Бог забыл о нас: вот уже сколько поколений мы не слышим и не видим Его. Какой толк в нашей избранности, когда наши дети умирают от голода? А тех, кто не умер в детстве, убивают на полях сражений. Люди не доживают до почтенных лет. Ты, Елкана… посмотри на себя – ну куда тебе сына?».
Многие начинали смеяться, и волны смеха переходили из улицы в улицу.
– Анна, жена твоя, сына-то нагуляла, видать, а теперь говорит, будто от тебя. Камнями побить их – обоих!
– Нет, нет, посмотрите на мускулы нашего уважаемого Елканы, – люди давились от сотрясавшего их хохота, – он же силен как лев, высокороден как ливанский кедр…
– И мудр, как дикий осел! – хватались за животы те, кто, будто городской пожар, переняли разошедшуюся по городу новость.
– Сильнее рога́ поддерживай – отвалятся!..
– Ничего, еще пято́к карапузов выдержат!..
– Передай женушке, чтобы она хорошо за тобой ухаживала, потому что после того, как плитой накроешься, ей прикрываться будет уже нечем!..
Все более замедляя шаг, Елкана остановился. Сел прямо на дорогу, прислонился к торговой лавке, отдышался, перестал прислушиваться к настигавшим слух обидным, пустым выкрикам. Седые длинные волосы касались плеч. Когда-то они были чернее щетки Урии-трубочиста. Теперь их цвет напоминал хранящуюся в ковчеге манну, кости давно умершего человека.
– Как голос матери скоро услышу я зов шеола. К чему эти сплетни? Разве я заслужил нечестие и позор? Разве Анна не любимая моя жена и разве я сам не знаю, что Бог даровал нам сына? Пусть болтают. Когда увидят святость Самуила, тогда, может, растают и их железные комья, которые они по привычке еще называют своими сердцами.
Елкана обхватил голову руками: на пальцах виднелись толстые от напряжения синие прожилки – пересекаясь, волнами налегая одна на одну, они обрывались на запястьях, откуда начинались длинные рукава потертого, заношенного хитона.
– Бедные, бедные люди!.. – вслух молился старик.
Но вскоре большинство жителей Рамы признало в детях Анны благословение Божье. Начали вспоминать о закрытом лоне праматерей Сарры и Ревекки. Говорили об особом провидении, которое приготовил Всевышний терпящим и любящим Его и друг друга. Уже не упоминали мелких сплетен, которые поначалу составляли главную тему разговоров на рынке и у городских ворот.
Не случайно было сказано о «детях» Анны, ибо, кроме Самуила, в скором времени у нее родились еще три сына и две дочери.
Стоит еще упомянуть, что главным распространителем гнусных слухов была… Феннана. Теперь она просто сгорала от бессилия что-либо предпринять, от желчи, от душившей ее зависти. Ее местом в доме стала кухня. Всю злость свою она вымещала на рабах и на своих детях. Пробовала пересаливать или недожаривать пищу, но все было напрасно: ее просто перестали замечать – и в первую очередь Елкана. Имя Феннаны вообще не произносилось. Ее шаги постепенно превратились в нахохленное шорканье, ее голос – в тяжелое, с одышкой, хрипение. Волосы ее начали заметно выпадать. Она не в меру осунулась, сгорбилась, иерихонским дубовым листом медленно усыхая.
* * *
Вздрагивающий свет – полумрак – мерцающей лампы то открывал, то вновь прятал заплаканное, встревоженное лицо Анны:
– …Пережить еще один день, ночь – до следующей субботы, до новолуния. Осталось всего несколько мгновений! А потом – нас разделят навсегда… Кувшин, чтобы разделить, надо сломать. Два расколотых черепка зачерпнут ли когда воду или станут пригодными лишь для месива новой бесформенной массы? Глина! Ну и пусть она никогда не возрадуется, зато ничто ей не причинит боли. Зачем Ты вдохнул в эту глину живую душу! Зачем не остались мы пустыми жбанами, зачем Ты не идол, а Бог живой!? Идол создал бы нас истуканами… Всевышний! – вино молитвы наполнило сердце Анны. – Все люди Твои. Нужно ли отдавать то, что и так принадлежит Тебе? Это мой первенец, данный мне милостью Твоей по молитве Илия, позволь же еще немного побыть с моим Самуилом10! Обет принесен, да… но сердце матери во мне говорит иное, противное данным обещаниям. Смилуйся надо мной, это невыносимо! Я страдала, когда чрево мое было закрыто от Твоего благословения, но теперь мои страдания умножились: мне нужно расстаться с даром Твоим. Какие другие утешения заменят эту утрату? Что осталось мне – мечтать о каждой будущей встрече? Мучаться от мысли, а не было ли предыдущее свидание последним? Я – мать, и сейчас я нужна ему больше, чем престарелый священник! Оставь его мне, хотя бы до времени, когда он сам способен будет выбирать. Молю Тебя…
Анна была одна в небольшой комнате. Как и тогда, в скинии, говорили не уста ее, но вопияло сердце. Доносились слова упреков, прошений, надежды… От остальной хижины ее отделяли низкие, не достающие до потолков, из высушенных на солнце глиняных кирпичей стены. Анна слышала из соседней комнаты голос маленького Самуила. Все больше отвлекалась она от молитвы, все больше прислушивалась к молочному лепету малыша. По нескольку раз выпрашивала она одно и то же; думала лишь о том, как успокоить дитя, чем занять его, не голоден ли он, не холодно или не жарко ли ему. Она вышла. Перед ней стоял мальчик лет четырех. Своими карими глазами он был обязан матери, а отцовские черты угадывались с трудом.
Анна поцеловала мальчика в лоб и стала складывать вещи.
– Мама, куда ты меня собираешь? Ты же прекрасно знаешь, что я такое не буду носить! – Самуил показал на сшитый Анной белый эфод.
– Ты слишком разговорчив для твоих четырех лет, а вот маму ты уже научился обижать.
– Прости меня, пожалуйста, но мы жили, жили, и вот ты меня куда-то собираешь и шьешь для меня очень красивую одежду, которую я жду, не дождусь, когда буду носить.
– Подлиза.
– А ты мне ничего не рассказываешь!
– Удивляюсь, как это столько слов поместилось в твою маленькую головку.
– Да, я еще маленький, но у меня такие умные родители… – Анна что-то хотела сказать, но Самуил перебил ее на полуслове. – И совсем я не подлиза, просто я тебя очень сильно люблю, только мне все равно непонятно – зачем ты собираешь…
– Моей нетерпеливой крошке хочется знать все заранее, – сказала Анна, будто пропела колыбельную. – Смотри, сынок, не торопи события, они сами настигнут тебя…
Облака плыли со стороны Силома. При слове «дождь» любое сердце способно смягчиться, тем более материнское – и без осадков теплое, мягкое.
– Хорошо… – сказала Анна.
– Я тебя внимательно слушаю! – приготовился Самуил.
– С тобой невозможно разговаривать. Все дети как дети – плачут, учатся говорить и едва ходят…
– Ты так хочешь, чтобы я был как все?
– Нет, сынок, нет, просто мне кажется, что я разговариваю со взрослым человеком, понимаешь?.. – Самуил (улыбнувшись про себя) утвердительно закивал. – Это очень давняя история… Когда тебя еще совсем не было, я обещала нашему Господу…
– Я знаю, мама, ты обещала Ему меня. И вот я подрос и совсем уже не буду скучать по своим родителям, и ты собираешь меня в скинию. Скоро вы поведете меня в Силом, чтобы оставить там у священника Илия, – я знаю… Прости, мама, я проговорился.
Анна смеялась. Она не могла себя остановить:
– Негодный мальчишка, ты и сам все знал!
Самуил сидел, укоряя себя за свою болтливость.
Уже к вечеру не было ни одного жителя Рамы, кто бы не слышал о том, что произошло в доме Елканы. Отцы восхищались умом и такой болтливостью ребенка, матери смеялись, потому что смеялись по любому поводу, даже если это было совсем и не смешно, а дети – сверстники Самуила – ничего не понимали: праздно кричали и плакали.
Наконец наступил День. День, которого ждали все, и День, которого Анна начинала бояться:
– Я не отдам его! Ради чего? Да, у меня родился сын, но зачем, кому нужны такие жертвы? Его никто не спросит, только я буду в ответе.
Она вспоминала Ревекку, взявшую на себя возможное проклятие Иакова.
– …Мать отдала своего сына…
При этом она качала головой, как бы говоря: «Нет, нет…» – и тихо, неслышно даже для самой себя, начинала петь:
Сомкну ли глаза,
Увижу ли Свет вечерний?
Ни память, ни в поле роса…
Анна покрывала голову шерстяным платком:
– «Ни память, ни в поле роса…» Благословен Ты, Господи Боже наш, Владыка вселенной…
Елкана держал на привязи трех белых тельцов. Подле него стоял небольшой кувшин с ефой11 пшеничной муки и целый мех молодого вина. Анна замерла позади мужа. Самуил прятался за спиной матери. Семейство пришло совершить ежегодную жертву и исполнить данные обеты.
Илию вдруг показалось, что, помимо него и сыновей, во дворе скинии был еще кто-то:
– Показалось… – прошептал он. – Утро создано для того, чтобы священник мог, ступая по Гедеоновой росе, слушать Небо. И даже если он ничего не услышит – молиться за души, что ночью улетали в обители ангельские, а утром возвращались – пройдя пустыни и взяв Иерихон – назад в свой сонный, мешковатый и всегда не выспавшийся Египет12. Кому вздумается (он хотел сказать: «Кому хватит благочестия») в наше-то время прийти к утренней жертве?
Илий обернулся.
– Неужели в Израиле остались благочестивые люди, которые пришли к жертвеннику вознести такую… – он оглядел тельцов, глиняный кувшин и мех из добротной, новой овечьей шерсти, – такую богатую жертву?
– О, господин мой, – Анна подошла к старцу, – да живет душа твоя, господин мой! Я – та самая женщина, которая здесь – при тебе – стояла, молясь Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него! Вот муж мой, и вот я, и вот сын наш Самуил. Он уже в том возрасте, чтобы я смогла исполнить обещание свое, данное Господу: я отдаю его, – она показала на мальчика, – в скинию на служение Богу. Пусть будет он праведным назореем от начала дней его и до конца. Пусть он не стрижет волос своих, не пьет вина и сикеры. Всем сердцем пусть служит Богу отцов наших, всей силой своей, всей крепостью. На все дни жизни отдаю сына моего. На все… дни… жизни… сына моего… – Анна подавила в себе подступивший ком, – отдаю…
Самуил стоял и думал: «О чем она чуть не плачет? Разве обо мне? Разве я причинил ей столько горя?».
Анна укоряла себя: «Надо было спрятать его! Как Моисея, в корзинке пустить по воде. Я виновата в затворе моего сына. Я добровольно отдаю, оставляю мое Благословение… Дай же мне скорее замуровать тебя. Здесь, в этих стенах. У самого жертвенника заковать в кандалы обетов и послушаний. Сын мой, рожденный мною, у тебя больше нет матери, отныне только Отец, Бог Авраама, Исаака и Иакова, будет заботиться о тебе, петь тебе грустные колыбельные». Анна говорила, но ее тут же перебивал другой изнутри голос:
«Как могла я не исполнить обет? Ради себя? Ведь не о Самуиле плачет сердце матери, ведь даже не сердце плачет, но жалость: неплодное чрево вместило душу живую!.. Господь усмотрел, и Ему спрашивать. О чудо! – материнство, причина всех причин, красная нить поколений… Анна, Анна – не лук ли сильных преломляется, а немощные препоясываются силой? Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, делает нищим и обогащает, унижает и возвышает».
– Мир и благоволение дому твоему, – Илий поклонился Елкане, Анне, – подойди ближе, Самуил.
Священник чуть присел, протянул руки. Самуил подошел.
– Не бойся, ты ко всему привыкнешь. Можешь называть меня «дядюшка Илий».
Он гладил мальчика по голове. Как же ему – священнику Бога живого – недоставало детского голоса, тепла! Человека, присутствие которого скрасило бы его одинокое служение и заставило забыть или исправить (на это еще оставалась надежда) примером своим и примером этого чистого существа беззаконие сыновей.
Вскоре родители Самуила, уже навсегда оставив его, пустились в обратный путь.
Дорога усыпляет. Маслины справа, финики позади. И через два дня поворотов и перевалов маслины справа… Заезженная мелодия, знакомая с самых первых походов в святой Силом. В Раме – дом, где ничего не осталось. Куда возвращаться? Дом – не в городе, не на углу улицы, не в пустых комнатах, гулких коридорах и мертвых камнях. «Одно за другим: с ветреной легкостью забываю вчерашний день. Ничто не тяготит меня, не заботит. Родить и снова родить других, похожих на него. Оставить память в народе. В крови ли память? Самуил моя кровь, но жизнь – дух! – вдохнула в него не я! Чей он сын? Елкана заботится об оставленных в доме рабах, о скоте, пастбищах. „Бог благословил, – думает он, – мою семью. Анна станет плодовитой не меньше Феннаны. Совсем скоро в счастье она забудет скорбь“. Иногда я ненавижу его, иногда он мне безразличен. Я называю его „мой господин, мой муж“. Что стои́т за произносимыми словами – другие ли слова или сопутствующее им в конце молчание? Достаточно немного, совсем малость молчания, чтобы высказать много больше, чем за целые годы болтовни, сложенной в пустое».
* * *
Силом одной стороной своих стен утопал в безмолвии Иудейской пустыни, а другой насыщался неимоверной для центральных земель Израиля голубизной, чистотой, прохладой и близкими оазисами струящегося неподалеку полноводного – после весенних дождей – Иордана. Отсюда виден был древний Иерихон с его скалистыми окрестностями и зелеными равнинами. Именно здесь была установлена скиния, принесенная вместе с ковчегом завета из Синайской пустыни.
Прямоугольный шатер, покрытый красной кожей. Древесина акации. Золотые застежки, крючки, серебряные петли, нити, драгоценные камни…
Входивший в скинию видел две неравные части, разделенные занавесью из пурпурных покрывал, чашу для омовений, лежащую на спинах семи золотых тельцов, семиствольный, горящий золотом, огромный светильник и алтарь из двенадцати необтесанных камней для возношения жертв и благовонных курений. В глубине другого отгороженного пространства, гораздо меньше первого, – во Святом-святых – покоилась величайшая святыня Израиля, его защита, милость и наказание. Один раз в год Илий входил туда и жертвенной кровью кропил со всех сторон крышку обшитого золотом ковчега.
– Да будет благословенно, да возвеличится и прославится внушающее трепет великое имя Всевышнего! – Бормотал судья в свою сбившуюся бороду, глядя поверх жертвенника. Позади него стояли его сыновья, громко зевая, переминаясь, прыская со смеху. «Уж лучше оставаться одному, чем с такими помощниками…» – сокрушался первосвященник, вслух робко произнося: «Да освятится и да прославится великое имя Твое в мире, созданном по слову Твоему…».
– Да наступит Царство Его, – говорил он, – как можно скорее, да будет оно еще при жизни нашей явлено всему народу Израиля…
Верил ли он в то, что говорили его уста? Думал ли он, о чем он просил?!.
Финеес заметил, что край отцовского эфода надорвался, и если всмотреться, то можно увидеть сухие, слабые ноги старика. Внезапный смех парализовал полусонного Илия.
– Смотри, старший брат мой Офни, неужели покров священника Господнего прохудился настолько, что виден весь его стыд? – гоготал противным (как это бывает у всех подростков) баском Финеес.
– Да, – поддержал его Офни, – отец наш приходит к своему жертвеннику как к девке. Я слышал, что богиня Астарта любит обнаженные тела.
– И вправду, отец, – перебил Финеес, – может, твоему Богу понравились оргии Молоха или Ваала?
– Но, брат мой, здесь, кроме нас троих, никого нет. Значит, брат, мы это будем делать втроем? А если Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу богов, Который вывел нас из Египта… – Офни надрывался от смеха, – …если Ему понравится, то Он сойдет во всей Своей славе и тоже будет среди нас.
– То-то мы повеселимся, а когда Ему надоест с людьми, то мы, отец, мигом принесем Ему золотых терафимов13. Ведь написано, отец: «Да не будешь ты в унынии». Ну, что ты стоишь? Ты только скажи, мы все сделаем.
– А тебя мы поставим верховным жрецом. Верховным жрецом! – ликовал Офни.
– Верховным жрецом!!! – неистовствовал Финеес.
– Честь и хвала тебе, верховный жрец, открывший наготу своих чресел!
– Честь и хвала тебе!..
– Честь и хвала!..
Илий, воздев руки, громко, насколько позволяла ему боль, прорыдал:
– Да не будет руки Твоей на них, да не будет неразумие их на доме Илия, да будет грех их на мне. Да не распахнет им свои двери шеол!
За несколько мгновений хулы (братья уже не смеялись: Хам стоял в стороне, оправдывая себя) Илий поседел на много десятилетий. Вконец состарился. Так что братья могли сказать: «Отец постарел на наших глазах». Его и без того немощное тело иссохло. Глухо, словно сдавили грудь, священник хрипел: «Пусть не будет их суета на имени Твоем, ибо восприняли суету и осуетились».
Кашель заглушил слова. Старик, держась за рога жертвенника, закатывал глаза. «Да озарит истина Твоя сердце их…» – он захлебнулся, упал на колени и, ударяя себя в грудь, чуть слышно плакал: «Рабство, рабство…».
Глиняные, с соломенными прослойками, хижины. Наполовину разрушенные, развеянные гуляющими ветрами, оставленные так – построенные наполовину. Даже осевший кочевник во втором, в третьем поколении набросит на спины верблюдов нехитрую, на скорую руку собранную поклажу. Дети с женами позади. Вечные переселения, печать Моисеева!
Скудные тени оливковых веток – тонкий ствол, что шеи, пальцы, запястья твоих дочерей, Израиль. Причал. Кто не искал его – такое заманчивое безмолвие? Успокоение, мир. В заплатах одежда путника, на далекий оазис надежда его. В черных глазах – даль, расплавленные миражи. Скажи, зачем мы здесь? Зачем окружает нас все это?
Раскачиваясь между горбами пустынного корабля, так просто мечтать. Одно, потом другое. И связи прямой не видно. Дюны, сыпучие дремы, блуждания по перешейкам, оврагам, ущельям.
Невольно киваешь в такт размеренному, мудрому верблюжьему шагу. Следы утопают, оставаясь нетронутыми. Здесь ходили наши праотцы – и копыта их верных животных еще видны. Больше, чем наскальные надписи.
Мы слишком долго были гонимы, мы слишком много носили в руках оружие. Рождались, держась за рукоятку ножа, а не за юбку матери. В сраженьях мы забыли, что значит вспаханная, хлебом засеянная земля.
Однажды отцы наши захотели остаться, чтобы мечи их навсегда заржавели в ножнах. Но враги их, рассеянные по холмам и долинам, только и ждали того дня. Они покорили их – не копьями, но тучными пастбищами, пахотами, садами и тенистыми виноградниками – миром.
Крошечными, богатеющими островками мы разбрелись и стали поклоняться другим богам, вздыхая о тех временах, когда предки наши ходили в земле сей уставшими, выпачканными в многолетней дорожной пыли, блуждающими скотоводами.
3
– Дядюшка Илий, – сказал, сидя у ног священника, Самуил, – я еще ребенок, а ты или молчишь, или говоришь со мной длинными словами.
– Разве я говорю с тобой длинными словами? – удивился Илий.
– Да, такими длинными, что я только-только запомню, с чего они начинаются, как ты уже рассказываешь середину. Пока я начинаю вдумываться, о чем говорится в середине, то уже с трудом помню начало – а тогда приходится дослушивать конец, где мне, конечно, уже ничего непонятно.
– По-моему, это ты начинаешь говорить длинными словами, – ответил Илий и, смеясь, добавил: – Ты меня совсем запутал!
Самуил вдруг серьезно спросил:
– Дядюшка Илий, а что такое длинные слова?
Судья осекся, не ожидая столь быстрой развязки.
– Длинные слова?.. Откуда мне знать? Я это должен спросить у тебя, ведь ты их выдумал.
– А как это – выдумал?
– Просто выдумал. Такого еще никогда не было, а ты взял и выдумал.
– А разве может человек что-то выдумать, чего еще совсем никогда на было?
– Почему нет? Ведь это так естественно, так подходит к нашему стремлению постоянно узнавать новое, никем не замеченное, не понятое. А узнав, тяготиться тем, что все равно не увидели желаемого. Так не проще ли оставаться там, где все просто? Нет, человеку всегда виделось большее. Дерзость? – Но если Бог заповедал нам быть такими, как Он, то не большая ли дерзость ослушаться?
– Когда я вырасту, – сказал Самуил, – я тоже буду носить бороду и походить на тебя.
– Почему… – Илий подумал, что ослышался, – на меня? Ведь у тебя есть родители…
Самуил потупил глаза. Он хотел сказать, что он не такой, как другие дети, у которых есть семьи. «Я посвящен Богу», – чуть не сказал он, но застеснялся и промолчал.
По внутреннему двору скинии прошел Офни, ведя под руки двух совсем еще девочек-хеттеянок.
– Это выше моих сил, – выдохнул Илий, опустив голову. – Они не слушают меня, своего отца. Как они послушают Господа? Сыновья священника Единого Бога разгуливают по скинии с иноплеменницами, развращая их и без того ветреные тела, уничтожая свои сердца и ни во что не ставя Левиино благословение. Ты видишь, мой мальчик, мне не на кого надеяться в будущем. Проклят дом Илия!
Он поднял к безоблачному, безупречно синему небу глаза, наполненные жалкой старческой влагой.
– Мне уйти? Ты хочешь поговорить с Богом?
– Нет, останься… Если плоть моя и кровь бесследно исчезнут, как исчезает все недостойное продолжения, то ты… – теперь голос доносился словно отовсюду, и у Самуила перехватило дыхание, по телу пробежала дрожь, на мгновение сковав его, – будешь наследником Моим! Дух от Духа, ты будешь помазанником, судьей Израиля – народа Моего, который Я вывел из Египта…
У Илия закатились глаза, он, отяжелевший и обессиленный, упал на каменный пол. Пытаясь приподняться на локтях, кряхтя и постанывая, он хотел что-то произнести, но только ужас был в его широко раскрытых глазах, как будто он в одно мгновение стал свидетелем всемирного потопа, гибели Содома, раскрытых дверей шеола, синего те́льца мертворожденного. Он хрипел, тщетно пытаясь передать словами ту бездну, в которую только что заглянул. Было очевидно, что не первосвященник, не престарелый Илий, не видение, не призрак – с Самуилом говорил Он…
4
Весь день прошел за работой. Ни минуты покоя. Босые, грязные, голодные, уставшие возвращались с пастбищ… Издалека никак нельзя было сказать точно: звери там идут или люди, и если звери, то какие, а если люди, то женщины это или мужчины, старики или дети. Бесформенная масса шерсти и пыли поднималась из-за холма, влача за собой внушающий оцепенение безжалостный дух пустыни. Словно разворошенный пчелиный рой, эта масса гудела, жужжала, похрапывала, насвистывала, гоготала, мычала и блеяла. Казалось, сам Ваал-Зевул возвращался в свое логово – шел, сметая все на своем пропащем, бесславном пути. Знал, куда идет и какой конец его ждет, а посему еще более бесновался, транжирил, расходовал себя – без остатка. Было в этой надрывности и сожаление, и безысходность смертельно больного, который сжигает дом, напропалую режет свой скот – ведь завтра для него все равно не наступит. На чудо он давно перестал надеяться, вот и крутит его, на мелкие косточки перемалывает.
Солнце, захваченное ежедневным коловращением, катилось к закату. На весь этот хаос, зловонную жижу падали красные, разных оттенков – от светлых до кроваво-бордовых, лучи.
Феннана стояла у дверей хижины, ожидая возвращения своих детей.
Она уже различала их голоса, видела их замасленные гиматии. Если раньше она говорила им что-то теплое, приветливое, то теперь лишь злобой полны были уста ее, сердце, ум. И дело даже не в этих ни в чем не повинных детях, но в ней самой. Несчастье нелюбимой жены душило ее, а благословение Анны не давало никакой надежды. Земля рушилась под ногами, небо оставалось недосягаемым, дни – долгими и напрасными, а Бог – призрачным.
Дети, заметив недобрые намерения матери, обходили ее, не смея приблизиться ближе, чем на средний бросок из пращи. Говоря «мир дому твоему», они думали о скудном ужине, о ночевке среди пригнанных коз.
– И на порог не пустит! – жаловался один.
– Это точно… – соглашался другой, уходя под спасительную тень семилетнего фисташкового дерева.
– Эй, вы! Что, даже в дом не зайдете?!
Дети переглянулись, но никто не решился сделать первый шаг. Феннана поморщилась от давно уже не греющего солнца, сплюнула, пробурчала: «Ну, как знаете», – и вошла назад в кухню.
Дети еще раз переглянулись и разбрелись кто куда. В наступающих сумерках они были мало заметны даже друг другу. Каждый примостился там, где нашел место. Уставшие от долгих странствий, в потных, порванных, но благо шерстяных гиматиях, без ужина, пусть и самого скудного, уснули под чернеющим небосводом.
Вот они, ночи благословенной земли предков! Журчание источников, блуждание планет. Не пересохнет жизнь в селениях твоих, Израиль, но и не будет тебе приюта, покоя здесь, на твоей земле – земле чужой, Господней. Как звонко поют убаюканные ветром травы, как стелется дымкой туман, как снится блуждание душ, не принятых в доме своем, отвергнутых на чужбине! Так хочется, подняв голову, видеть созданное Тобой, дышать…
Кто под сводами проходит
Винограда? —
Закружить бы в хороводе
До упаду…
Эх, звенящие оркестры,
Флейты, хоры —
За спиною у невесты
Мандрагоры…
Листья падают под ноги —
В круговерти
То ли люди, то ли боги,
То ли черти!
– Гоморра!! Будто сглазил тебя кто, Феннана. Смотри, недобрые глаза повсюду! Только увидят что не так, сразу сглазят. Знаю я их уловки, все знаю! – она так скривила лицо, словно у нее болели зубы. – Им-то что, ходят себе из селения в селение, прикидываются голодными странниками. Говорят красиво, умно… – Феннана замолчала, отрывистыми движениями головы, словно курица, ища виновника внезапного шороха, который послышался ей за дверью, – а многие из них… – она, все еще вслушиваясь, продолжала, – говорить умеют с филистимским акцентом. Хе, где они только понабрались его? Одни картавят так, будто родом из Аскалона, хотя – клянусь предками! – там никогда не были. Другие… тоже мошенники! Заговорят, нарассказывают всякой всячины, что и забудешь и хозяйство, и мужа. А о чем они там рассказывали, вспомнишь разве? Вроде и смешно, и понятно, и толково все было, а как начнешь вспоминать, так и не вспомнишь. Ушло, кануло, смыло волной. И не оттого, что голова дырявая, а просто – дрянь они все, шарлатаны, каких Израиль не видел!
Широким, размашистым движением руки Феннана вытерла свой узенький лоб, с которого уже готовы были сорваться набухшие волдырями, размером с горошину, капли пота.
– Честным людям на улицу выйти нельзя – обкрадут-обворуют! Не вещью, так словом, а не словом, так… да мало ли чем…
Она закашляла – дым от огня в жаровне перекочевал на ее сторону. По-о-олной грудью она набрала как можно больше воздуха и, став похожей на испуганную рыбу, задержала дыхание. Ей казалось, что в дыме живут злые демоны и если, не дай Бог, вдохнуть его, то они начнут делать тебе всякие пакости: опрокидывать посуду, задирать подол, дергать за волосы и даже… – целовать в губы!
Представления Феннаны об окружающем были довольно странными, смешанными со всякого рода предсказаниями, египетскими и хананейскими гороскопами, преданиями, суевериями соседей или своими собственными, взятыми порой из ниоткуда, – так якобы делали в древности или просто «так полагалось».
Она верила, что если обойти вокруг ребенка семь раз, а потом поставить его спиной к потухшему очагу, то с ним ничего не случится ни в дороге, ни дома, ни где-либо еще. Или если подбросить вверх кусочек глины так, чтобы он оказался на высоте только что пролетевшей птицы, то муж будет ласков и не отпустит до самого утра. Поэтому каждый день Феннана обходила своих детей по семь раз, ставила их спиной к погасшему очагу и только тогда могла чувствовать себя спокойной – не за детей и за их безопасность, а вообще… Это спокойствие было сродни навязчивому тику, задабриванию злых или добрых духов. И она никогда не смогла бы ответить, зачем ей все это нужно.
Но ладно бы сама, так она еще и на соседок сетовала, бурча в двойной, мясистый подбородок:
– Симха не то что не ставит на ночь мужнины сандалии в выщипанные ее же руками куриные перья – от мужской похоти и от пяти чертенят, – так она даже и не жует кусочки дубовой коры, чтобы потом ими смазывать косяки от дурных новостей и чужих жен! А Лия по воду ходит утром и вечером, хотя это самое время для жажды Астарты и Азазела.
Феннана называла их глупыми, чертыхалась, размахивала руками и тут же перебегала на другую сторону кухни, чтобы не быть задетой ее же размахиваниями и чертыханьями. Весь день она проводила у плиты, на огонь которой и взглянуть бы в жизни не взглянула. Тканями занавешивала слуховые окна, дымовую вытяжку, приговаривая: «Как же иначе – весь дым выйдет, а потом и на улицу не показывайся: все четверо тут как тут». Она верила, что демоны из дыма выходят по четверо: один – из дров, другой – из огня, третий – из дыма, а четвертый их сопровождает и натравливает на тех, кто их выпустил.
Каждое утро перед тем, как открыть глаза, ей обязательно надо было сказать себе свое имя, чтобы, когда она встанет, ее кто-нибудь не назвал по-другому. А когда наступал вечер, она вновь и вновь проделывала в точности обряд с кусочком глины: высматривала, поджидала из укрытия – чтобы не спугнуть – птиц, лепила из грязи комочек такой формы, которая, казалось ей, более всего подходила для данного случая, и с чувством выполненного долга возвращалась к себе… Иногда заходила к Елкане, но, увидев его холодное и какое-то удивленное – мол, зачем она вообще приходит – лицо, проклинала день своего рождения и смахивала налипших на кухонные двери мух, перед тем как со скрипом и с ужасным грохотом скрыться в стенах, натопленных докрасна. До утра.
Уже никто и не помнил, с какого момента Феннана начала обращать внимание на домовых, разгадывать по корням высохших деревьев сны (и не только свои, но и детей, и мужа, и, конечно, Анны), по слюне предсказывать погоду, разговаривать громко, резко, грубо, как вояка-мужлан.
Однако в тот вечер Феннана и не вспомнила о своих правилах. Как никогда она раздражалась, не вынося ни малейшего шума. Конечно, на то существовала особая причина: со дня на день должны были вернуться из Силома Елкана и Анна – благословленные и счастливые.
Клубы дыма поднимались с жаровни, задевали и без того замасленный фартук хозяйки, исчезая в зарешеченных окнах.
– Вон, – продолжала она о «шарлатанах, каких Израиль не видел», – соседка поговорила с одним таким, так потом три года никого из родных признать не могла, ходила все да своими совиными глазами на всех глядела… Ой, не могу… Как вспомню глаза ее, так смех разбирает! – сморщилась она, будто ее разбирал смех.
Елкана не слышал голоса Бога так, как слышал его Авраам. На полпути из Силома в Раму он не ждал ответа на свои молитвы – ни раската грома, ни сошествия огня, ни голоса. Он и без того видел Его присутствие в еле различимой ленточке Иордана, в прохладе осенней ночи, в самом себе – видел, говоря: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Владыка вселенной, в мире Которого существует такое!».
Факелы, отблески, вспышки костров; говорение людей вперемежку с копошением, заунывным воловьим мычанием, ослиными криками. Вещи впитывали в себя запахи: дыма, вяленых мяса и рыбы, скрюченных сухих фиников, бананов, абрикосов, винограда… Запахи пота, мочи, мужского семени, детских опрелостей, бордовых пятен. Оставленные на некоторых седлах, последние указывали точно, какие женщины были чистыми, а какие неприкасаемыми. Караваны шли долго, без устали, месяцами… будто сотни грязных, запыленных чаек покачивались на волнах.
Елкана и Анна со всеми домочадцами и рабами, сопровождавшими их, пристроились к шедшим на запад – в сторону Газы. В глухой пустыне это зрелище напоминало длинные цепи. Груженые двугорбые спины с бурдюками, тюками, мешками и сундуками, наброшенными на них силком. Погонщики во время стоянок смешно шипели на верблюдов, чтобы те сели. Вконец онемевшими ногами путешественники сходили на землю. Слабейшие из них ложились прямо на песок, долго еще пребывая в прострации: разминали окаменевшее тело, испражнялись, блевали от непомерной качки. Морская болезнь была присуща не только морю. Разделенное надвое. Прошли посуху. Преследовавшие обратились в бегство. Не высказать радости, горя не передать.
Поверх скоро заносимых следов оставались пустые бурдюки из-под сикеры, пьяные объятия дорожных шлюх. В каждом таком караване имелось все, чтобы всячески угодить и развлечь путешествующих, а также – или прежде всего – вытрясти как можно больше звонких монет.
Кто куда: одни ехали в Аскалон за товаром, прочие гнались в Геф за удовольствиями, от нахлынувшей вдруг тоски срывались в Яффу, известную своими жаркими кварталами. Большинство пускалось в дорогу лишь затем, чтобы отвлечься – вдали от жен, от мужей. Не сумев примириться с локонами седых волос, пускались в такой разврат, который не пришел бы им на ум даже в их дикой юности. Другие присматривались к своим соседям, и если не удавалось совратить их, то убивали и грабили – просто так, ни за что, без всякой злости, от нечего делать. К концу путешествия многие не знали – рвали на себе волосы, пеплом посыпая голову, – где искать годовалого сынишку, куда запропастилась единственная дочь.
Среди всего этого переполоха ехали в Раму и родители Самуила. Караван остановился на ночь. Семья расположилась у подножия небольшого холма. Два шатра: один для четы, а другой для всех остальных раскинулись недалеко от дороги. Елкана строго-настрого приказал никому не выходить за огороженные для них пределы: не дай Бог, случится что!
Вдыхая вечернюю прохладу, он некоторое время посидел с дозорными у разожженных костров, поговорил с ними, послушал их песни, выпил горячего козьего молока.
Когда он вошел в шатер, в жаровне весело вспыхивали ярко-рыжие угли, потрескивали, слабо освещая расстеленную рядом циновку, покрытую цветным верблюжьим покрывалом. Анна спала. Чуть заметная улыбка освещала ее спокойное, свежее лицо. Безмятежный сон молодой женщины завораживал, не позволял отвести глаз, манил, притягивал, обезоруживал. «Неужели все это происходит здесь, со мной, на самом деле?» – спрашивал Елкана, видя, как белый, молочный дым поднимается от огня.
– Господи, будто не от простого огня дым сей! Будто кто жертву принес Тебе от лучших начатков своих и Ты принял ее.
Елкана вдруг понял, увидел себя как бы со стороны. Все стало таким ясным, верным и правильным, что ни один мудрец мира не объяснил бы проще и доходчивее. Необычайный шум! Он слышал его впервые. Нет, то был вовсе не шум, но словно весь мир заговорил с ним на одном языке – языке, который не надо учить. Который и есть душа, одна на всех. То вечное, блаженное и настоящее – жизнь!
Анна спала. Ее веки чуть вздрагивали: «Он сказал мне тогда, что я согреваю его, что я – начало его тепла. Я старалась не верить, но по телу пробежала легкая – а я и не знала, что такое может быть! – дрожь. Он взял меня за руку, и, минуя стаи диких, сонных голубей, мы отправились в мир, тогда еще не познанный мной. Мир, в котором нет места одному, но все в нем становится единым, гибким, наполненным. Всего несколько шагов – и нами был пройден этот величайший путь, указывающий на иное. Осень беспощадно срывала последние одежды столетних кедров. Они взывали к небу своими голыми, обглоданными кронами, жадно вдыхали пьянящий морозный воздух, внимая падающим листьям, расшаркиваньям прохожих и беззаботному детскому смеху».
5
На следующий день перед входом в скинию собралось множество народа. Все, кто еще не забыл веры отцов, кто не соблазнился новыми среди «ищущих истину» филистимскими культами Дагона, Астарты и Ваал-Зевула.
Кто молчал, помня о синайском предписании не произносить имени Бога понапрасну; кто, натянув постную маску печали и скорби, прятался за спинами принесших богатую жертву; кто рыдал; кто рвал на себе одежду. Наступал великий День Очищения, день скорби, осознания своей греховной природы – но и радости и надежды на милость Божью.
Однако даже в такой день люди тяготились своими расходами за прошлую неделю, подсчитывали возможную прибыль в ближайшие два-три дня после поста, с вожделением смотрели на богатые хитоны соседей, более зажиточных, чем они. Не могли спокойно пройти мимо дочери купца, который сделал целое состояние, торгуя льном и всевозможными пряностями в далеком «золотом» Мемфисе. Он одаривал свою дочь пестрыми шелками, пудрой, зеркалами, губной помадой, благовонными маслами. Не наученная пользоваться всей этой роскошью, она выглядела подобно индийскому павлину, идущему вдоль базарной площади, гордому своим убранством, но не замечающему того, что смотрят на него не как на диковинку, а как на дорогой товар – который желают прибрать к рукам любой ценой.
Обычно для жителей Силома ни один праздник не обходился без пьянства, разврата, драк, а многие из силомлян вообще не доходили до своего дома – их или грабили, а потом жестоко избивали, после чего бедняги медленно умирали от полученных ран, или сразу убивали ради забавы, в хмельном пылу праздных компаний.
Многие женщины, зашедшие в общественные места, чтобы «отвлечься от семейных будней», попадали в рабство. Филистимские купцы, высмотрев очередную наложницу, забирали ее с собой, так что уже на следующее утро мужу приходилось искать другую подругу, ведь жена, украденная подобным способом, вряд ли когда вернется. Дети, брошенные на произвол улицы, вырастали циничными, безвольными, продажными.
Когда же объявлялся в городских районах тот, кто не принимал подобного образа жизни (обличавшие сограждан пророки, странствующие философы, юродивые, слова которых жгли углем, резали по живому, открывали глаза), – его или забрасывали камнями по лживым доносам, или с позором изгоняли из города, или он уходил сам, еще долгое время боясь темноты и просыпаясь от малейшего шороха, – ибо этих людей изменить, наверное, не смог бы уже никто: ни Сам Бог, ни чудеса, ни прорицатели, ни всеми ожидаемый Мессия.
В небольшом доме неподалеку от скинии на полу из ливанского красного дерева сидели на корточках, играя в кости, двое юношей. Одетые в священнические льняные эфоды, они, всецело занятые игрой, разговаривали мало, иногда посматривая друг на друга только лишь для того, чтобы уличить своего соперника в хитрости. Вокруг них стояли всевозможные изысканные (до которых им и дела не было) блюда, источающие головокружительный запах ловко поджаренного мяса, специй, фаршированных всякой всячиной овощей, фруктов, сладостей; на серебряных подносах томились нарезанные дольками дыни. Но успехом у игроков пользовались одни только кувшины с молодым вином. Служки не успевали подливать тягучую красную жидкость в залпом опорожнявшиеся чаши. Юноши давно уже были навеселе, но все так же с большой охотой продолжали поглощать напиток, уже не утолявший жажду: он постепенно менял их взгляд, заплетал кровавые языки в толстую косу бесформенных, невнятных звуков, означавших, впрочем, одно…
– Еще!!! – требовал Финеес, подбрасывая размером с монету кубики из слоновой кости.
– Двенадцать! – объявлял служка, поставленный специально для того, чтобы точно подсчитывать сумму выпадавших чисел.
– Снова двенадцать! – негодовал Офни, замахиваясь в кого-то невидимого кулаком. – Ну, что стоишь? – бросил он в сторону. К нему тут же подбежали двое с кувшином. Офни посмотрел на кувшин, отрицательно покачал головой и протянул пустой кубок: – Давай!
Мальчик лет восьми, боясь пролить, принялся осторожно наливать вино.
– Дурак!! – Офни выплеснул содержимое прямо в испуганное лицо мальчика и залился непонятно то ли смехом, то ли истерикой. – Я же сказал не лей, а тряси вместо меня эти глупые кости!
Мальчик, не смея вытереть лицо, дрожащей рукой потянулся за кубиками. Зажав их в своих маленьких ладошках, начал трясти.
– Ну! – крикнул Офни. Кубики выпали и покатились в разные стороны. Мальчик обезумел от страха, стал на колени и, припав к земле, ожидал приговора.
Прошла целая вечность, прежде чем он снова поднял голову. В дым пьяные братья уже спали, хотя мальчику все равно казалось, что они притворяются, обманывают его, а когда он подойдет ближе, набросятся на него, чтобы избить до потери сознания (что иногда случалось) или просто напугать, да так напугать, что он еще полгода будет заикаться, за что, это уж наверняка, на него посыплется вдвое больше побоев и всяческих насмешек.
* * *
Все ждали, когда Илий, облаченный в простой белый хитон, выйдет из Святого-святых, где с чашей, наполненной кровью закланного животного, он курил в кадильнице благовония, кропил крышку ковчега.
Священник просил простить их неверие, толстокожесть и бессердечность. «Кровь сего тельца кроплю на жертвенник Твой, Создатель! Оставь нам прегрешения, и пусть народ сей будет чист, и пусть вместо него телец сей будет запятнан. Очисти нас, как снег на холмах Ливана, омой творение Свое. И не будем поруганы, но Именем Твоим святым очистимся и будем чисты…» – молился Илий, склонив голову и чувствуя, как слабеют его руки.
Два ворона сели на стену скинии.
– Смотрите, Илий уже ладан жжет! – выкрикнули из толпы.
– С чего ты взял, что Илий жжет курения? – неизвестно откуда отозвался в ответ хрипловатый голос.
– Да вон же – вороны! Смотрите, вороны! – неистовствовал прежний возмутитель общего молчания, изредка прерываемого воплями прилюдно кающихся горожан.
– Бредни все это, филистимские бредни! Где ты только наслушался таких бредней?
– Правильно, – отозвались с другого конца, – сегодня День Очищения, а значит, сегодня Бог и определит, кому быть в Его книге жизни, а кому и нет.
– Ну, тебя там точно никто не запишет, – качал головой заметивший воронов.
– Это еще почему?
– А потому, что Шломо-бен-Вениамин не только записать невозможно, но и толком произнести.
Толпа разразилась приступом смеха: кто не соблюдал пост, тот гоготал в открытую, а кто все же старался блюсти предписания, тот, не снимая печальной маски, лишь плечами вздрагивал.
– Наверное, ты ошибаешься, Иосиф, потому что Богу проще будет сократить мое имя, чем твой язык! – не отступал тот.
Толпа, словно сухие кусты терновника, вспыхнула новой порцией смеха.
– Иосиф, неужели ты позволишь топтать себя? – во весь голос, так, чтобы его слышали все, заговорил толстый, бородатый, похожий на тех мрачных людей, что часто приходят в Силом со своими огромными серповидными мечами, Мордехай.
– Не давай смять себя, брат! Мы все за тебя заступимся! Ну! Ответь же ему!
– Ответь этому языкастому, а не то мы сейчас его всего укоротим! – подхватили другие.
Иосиф, подзадориваемый братьями, только и успевал отнекиваться да отшучиваться.
Тихий и глуповатый, он никак не мог понять, что происходило с ним в те моменты, когда он оказывался среди шумной, разношерстной толпы. Словно кто толкал его выкрикивать, освистывать говорящих, делать всякие непристойности, за что потом ему всегда было стыдно и даже противно.
– Неужто это был я? – спрашивал он себя. – Больше никогда, никогда… Буду молчать, а лучше и вовсе не ходить на их праздники. Тоже мне, выдумали, собирать людей в толпы в День Очищения!
Он каждый раз искренне негодовал на свой язык, но, впрочем, всегда находил, чем оправдаться.
– Хотя, – бормотал он, – что я такого сказал? Ну, освистал, ну, засмеялся громко… Да любой бы так поступил на моем месте. А если любой, то почему все подзатыльники сыплются только на мою голову? На мою бедную голову! – и снова начинал жалеть себя. – Весь город был там, а как получать, так мне! Каждый знает: что бы ни случилось, ответчик один, даже если он и не подозревает, что произошло. Какая кому разница? «Давайте нам сюда вашего Иосифа!» А Иосиф, может, самой чистой души человек. Ему бы хорошую девушку, дом в Силоме да хозяйство, как у этого Шломо-бен-Вениамина. Тогда бы не было счастливее человека во всем Израиле, тогда бы я точно уже не ходил на их народные гуляния – сидел бы дома, глядел на молодую жену, покрикивал на детей. А тут – скука! А когда человеку скучно, он из кожи вон лезет, чтобы чем-нибудь себя занять, поэтому…
Словно мираж стоял перед глазами: старые, высохшие дома, налепленные друг на друга, со стен которых обваливалась желтая глина, – высохшие лепестки, чесаный загар, соскобленные черепицей наросты. Пепел. Случайные прохожие погоняли своих навьюченных всяким барахлом ослов. Плавился воздух. Узкие улочки между хижинами стали похожи на сточные каналы, где дожди, перемешанные с отходами, нечистотами, превращались в непроходимую грязь, зловонный цветник Ангрихона14.
…Иосиф и не заметил, как толпа оттеснила его и он оказался под навесом соломенной крыши, вдали от возгласов, споров и пререканий. В этот самый момент вдруг промчалась мимо него стайка детей: «Бьют! Бьют! Бен-Вениамина бьют!».
Вспомнив о своих братьях, о том, чего он так боялся, но что непременно должно было произойти, Иосиф камнем, брошенным из пращи, преодолел несколько пролетов и вновь оказался у скинии перед застывшим кругом немой толпы.
Посреди замкнутого живого кольца вывалянные в пыли, потные братья били ногами, палками, чем попало лежащего у их ног. Он уже не сопротивлялся, не морщился от боли. Его тело – опухшее и растерзанное – напоминало мешок. И только присмотревшись, в нем еще можно было узнать человека.
Наблюдая за происходящим, другие и не думали вмешиваться, так как все решили, что бен-Вениамин не прав, за что и должен поплатиться. Они были захвачены зрелищем, ликовали, требовали продолжения. И лишь немногие, кто, из-за отсутствия больших мускулов или наглости, остался в стороне, заметили, как за всем этим позорным, недостойным народа священников, народа святого действом наблюдал вышедший от ковчега Илий.
Он стоял вдалеке, видя, как неистовствует язычество в сердцах и на устах тех, кто с детства знал об истинном Боге. Скрепленный заветом обрезания, каждый из них в силах был как приблизить, так и отдалить Царство Господне. Они не хотели приближать его. Подобно слепым, зазывали в бездну. Бесноватыми тянули в огонь, животными смотрели на подобных себе, видя не красоту, а дикость и безысходность.
Илий стоял с опущенными руками. Он не мог больше просить ни за сыновей, ни за народ, ни за себя – он уже знал, что Бог отнял первосвященство от дома его. Не в состоянии ни умолять, ни благодарить, он только чувствовал, как по его обессиленным рукам медленно стекает еще теплая кровь жертвенного тельца.
* * *
Каждый год Анна приходила к Самуилу, приносила верхнюю одежду, вздыхала и, опечаленная, снова растворялась в новом, пока еще чуждом для нее мире, в котором так не хватало его, двенадцатилетнего странника, лишенного семьи, отцовского наследства, первородства.
– Крепость и молодость. Не уберегла, не постояла за своего сына. Кто же теперь, Анна, постоит за тебя? Смыл Ты, Господи, позор мой для того, чтобы забыть имя мое. Для чего Ты, Господи, очистил меня? Ради ли страданий, неумолкающего плача?
Самуил не был похож ни на старших его, ни на младших, ни на своих сверстников. Вдумчивое лицо, большие открытые глаза. В его присутствии люди вели себя по-разному: молчали, боясь проронить слово, ощущали покой, защиту, а некоторым, страшно сказать, становилось плохо, они начинали трястись, выкрикивать всякие слова на непонятных языках. Прятались, катались по полу, лезли на стены, говорили хриплым, не своим голосом, в общем – слухи пошли немалые!
Говорили, что Самуил обладает сверхъестественной силой вызывать духов умерших, на что другие качали головами, перебивали и с пеной на губах доказывали, что сами видели в нем недюжие способности чародея.
Были и такие, кто ни во что не верил. «Какое там сверхъестественное – опомнитесь, мы живем в реальном мире! Лентяи, им только о душе говорить! – негодовали они. – А что душа? Она еще никого не накормила. Правильно я говорю? – при этом все соглашались. – Проходимцы они все, выпороть их как следует за такое! Занятых делом людей отвлекают, заманивают в свои сети. А работать кому? Душа, верно, плуг за собой не потянет…»
А кто и вовсе посмеивался. «Как можно, ему ведь нет и двенадцати. Ха, ведь он младше даже моего Анании!» – восклицал длиннобородый Моше, слывший за «праведника», ибо давал в долг, а если не отдавали, то в седьмой год15 прощал, говоря: «Господи, ну на что мне этот седьмой год, если я и так не помню, что и кому занимал?». И люди снова и снова брали у него в долг:
– Многоуважаемый Моше, мне бы пару шекелей серебром, а то нечем за вино заплатить.
Видя, что Моше несколько замялся, проситель прибегал тогда к последнему средству убеждения:
– Хотя, дорогой Моше, если так подумать, то и вы тоже пили мое вино, и могу всеми родственниками поклясться, что выпили больше, чем на пару шекелей, так что в какой-то мере вы просто обязаны отдать мне мои деньги!
Моше раскошеливался. А что было ему еще делать? Ведь действительно, пил же он накануне вино, хотя неизвестно, чье это вино было – просившего взаймы или кого-то другого. Так что со временем в городе даже поговорка появилась: «Вспомнил, прямо как Моше на седьмой год!».
– …Ведь у него даже посвящения не было16… Ведь он меньше, чем мой Анания… – как заведенный повторял «праведный» кредитор, видя перед собой крупного, сильного не по годам Самуила, на равных беседующего с седобородыми старцами.
1
Головной убор иудейского первосвященника наподобие чалмы, изготовлялся из виссона. На переднюю сторону кидара прикреплялась золотая дощечка с надписью: Святыня Господу.
2
Простой белый льняной эфод (ефод), или эфод бад. Священническое сплошное длинное одеяние с рукавами. В него облачалось все прочее священство в отличие от первосвященника, эфод которого состоял из двух полотнищ дорогой материи, сотканной из золотых нитей, виссона и шерсти.
3
«Молодая лягушка», «головастик» (евр.).
4
«Медные уста», «мавр» (егип.).
5
Пустынный ветер.
6
Осенний месяц еврейского календаря. Приходится примерно на сентябрь-октябрь.
7
Весенний месяц, приблизительно май-июнь.
8
Назир – «посвященный Богу» (ивр.). Человек, принявший на себя обет воздерживаться от употребления вина (и даже винограда), не стричь волос и не прикасаться к умершим (Чис. 6:1—21). Обет мог приниматься на определенное время или навсегда.
9
Нагорный приграничный город колена Ефремова. В этом городе родился, жил и был погребен святой пророк Самуил. Иначе этот город называется Рамафа или Рамафаим: «двоякое возвышение» или «две высоты», также – Рамафаим-Цофим.
10
Самуил (שׁמוּאֵל) – «услышанный Господом».
11
Мера сыпучих и жидких веществ, равная примерно 24 литрам.
12
Согласно еврейским верованиям, во время сна душа покидает тело и восходит на небо, где она черпает новые силы или оказывается во власти сил зла.
13
Домашние идолы.
14
Ангрихон – демон, который управляет всеми болезнями, сжигающими тела.
15
Седьмой год – субботний, когда не возделывалась земля и прощались долги.
16
Для мальчиков в двенадцать, для девочек в тринадцать лет; с этого возраста дети становились полноценными членами общества.