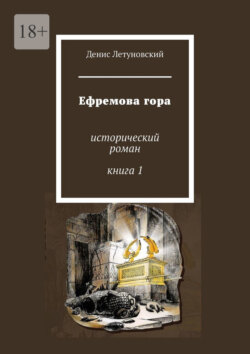Читать книгу Ефремова гора. Исторический роман. Книга 1 - - Страница 4
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ФИЛИСТИМЛЯНЕ
Глава вторая
ОглавлениеВыходцы из древнего Крита – Кафтора, пеласги ковали железо17 и слыли лучшими на всем Средиземноморье оружейниками, судостроителями и навигаторами. Это были высокие люди, гиганты! Приехавший издалека сразу выдавал себя: среди этих косматых оборотней чужестранец выглядел совсем крохотным, а те смотрели на него свысока – гордые, рослые.
В поисках новых ветров пеласги оставили насиженные очаги, выйдя на незнакомый берег. Здесь их ожидали слава, расцвет, победы, владычество, падение, гибель. И мифы, где боги в бычьих обличьях переплывают моря, а герои доходят до самого края вселенной, чтобы взвалить на свои сильные плечи небесный свод.
Здесь они стали называться «пелишт» или «пелиштим», откуда и возникло имя этой ничтожно малой, но расположенной в центре мира земли – Палестина, где жили палестимляне или, на греческий манер, филистимляне.
Газа, Азот, Аскалон, Экрон18, Геф – Пятиградие. Страна управлялась наподобие элладских полисов-государств. Газу ли заволакивали чужеземные дымные знамена, Экрон ли обступали груженные холодной дамасской смертью верблюды, погоняемые бесстрашными закутанными в лохмотья тенями, верившими в перевоплощение их похожих одна на другую душ, а потому отправлявшимися на змеиный язык меча без всякого сожаления, с безумным костром в глазах, – и Аскалон, и Азот, и Геф тут же снимали с якорей лодки, легко бороздившие соленые волны. В трюмах перевозили оружие, осадные установки, тараны, тяжелое снаряжение для тех гигантов, что, словно папирус, разматывали плотные паруса. Некоторые воины равнялись ростом с египетскими слонами. Из громадных лат одного такого богатыря можно было отлить десяток длинных клинков, сотню монет или несколько плугов.
И когда все пять городов объединялись для отражения мелких набегов или же долгой, пожиравшей несколько поколений мужчин войны, тогда мирная бронза, драгоценные металлы и благородная сталь перемалывались в чудовищный, жалящий, беспощадный клич, рев, крик, плач. Вплоть до самого победного взгляда, когда вокруг – лишь поверженные полчища пришедшей с той либо с иной стороны саранчи.
Разбросанный по всей – на сколько хватает глаз – береговой линии порт. Экрон. Всякое воображение меркнет перед увиденным воочию: египетские двух- и трехъярусные парусники, греческие весельные, вытянутые и всегда яркие, пестрые, с красными героическими сценами, корабли. Канаты, рабочие мулаты, измаильтяне, хананеяне, просто кочевники без имени и племени, пришедшие с запада, от заката, от вечера19.
Черной ночью так просто сбить с ног идущего – засиделся в портовой харчевне, выпил четверть меры луксорского пива20 и теперь возвращается в свой каменный дом к молоденькой Зель, привезенной из-за Синайских гор, еще когда она только-только лепетала «и-ма»21, но все забывшей и помнившей лишь новое: своего господина, своих четырех сыновей, свое шестнадцатилетие.
Пройдя узкую улицу, где то и дело вразвалку ходит пьяная рвань, клянчат нищие – одни гуляют и продают себя, другие покупают наслаждения (прохожие старались как можно скорее миновать эти вожделенные для игроков в кости и всякого рода матросни захолустья), – путник приближается к перекрестку, откуда до его теплой и ласковой Зель остается совсем близко, совсем… Как? Что это? Кто? Ноги подкашиваются. Куда меня тащат? Звездное небо – гроздья падают, срываются в студящую их воду, за воротник – туда, где глаза уже не могут видеть. Знаю только, что падаю куда-то, откуда возврата нет, ни милости, ни пощады. После десятка таких ран уже не больно – жизнь просачивается, стекает в остывший с закатом песок. Хочет напоить. Хоть что-нибудь. Хоть землю: станет теплой и тут же покроется бордовой корочкой, затянется, съежится, всю без остатка – впитает. Место мне – под настом ночной земли, под утоптанным слоем: столетия и караваны – все прошло, а я остался. Здесь. Приди кто-нибудь, склонись надо мной! Зель…
1
До утра – путь луны от моря до храма грязного Ваал-Зевула. На самой вершине великого холма Экрона уже роятся, в густые облаки сбиваясь, мушиные точки, разжиженные пятна. Уже возводит к созревшему полнолунию Кир'аниф – верховный жрец – свои уставшие, затуманенные глаза.
Вдоль коридоров – прямых и ведущих в непроходимые тупики с ловушками из сыпучих песков, со стрелами, с дикими животными, крысами, голодными рабами, готовыми пожрать друг друга или первое волей судьбы или случая загнанное к ним живое существо, – шел Кир'аниф и еще несколько приближенных его слуг. Один он знал выход из этого мрака. Нес перед глазами огонь, который освещал ему путь. И без лампы он вышел бы из любого закоулка этой злым гением выстроенной западни. Его глаза спокойны: маленькие, с прищуром, косые. Смотрят в разные стороны, как бы следя за каждым шагом – не только своим, но и любого, кто оказался в поле действия его вездесущего жречества. Непроходимая тьма, гнетущие стены, слизью капающие потолки, вязкое, затягивающее в свое смертоносное лоно. Подземелье.
Блики огня вырывали из темноты открытое левое плечо, исцарапанное в культовых оргиях лицо, завитую шевелюру, бычью шею, черепаший панцирь спины, крокодильи пальцы, змеиное переплетение рук. Частое морганье, непонятный хрип, шипение, горловые призвуки, больше похожие на… жужжание. Все это несла в себе человеческая фигура, поступь которой была уверенной и скорой. Он забывал все, что было вчера. Каждый раз его занимала лишь сегодняшняя непредсказуемость. Грандиозный спектакль во имя сильного и ужасного божества.
Уже просыпались гроздья кишащих насекомых – они слышали, нутром чуяли его позывные. Они готовы были последовать за проводником, который выведет их к Повелителю Ваал-Зевулу: своим отвратительным существом, своей мерзостью он стал идолом, предметом их насекомого обожания.
Кир'аниф совершал обход подземелий. Он верил, что жертва, отобранная им самим, станет особым подношением тому, кому служил он со времени своего юношества. Жертвы он тщательно выбирал, глядя на их внешние качества, как то: осанку, рост (высокие, статные – среди чужеземцев мало было таких, что весьма и весьма затрудняло выбор), зубы (они должны были сиять, как белые ракушки, оставшиеся после прилива на берегу), руки, пальцы (их требовалось ровно пять – никаких шестипалых или с обрубками он не принимал). Кир'аниф приказывал стричь их тела наголо, чтобы удостовериться, нет ли под вьющейся косматостью каких-либо изъянов, и тут же отсылал назад работорговцам калек, больных, уродов, гомосексуалов, скопцов. Во вторую очередь его интересовал детородный орган жертвы. Жрец нередко устраивал среди отобранных оргии: кто оставался последним, назначался для самой главной церемонии и Ваал-Зевуловой силой оплодотворял храмовую служительницу.
Молоденькие наложницы так были вовлечены в общее празднество, что нередко ссорились или дрались за почетную возможность стать матерью сына верховного божества. После родов мать снова участвовала в торжестве, но уже исполняя другую роль: Ваал-Зевул, зачавший в ней сына, окутывал ее тучами толстых, откормленных мух и, слушая ее стоны и крики боли и ужаса, высасывал ее без остатка, забирая к себе в жены. Пришедшие на торжество с благоговением и трепетом смотрели на разворачивавшееся действо, видели, как в какой-то момент черное месиво из отяжелевших насекомых нехотя поднимается и слуга бережно заманивает его в клетку.
Верховный жрец ощущал переполнявшее его блаженство, ибо все было приготовлено в должной мере.
– Как в старые времена, – повторял он в каком-то самозабвении. – Наконец-то мы забудем хеттские веяния и народ вернется к вере своих предков!
Другая мысль делала его взгляд не светлым, а светящимся, чуть ли не фосфорным: «До меня все было иначе: религия становилась жалким повседневным культом, молодежи в храмах не было, потребность чего-то высшего угасала, совсем чахла».
Он вспомнил о реформах, связанных с обеспечением храмовых проституток пожизненными дотациями и воспитанием их отпрысков, со всеобщим почитанием тех воинов или богачей, кто добывал или за очень много мер золота покупал жертвы, о которых еще долго говорили, пересказывая и похваляясь их красотой, силой, молодостью. Лоскуток одежды, волосы, зубы или кусочек плоти, сорванные, вырванные, отщипнутые во время оргий, что предшествовали самим жертвоприношениям, считались в доме чтимой святыней: к ней прикасались, желая стать удачливыми, ее прикладывали к больным местам – и если кто-то излечивался, тогда слава этого лоскутка росла, передавалась из уст в уста, переходила из города в город. Многие предпринимали своего рода паломнические походы по тем селениям, где произошли наиболее громкие, невероятные исцеления, воскрешения из мертвых, другие чудеса, связанные с богатством, славой и прочим.
Да, теперь не то что раньше! Все говорили о наибольшем религиозном расцвете при Кир'анифе. О том, что он вдохнул жизнь в ставшее уже пережитком прошлого – в ту часть филистимской культуры, которая считалась достоянием легендарных поколений.
Тогда жили сильные люди, правившие кораблями, пересекавшие морскую бездну от одной до другой диковинной земли. И везде, где бы ни прошли, они оставляли капища, жертвенные столбы, еще долго роившиеся черные облака. Об этих героях складывались песни, поэмы, в них верили, их жизнями и похождениями полны были истории, которые ставились в пример и которые родители пересказывали по вечерам своим чадам…
А теперь даже в современной жизни появлялись самые настоящие мифические герои. Одним из них стал верховный жрец. Кир'аниф это понимал. Он видел тысячи восхищенных, обращенных на него взоров. К нему приводили неплодных жен, скот, детей под благословение. Он взимал плату, совершал обряд, после чего жены рождали, скот выздоравливал, а дети вырастали и становились безжалостными солдатами, легко переплывавшими с мирного берега на берег войны и обратно.
2
Храм стоял на городском холме. С высоты птичьего полета его никто никогда не видел, однако с любой дали он поражал взоры, привыкшие к небольшим одноэтажным хибарам из речной глины – красной лепниной она придавала жилищам вид передержанного загара. Для обитателей целых кварталов красных лачуг (раз в год ливневые дожди смывали их вовсе или повреждали настолько, что хозяева, завернутые в пыльные ткани, вновь и вновь перестраивали их, тут же обжигая из осевшей, расплывшейся массы кирпичные, вывалянные в соломе блоки) после сезона дождей начиналась новая жизнь. Сколько же таких коротких, одним и тем же наполненных жизней проживали они за свои отрезки? Так и получалось, что по наследству (если несколько платков да браслетов можно счесть таковым) переходили не сами дома, а глина. И многие крепили над входом дома табличку: «Из этой глины наши предки строили мир и благоденствие».
Но даже после такого завидного и желанного, хотя и полунищего для многих обитания любой дом богача в несколько уровней воспринимался как нечто диковинное, достойное долгих разговоров, пересказов и обсуждений.
В период войн все мысли и силы направлены были на корабельные эскадры, на осады, на штурмы, атаки, засады. Когда же наступали короткие передышки, во время которых кто-то успевал родить, построить, вырастить виноградник или выковать меч, филистимляне стекались на загородные дороги, ведущие к храмам озорного Дагона в Газе, ужасного Ваал-Зевула в Экроне и сладострастной Астарты в Гефе.
Запрягались телеги, складывалась провизия – финиковые лепешки, молочные плоды фиг, очищенный, высушенный, поделенный на маленькие дольки кактусовый инжир (его заворачивали для дольшего хранения в листья фиговых деревьев), бурдюки с вином и водой. Переход по голым песчаным дорогам делал путника уязвимым: его тележка, запряженная неспешным волом, просматривалась издалека – слышны были поскрипыванья железных колес, шумные игры резвившихся и потому вечно отстававших детей.
Кузнец Сомхи выехал из своего родного Азота три дня тому назад. Рядом с ним в повозке сидели Елфа – его жена, Сулуфь – его дочь, и Мара – обедневшая вдова из Вифлеема. Во время очередной войны филистимлян с Израилем Сомхи сжалился над ней – не убил, взял в прислужницы для жены и дочери.
Возницу от полуденного зноя клонило в сон. Подстегивая тяжелое ленивое животное, он хоть немного взбадривался, но вскоре, забываясь, все глубже и дальше проваливался в желтое, добела выжженное марево, забвение.
Елфа, изможденная долгой дорогой, спала, прислонившись к деревянному борту со множеством вставок из железных инкрустированных кружев. Сулуфь задержала взгляд на босых ногах Мары (несмотря на преклонный возраст служанки, они оставались ухоженными, чуть смуглыми), и воображение дорисовало ей гладкие богатые ткани, прохладную рябь неспешного Иордана, тонкие полноводные течения Евфрата, Тигра.
– Миновали громы, дожди и молнии… – чтобы развеять сонливость, Сомхи начал тихо петь, подражая, скорее, козьему с овечьим блеянью. – Израильский Яхве не испугает впредь белых пеласгов. Елфу и дочь с эфрафянкой на праздник мушиных плясок – Сомхи-кузнец везет на повозке дом свой…
Повозка медленно покачивалась, издали напоминая откормленного гуся, неспешный верблюжий ход, судно. Разбросанные холмы… Летние пастбища, выжженные до превратившихся в местный пейзаж проплешин, въевшихся до сердцевины земли… Хамсины высушили, обезводили ее, – не хватило бы ни полноводного Иордана, ни прохладных фараоновых купален, чтобы освежить, хоть на мгновение утешить, остаться в тени, передохнуть.
Скрип несмазанного колеса напомнил Елфе волнительный маятник колыбели. Она посмотрела в красивые большие глаза Сулуфи, улыбнулась ей. Вспомнила плач, бессонные ночи, первые шаги и слова дочери. Елфа считала себя счастливой – так, по крайней мере, отзывались о ней подруги и недруги. Мнение последних занимало ее куда больше, ибо враги, в отличие от родственников или близких, не станут лгать, потакая твоим слабостям и стараясь не замечать твои изъяны. Поэтому когда Сомхи называл ее «прекрасной Астартой», она принимала его слова как должное, ибо так называл ее муж со дня их союза. Когда же кто-то из посторонних говорил в ее сторону подобное, она прислушивалась, смотрелась в начищенную железную пластинку, сравнивала, угадывала сходства и верила.
Песок ослеплял. Будучи не крупнее пыли, он забирался в самые невозможные, закутанные места на теле, в повозку, в нехитрую упряжку согбенного вола. Животное страдало: люди могли хоть как-то себя защитить, ему же приходилось довольствоваться их жалостью или отсутствием таковой. Каждый следующий шаг ему давался все тяжелее. Из огромных воловьих глазниц выглядывала молчаливая покорность. Его шею сдавили кожаным ярмом, ему приказали идти, потом ему скажут стоять, или спать, или есть. Возможно, кому-то понадобится его жизнь. Его ли? Отданная другим, она более не принадлежала ему. «Сейчас вот она нужна тем четверым, которые то и дело хлестают по тощим бокам терновым прутом…» Боль давно перестала сдерживать его мощь. Жужжанием насекомых она то стремительно обрушивалась, то отпускала, и тогда мир казался рожденным заново. Высохшие потоки, следы тихих – до сжатой челюсти, до сухих слез – стеганий. Словно два незатянутых шрама – от толстых век до позвонков стертой под ноль, изуродованной, но все еще крепкой шеи. Воловий плач, изредка нарушаемый карканьем воронов-отшельников, копошеньем диких пастухов, у которых взгляды прямые и сумасшедшие. Спрятавшиеся за камни ущелий, погребенные заживо, большую часть своих дней они проводят в окружении безжизненных натюрмортов, овечьего блеянья, голоса богов, затишья, собственного дыхания.
Сомхи вдруг остановился, завидев неподалеку нечто напоминавшее хижину.
– Только бы не человек! – подумал кузнец, ибо не всякая встреча с людьми в дороге была счастливым предзнаменованием. Путешественники рады были увидеть какого угодно хищного зверя, но только не соплеменника или чужестранца – в те времена люди боялись друг друга, почитая каждое удачное путешествие за дар богов.
Сомхи насторожился. Кузнец не смог вспомнить ни одного заклинания, которое вызывало силу оберега, висевшего на его шее; ни благословения, ни проклятия – что-то не давало ему вымолвить знакомые с детства слова, окутало со всех сторон, сжало.
Впереди виднелась одинокая крыша из тростникового камыша, красной глины, грязи, песка, голода, горя и слез.
На пороге их никто не встречал, но внутри лачуги – очертания человеческой тени мерцали в проеме – кто-то все же был: поднялся, заслышав приближение путников, и стал покряхтывать «Адонаи, Адонаи…», пока не вышел из жилища.
Закутанный в длинные, до пят, нахлобученные куски овечьей шерсти, кожи, лоскуты материи. В заплатах, в дырах, его платье, однако, было понятно и уместно в этом нищем уединении. От него несло застойным запахом хижины, в котором было все – и дым очага, и вонь сырокопченого мяса, и духота.
– Входите, – сказал хозяин-пастух, – я вас давно жду.
Сомхи и Елфа переглянулись: мол, идти или остаться? «О чем он? Как мог он нас ждать, если мы и сами не знали, кто встретится нам на пути?»
Они зашли. Завеса задернулась за их спинами, свет померк. Они ослепли, стали щупать перед собой воздух. Не знали, куда идти: боялись неверно ступить… Остановились, переводя дыхание. Им было не по себе – жутко и брезгливо.
«Наша хижина куда просторней этого иудейского шатра, – думали они. – У нас свои боги, которые берегут нас от такой бедности, защищают, делают из тонкой стрелы смертоносное оружие, жалящее неугомонных персов и этот горделивый народ. Они думают, будто одно слово Саваофа может оправдать их нескончаемые набеги и грабежи! Вот куда приводит их безумие – одиноким холмом в пустыне высятся их кожаные шатры, их жены рождают в грязи, а когда они умирают, их души становятся желтыми песчинками, отчего эта пустыня растет с каждым новолунием и лишь море сможет поглотить ее границы, море, капли которого – души свободных пеласгов».
Мимо Сомхи прошел хозяин шатра. Кузнец его не видел, но кто еще так уверенно мог пройти в абсолютно закрытом и непроницаемом на ощупь помещении? Впрочем, глаза понемногу привыкали к темноте, а вот уже и заметны стали мелкие щелки между кусками сшитых козлиных кож.
– В безводный сезон невыносимы ветры, в сезон дождей – холодная капель и сварливость жены, – с края шатра послышались шаги и замерли где-то посередине. – Я думал, разбойники, поэтому оставил лампу снаружи.
Хозяин поочередно зажег несколько светильников, отчего столетняя убогость выставила на обозрение свою печальную изнанку. В центре шатра – прямо в земле – дымилось небольшое углубление, которое звалось теплым и таким желанным для странника очагом. Дикая удушающая вонь. Пастух улыбается, глядя поверх голов. Он слеп. На его лице улыбка – черные изъеденные зубы. Его одежды настолько засалились, что капли жира и обильный пот сливаются в некую единую массу, о которую хозяин и вытирает руки. Его щеки и лоб – в крупной испарине. Он стар! В молчании проводит он безлюдные, неодушевленные дни. Дороги вытягиваются в одну. Затерянная монета играет томным закатным солнцем, упав на колодезное дно: глубок Иаков! Люди с животными приходили к тебе. Тело с душой жаждут, гортань пересыхает – ни проклятия не произнести, ни молитвы не вымолвить. Тихая жизнь – забытая, затерянная, положенная под спуд.
Весь вид пастуха был сосредоточенным, собранным. От небольшой фигурки его исходила сила!
– Кто вы? – спросил старик, держа перед собой лампу, отчего лицо его сделалось призрачным, вырванным из тени, на минуту ожившим.
– Ты сказал, ты ждал нас, – смутился вопросом Сомхи, – сам скажи, кто мы.
– Кто знает о вас то, что вы сами о себе думаете?
– Ты один из тех бродячих мыслителей, которые говорят о жизни как о глубоком сне или всех убеждают, будто их нет, хотя они на самом деле есть?
– Я кочую. Вместе со мной кочуют несколько верных моих овец – они единственные остались от целого стада. Я пастух. Моя молодость прошла на вершинах Галаада. Эти лохмотья, – старик приподнял полы рваных и пыльных тряпок, перетянутых вокруг его тощего тела… – заменили мне седину отца, любовь брата, терпение и плодоносность жены. С ними привык я к ночным заморозкам, к дневному пеклу. Какая награда мне от длинных речей, от того, что ты назовешь меня мудрецом? За свою долгую жизнь я слишком устал говорить. По моим молитвам Бог Израилев дал мне эту святую пустыню. Каждый день меня навещают ветры, дикие волки, змеи, саранча, скорпионы, вороны. Они приходят, впиваются в мое тело или уходят ни с чем, не встретив меня в хижине, застав меня спящим. Сегодня нога человека переступила этот порог! Я так давно не слышал человеческой речи и уже думал, что никогда больше не заговорю на языке моих предков. Мы – выходцы из горной и свободной Самарии. На лето мы гнали наши стада к зеленым холмам Ливана – дубравы освежали наши головы, кедровые пики устремляли наши помыслы вверх. Куда, скажи, устремлены твои взоры?
– Я иду в Экрон, чтобы поклониться великому Повелителю мух. Я кузнец, со мной целая повозка, груженая ключами, замками, украшениями, ножами, наконечниками стрел, дротиками. Много товара, который я продам или обменяю на храмовые деньги. За них я куплю одну, а может, и две жертвы. Поэтому ты не задерживай нас, чтобы нам вовремя прибыть к священному базару. В прошлом году мне достался только один раб, – Сомхи стал говорить полушепотом, будто хотел сообщить то, что другие не должны слышать, – и этого доходягу никто уже не хотел брать! А-а, – кузнец махнул рукой, – аммонитянин! Гиблый народец. Все его завоевывают. Слышал, люди встречали их у работорговцев и в Сирии, и в Египте, и в Израиле. В наших богов они не верят, над своими смеются – на что они надеются? – он пожал плечами. – Разве может прожить человек без веры в богов? Ты – чужестранец, в Самарии поклоняются ужасному Яхве, уничтожившему все первородное от Александрии до Луксора. Ваше дело, почему вы верите в это чудовище, но он хотя бы вывел вас из плена, а их чучела ни к чему путному не приведут. Дождутся того дня, когда разграбят их, растащат по иноплеменным шатрам, потом где искать потерянное?
– Не ходи… – тихо произнес старик.
– Какой неверный шаг мой ты хочешь предупредить? – Сомхи нахмурился.
– В Экрон не ходи.
– Куда же мне идти? Или в святой город пришла беда, а может – да не будет этого вовеки! – он запнулся, не решаясь продолжить, – может, Экрон захватили израильтяне, разрушив храм? Если так, то куда перенесли золотых идолов Ваал-Зевула? Ты был там? Что случилось? Говори!
– Не ходи служить и воскурять сатане! Повелитель мух был не всегда – его создал Яхве.
– П-почему сатане? О каком злом духе говоришь ты? Не спросил ли я тебя о храме? И потом, – Сомхи понял, что старик не в своем уме, – как Яхве, это воинственное божество пустыни, мог создать великого Ваал-Зевула? Мне с самого детства знакомо имя нашего древнего божества.
– Не все древнее истинно.
– Однако ты поклоняешься древнему Яхве.
– Я верю Тому, у Кого в руках Вечность, для Кого прошлое, сегодняшнее и еще не наступившее – одно.
Старик немного помолчал, а потом указал на очаг в земле:
– Как в доме моем одна жаровня и нет здесь другой – ни спрятанной за лежанкой, ни оставленной под порогом, – так и Яхве, Бог Израилев, один, и нет подобных Ему, ибо богов – тысячи, а Бог только один.
– Да, старик, – вздохнул Сомхи, – я и вправду поверил было в твою мудрость, но разве может мудрец отрицать наших богов? Верой в них еще мать моя питала меня. Мою прекрасную Сулуфь, – кузнец показал на дочь, которая от неожиданности покраснела, наскоро закрыв нашейным платком лицо, – я приучаю к нашему благочестию и хочу, чтобы ее дети и дети ее детей поклонялись в Экроне всемогущему Повелителю мух.
– Экрон скоро исчезнет. Как от древнего Содома, от него не останется и камня на камне. Пасущийся скот будет попирать черепки разрушенных идолов копытами. Люди забудут о существовании этой сатанинской личины, которую вы зовете Ваал-Зевулом. У него таких личин – тьма! Вся армия его…
Он не успел договорить. Сомхи набросился на него, ударил, свалил с ног, начал трясти, кричать, ругаться с пеной на губах, задыхаясь от внезапно переполнившей его злости:
– Вы тоже пришельцы в этой земле, так почему вы называете ее своей!? Сначала мы предлагали вам быть нашими братьями, потом хотели, чтобы вы стали нам рабами, но вы не хотите ни с кем делить захваченный вами Ханаан! Яхве истребляет вашими руками все живое, что встречается на вашем пути. Вы слушаете Его, а тех, у кого свои верования, вы называете безбожниками и язычниками. Кто вы такие!? – Сомхи был вне себя от ярости. – Кто вы, я спрашиваю тебя, такие, чтобы чужое выдавать за свое?
Сомхи бросил стонущего старика, встал. Тяжело дыша, он сказал Елфе:
– Поехали, нам нечего делать в доме безумца, который живет на филистимских пастбищах и притом смеет называть нас нечестивцами!
Вчетвером – Сомхи, перепуганные Елфа, Сулуфь и Мара – они вышли. Сомхи сбил ногой одну из подпор шатра, за которые крепились козьи с овечьими кожи, отчего вся хижина слегка покачнулась, как от налетевшего с пустыни ветра, накренилась и с шумом и клубами пыли сложилась, в одно мгновение став ветхим – в заплатах и швах – ковром, постеленным прямо у подножия небольшой дюны.
Лачуги старика больше не было. Единственного места, где он мог приклонить голову, спрятаться от суховеев, от злых духов пустыни. Теперь он был беззащитен, будто снова вернулся в дни своего детства, когда косматые обветренные руки бородача-бедуина его отца и нежные прикосновения матери заботились о нем, оберегали от неосторожного шага, от общения с дурными людьми. Но только сейчас у старика не было никого. Вот уже столько лет единственные спутники – пара овец, пески, оглушающая тишина и Бог израильский – сопровождают его повсюду.
Повозка тронулась. Из-под завалов послышалось старческое кряхтенье, сдавленный кашель.
– Не ходи, не ходи… Всевышний, прости мои прегрешения, вразуми отвернувшихся от Тебя…
Мимо прокатился куст чертополоха, повеял зной – из пасти блуждающего суховея, из самого нутра.
– Я слышал о Тебе сердцем и ухом моим, – доносился хриплый голос оставшегося на пепелище – слабый, по-козлиному дребезжащий, – теперь же и глаза мои сподобились видеть славу Твою. Я пришел в землю, овеянную пеплом, познав, что я – истинно прах: из праха вырвался, с новою силой в прах устремлюсь. В тепле постели раскаяние мое было бы жалким, в объятиях жены – неискренним. Теперь мне нечего прятать, сокровищами скрывать – я наг! Я вспомнил праотца нашего, нашу праматерь. Когда им нечего стало скрывать, и они каялись. Гортань моя просит пощады, душа моя пресыщена болью. Глазам моим нужен покой и телу – скорая тень налитых соком смокв. Одно Твое слово, Господи, насыщает и утоляет полуденную жажду. Порази меня, если угодно, всеми казнями и всеми язвами, но не оставляй меня. День в селениях Твоих… На одиночество… не оставляй…
Сомхи правил повозкой. Перед ним простиралась беспорядочная цепь невысоких холмов, за которыми оканчивался их многодневный путь. Экрон так близко! Сомхи пробовал улыбнуться – от ощущения, что все опасности остались там, куда он более не вернется. Невредимой он довез семью до священного города – как тут не радоваться?
Вот он – Экрон! Стекаются сюда со всей Филистии. Экрон – город, полный легенд, фантастических историй. Экрон, где обитает Ваал-Зевул, где в жертвенные дни собирается столько паломников, что Вавилон с Дамаском вдовеют, их чрево бесплодно, их лоно черствеет, их груди обвисли – им и не вспомнить, что значит бодрствовать до рассвета; их сыновья бросают насиженные гнезда. Полноводные реки мельчают: подведи своего верблюда – и он выпьет их жалкий остаток. Воды текут в Экрон, наполняя пересохшие гортани колодцев. Росой, зеленым кустарником, цветами радуется пустыня. Вчера сыпучие пески, ныне – сочные живописные луга. В тенистой дубраве остановись, отдохни – свежестью дышит сердце твое, глаза твои полны невысказанным восторгом.
3
Вдоль каменного мешка коридоров широко, размашисто шел Кир'аниф. Повсюду разносилась тяжелая поступь. Стены выпускали верных своих псов – гулкое эхо. Оно преследовало, шло вслед за верховным жрецом, то обгоняя его, то затихая, то вновь гремя по призрачным наковальням.
За Кир'анифом спешил, изо всех сил стараясь не отстать, человечек высокого роста: непоседливость и желание угодить превращали Сихору в семенящего карлика. Ни слова не говоря, он прямо захлебывался от «именно так, твое верховное жречество», «как ты изволишь», готовых в любой момент сорваться с его красных, сладеньких до вишневости губ. Его полушаг-полубег напоминал сбившийся пульс, несвязную речь. Во взгляде Сихоры одновременно запечатлелись сожаление и просьба, вороватость, осторожность, расчетливость. «Что бы такого подтибрить?» – думал, казалось, он, вертя из стороны в сторону головой, шаря, вынюхивая, пятясь и вновь настигая упущенное. Сихора топтался на месте, потирал запотевшие ладони, облизывался, ерзал, хотел что-то сказать, но выходила лишь извиняющаяся, похожая на двух прижатых друг к другу красных червей улыбка.
Сихора считался долгожителем. Ему было около пятидесяти лет. Глядя на его маленькое – с кулачок – личико… человек без возраста. И через четверть века он останется, таким и уйдет.
В то время многие не доживали и до первого лепета: из-за болезней, жертвоприношений (в особенности если ребенок был первенцем), голода (в бесхлебные года старшие, способные родить новое потомство, съедали все припасы). Возраст с пяти до двенадцати лет проходил быстро, мимолетно. Будто и не было – чистая гладь. Без событий и памяти. Нелепая середина, отрезок меж полудиким рождением и моментом, когда взвалю на свои плечи и понесу мир. Начнется новое, желанное и ненавистное. И некогда будет оглядываться назад. Узнаю, что детство, как мотив длинной красивой песни, прошло мимо, впустую, не осознав бо́льшую часть положенного передо мной пути. Если отец ремесленник или землепашец, какое может быть детство? День выматывает, до корней высушивает, а ночной прохлады так ничтожно мало, чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть, наслушаться стрекота цикад. Я – цепь! Звено. Брошенный в раствор фундамента камень. До и после меня был и буду опять. Я! Рассеянный от края до края. Ночной и дневной стражей. Длинными сумерками, рассветом. Вчера и сегодня. Шумящей мечтой, листвой.
Среди детей нет разделения на «он» и «она», возведенных взрослыми до слепых предубеждений, фантазий. Позже «он» назовет ее меньшей, а «она» покорится ему. Они придумают для себя слишком много условий, согласно которым на земле должен быть рай, а отношения между живущими на ней – совершенными. В итоге все складывается иначе, не так, как хотелось. И даже мысли не придет, что во всей этой игре, во всех этих неприглядных зрелищах больше каменного, нежели человеческого.
Мальчики с нетерпением ждали появления густой бороды, когда вместе с отцами они будут заниматься семейным ремеслом и воевать. Девочек с самого детства готовили к замужеству, и уже к двенадцати это были невесты, через год становившиеся матерями, а лет через восемь превращавшиеся в многодетных старух. При городских воротах сидели седовласые мудрецы. К ним шли за советом, за справедливым судом: они помнили людей и древнее, давно прошедшее время. Они многое повидали и многому были свидетелями. За их плечами осталась целая уходящая жизнь. Кому-то из них уже перевалило за сорок, а кому-то не исполнилось и тридцати.
* * *
Наподобие туники, туловище Сихоры было туго перетянуто красным домотканым куском тонкой материи. Это нехитрое одеяние не предусматривалось правилами культа, просто Сихора напялил его на ходу, когда запыхавшийся прислужник сообщил ему о срочном вызове к верховному жрецу.
– Не вовремя! Как не вовремя! – твердил он.
Три дня и две ночи Сихора пропадал у молоденьких умывальщиц – все они великолепно исполняли любые его прихоти. Служительницы Астарты, они через взывание к плоти без труда возносили бедный Сихоров дух в горние усыпальницы. Как сладки их голоса, как ласковы и нежны прикосновения – струящийся, мелодичный перебор псалтири! Слова, шептания переливаются из тонких кувшинов в бездонные кубки. Горячие стенки, створки источника, готовые напоить всякого припавшего к ним.
– Сколько же их было? – никак не мог решить Сихора, пребывая в состоянии того, кто уже открыл глаза, но все еще спит.
Его воспоминания переплетались, кружились вокруг чего-то одного, чему он никак не мог подыскать имени. То оно заключалось в блаженном сиюминутном упоении его старческого ненасытства, то упиралось в неприступную стену его беспомощности. Две противоположности, где ожидаемое встречается с непреодолимым, никак не давали ему желанного покоя. Даже теперь, когда он хромал вслед за своим господином, стараясь не потерять его из виду, не отстать, а при возможности еще и подслушать высказанные вслух мысли, оброненные полуфразы, междометия. Сихора был мастером воссоздавать из них – из этих крох, которые, услышь их кто-то другой, так и остались бы незамеченными, – Кир'анифовы настроения, его потаенные планы.
Такое нелепое сочетание самого искреннего желания Сихоры служить при жертвеннике и терзающей – сладкой до решимости бросить все и вернуться – недавней, совсем еще свежей памяти рвали на клочки спокойное и в глубине мирное существо смотрителя священного очага. Ему виделись сменяющие друг друга спинки, ручки, слышались детские голоса… он все еще мог почувствовать бесследно – все больше и больше! – исчезающий их запах: бескрайних пастбищ, морских просторов и чего-то чистого, прозрачного, что остается надолго.
Сихора чуть не сбил с ног пробежавшего слугу-хеттеянина.
«Фу ты, – огляделся он, но тут же тысячью своих маленьких шажочков устремился вперед, боясь хоть на миг отстать от Кир'анифа. – Всегда так, задумаюсь, а потом стыда не оберешься… А если бы то был не раб, а… да мало ли кому взбредет таскаться по храмовым закоулкам! Так и до позорной таблички недалеко».
Сихора на мгновение остановился, представив себе, как бы смотрелось его имя на позорной табличке и как потом сложилась бы его судьба, но опомнился и заново стал оживленно хромать, при этом жестикулировать и даже как бы приплясывать. Однако его лицо снова изменилось, когда он вдруг подумал о покинутых им служительницах Астарты: потускнело, дряхлые складки приняли вид последнего запустения, нос жалобно вдохнул, выдохнув с гнетущим сожалением, с чувством вселенского одиночества, губы вздрогнули, глазки намокли и прослезились, лоб покрылся испариной, а борода поредела.
Но наверху, где он призван был подходить к священным углям, – там его начинал пробирать необъяснимый зуд: все казалось натянутым до предела, выставленным напоказ. Целый мир был не выше жертвенника – потянись и достанешь!
Теперь все из рук валилось – ощущение потерянного блаженства становилось нестерпимым. Мысли кружились, сменяли одна другую, желания прятались и вновь выглядывали своими острыми хамоватыми мордочками, имена забывались, события не помнились, настоящее не узнавалось, а будущее терялось из виду.
– Сколько сегодня? – своды подземелья завибрировали от неожиданного землетрясения. Кир'аниф говорил даже не громко, а как-то сокрушающе, после чего никаким возражениям не находилось места. В его голосе не было ни предположений, ни тем более сомнений – резко отрезанные слова осыпа́ли пораженных слушателей, будто тяжеловесный град из камнеметательных установок. Многие хотели выбиться в его приближенные, однако большинство из них терялось при первом же разговоре, суть которого всегда была одна и та же: любое «доброе утро», вышедшее из жреческих уст, воспринималось как приказ, и неисполнение его считалось худшим из худших проступков. Человека обуревало желание беспрестанно каяться, приносить жертву за жертвой, только чтобы гнев небес в виде ломающего все на своем пути «что нового в доме твоем?» снова не обрушился на его бедную голову.
Колени Сихоровы тряслись. Он не знал, как ему лучше стать, в какую почернее тень зайти, чтобы волнение и страх прикрыли свои более других узнаваемые лица. Смотрителю за жертвенником предстояло сейчас самое тяжкое, невыносимое – что-то ответить. Пока он подбирал нужные, как ему казалось, слова, он забывал о спокойном, уравновешенном тоне, без чего вместо ответа получился бы расшатанный навесной мост. Он начинал путаться, сбивался, делал огромные паузы, беспомощно вздыхал.
– Де-вят-над-ца-ать, – наконец простонал Сихора, при этом подумав, что был бы он простым рыбаком или кожевником, никто бы над ним не стоял и ни перед кем ему не пришлось бы робеть. «Видели бы меня мои славные проказницы!..» Ему представились их подведенные бровки с ресницами, уложенными одна к одной на манер новых модных веяний Фив. Они приветно глядели в его сторону, они звали его, манили. О, как ему не терпелось поддаться, чтобы окончить свои дни среди нежностей этих небесных жительниц! Они волновали его стареющее воображение. Они пели, розовыми плодами срываясь в самые потаенные дали горячей, сжигающей его бездны.
– Девятнадцать – это ничтожно мало! – гремел с еще большей неистовостью жреческий голос. – Девятнадцать хватит только на первые часы, а потом что? Тебя прикажешь приносить в жертву? Ты этого хочешь? Пустой кувшин вместо твоей головы. Тебя не дозваться – вечно пропадаешь в комнатах этих похотливых тварей!
Кир'аниф гневался. Возможно, утром ему не принесли свежей росы для утоления его святой жажды, а может, кушанья оказались не слишком хороши… Сихора некстати оказался рядом: все помойные сосуды испорченных настроений жрец, не задумываясь, выливал на него. Кир'аниф опрокидывал висящие на стенах светильники, наступал, растаптывал.
– О-о!!! Ваал-Зевул, сам усмотри себе жертву и не прогневайся на меня из-за этого олуха, который станет кадить курильницу скорее в честь дворцовых оргий, чем перед твоим жертвенником. Накажи его одного, а верных слуг твоих научи громко произносить твое имя, наводящее безумие на нерадивых и поклоняющихся другим богам.
Сихора не знал, когда ему лучше умереть – теперь, когда гнев божества еще не обрушился и не сломил его, или немного позже, став одним из тьмы черных насекомых, раздавленным, незамеченным, попавшим в водоворот.
– Девятнадцать!!! О-о-о!!! Ищи где хочешь – еще три раза по девятнадцать, и тогда… – жрец остановился, в его взгляде было озарение, восторг, экстаз, – тогда великий Повелитель мух сжалится над нами, тогда ему достаточно будет еды и питья – он насытится и утолит жажду. Сегодня все морские притоки должны окраситься в густой мрак.
Он приблизился к Сихоре, посмотрел на него, пыхнув спертым, будто из сырого погреба, дыханием:
– Кровь! – жреческие глаза налились чем-то туманным, что в одно мгновение застлало человеческое, осязаемое. – Кровь! – снова прохрипел он невыносимым скрежетом. То был уже не его голос, да и голос ли? Тяжелое, вымученное, будто тянул кто. Душу из раковины моллюском высасывал.
В моменты, когда Сихора не знал, что ему предпринять, он покусывал верхнюю губу, отчего она всегда была заметно распухшей. Вот и теперь он стоял, спиной опираясь на восходящие перила длинной, взлетающей в светлую высь винтовой лестницы. Верховный давно ушел – через четыре ступеньки взбежал, ни разу не остановившись. Смотритель жертвенника печально взирал на блистающий дневным светом выход из этого колодца.
«Как он быстро взобрался! И следа не видать. Был – и нет его. Глухарем выстрелил, камнем из меткой пращи…» Сихора топтался на одном месте, глядя на лестницу, на самом верху которой только что закрылась дверь за Кир'анифом. Ступенчатая спираль, выводящая на свет из глухой заперти душного, пропитанного сыростью подземелья. Сихора никак не решался сделать первый шаг: у него начинало стучать сердце, подкашивались ноги.
– Еще и еще столько же!.. – повторял он вполголоса, будто кто мог его услышать, – где я ему возьму еще и еще столько же?!
Его беспокойство могло заполнить эту высокую башню, взволновать случайных слуг, что вечно бегают то вверх, то вниз с зажженными факелами, с углями, с грязной посудой, одеждой, с пахучими и дорогими маслами для узников, – тех, кого сам верховный отобрал для праздничных жертв.
– Иноплеменники, – сказал с сожалением Сихора, – безбожники! Аммонитяне, хананеяне… Сыны Израиля поклоняются своему Яхве – этому воплощению гнева, идущего с пустыни, – а про истинных богов и не вспоминают.
Сихора с тяжестью поднялся на первую ступень.
– Ха! – усмехнулся он. – Яхве вывел их из Египта! А что, в Египте им плохо было? Зачем этот Яхве повел их в чужую землю? Если бы Он их так берег, как о том говорят, то не стал бы обрекать их на вечное странствование. Они назвали эту землю своей, но до них тут были другие. Смерчем налетели с пустыни, чертополохом, перекати-полем, муравьями, весенней саранчой. Мы тоже хороши: малыми показались нам дома наши на Кафторе! Надо было нам становиться чайками, чтобы, взмахнув крыльями, через столько штормов и затиший оказаться здесь – на чужом побережье, где мы уже не свободные пеласги, а гиганты-завоеватели, где уважают не нас, а наши быстрые суда и умение ковать и обоюдоостро затачивать меч.
А нынешняя молодежь! Разве может она сравниться хотя бы с тем золотым временем, что едва-едва застали мы? Теперь все не то! – тяжело дышал Сихора. – Теперь другие нравы: родители уже не в почете, основы и устои брака осмеяны. Если раньше молодой человек, чтобы жениться на понравившейся ему девушке, шел работать к будущему тестю, то сейчас он берет у своего отца столько золотых монет, что они покрывают его лень и бесстыдство…
Сихора посмотрел вниз. Потом вверх. Потом снова вниз. Остановился, покачал головой.
– Бессты-ыдство-о!.. – прокричал он в ладони, сложенные раковиной. Эхо разнеслось, наполнило полумрак, отозвалось полузвуками, в которых он едва различал целое слово: только длинные гласные – их подхватили невидимые птицы, беспорядочно летая из стороны в сторону. «Летучие мыши» – вспомнилось ему.
– Нет, невидимые птицы должны быть обязательно белыми, хоть и летают беспорядочно. Они, может, и вовсе не птицы, а… – он не мог подобрать нужного ему сравнения, снова посмотрел вниз, потом вверх, потом – снова вниз. Вздохнул, переставил ногу на следующую ступень, судорожно оттолкнулся, ухватившись за выступ перил.
– Вот и получается: от своих богов они не отказываются и наших принимать не хотят. А как можно приносить чистую праведную жертву, если в этой жертве нет ни капли веры в того, кому ее приносят!?. Ничего, я не стану говорить, кто они и откуда, – вырву им языки, и за верных, за добровольцев сойдут! Да, первенцы рождаются пусть и от благочестивых родителей, но их кладут в фундамент будущего дома живыми не потому, что они настолько праведные, что готовы сами пойти к Ваал-Зевулу, став его детьми, а потому, что родители их оставляют там для собственного же блага: для сохранения и освящения дома и всей семьи. Они думают, что могут купить божественную волю, принося Повелителю мух самое чистое – начало от всех своих начал, – что у них есть…
При каждом шаге вздрагивала и начинала бренчать продетая через толстый кожаный ремень связка Сихоровых ключей. Помимо жертвенника, ему было доверено еще открывать и закрывать всевозможные храмовые двери. Многие называли его ключником, другие – хранителем очага (бывшие здесь, в подземелье, – этак, а те, кто был там, наверху, – иначе). Сихоре по душе приходились названия его двух должностей. Ему нравилось быть ключником и хранителем очага. Он чувствовал себя нужным – человеком, который занимает свое место. Служение он принимал как дело всей своей жизни, тогда как, гремя вдоль длинных коридоров связкой ключей, он отдыхал от повседневности. Его посещали тайные, запретные для чужих мысли, мечтания, и Сихора снова становился самим собой: качелями раскачивался на воображаемых морских ветрах, превращался в белые тугие паруса, вскрикивал от переживаемого им удовольствия, подражая стонам голодных чаек, взмахам тяжелых крыльев уставших и мудрых альбатросов.
У ключника все колотилось в груди. Если бы не шаги и не сбившееся дыхание, то эта колотушка способна была бы покрыть собой любую встречную тишину. «Умы-валь-щи-цы!» – вдруг нараспев как-то проурчал он: рот, набитый клейкой слюной, не выговорил, а прошамкал, прожевал. Сихора вновь остановился. Глаза его светились внезапным: «А что если… – он боролся с одышкой, – ночных моих девиц поставить после рабов к жертвенным столбам?!».
Он ликовал: наконец он придумал, как усладить волю верховного. Он тщательно тер руку об руку. Его глаза были широко раскрыты, с его лба крупными каплями стекал пот. В нем было что-то от гения – от того, кто однажды сорвался с вершины, назвавшись Денницей. Сихора весь трясся от обуревавшей его лихорадки. Он был в этот момент богом; узкая высокая башня стала миниатюрной, долгота и тяжесть, связанные с подъемом по этому бесконечному винту, в один миг превратились в нечто легкопреодолимое, на что и внимания не стоит обращать. Сихора нагнулся, поднял камень – и вдруг ощутил, что может раскрошить его в прах. Но он этого делать не стал – хранитель очага был счастлив! Таким счастливым он давно не был. Лишь как-то в детстве, когда мать сказала ему: «Или ты идешь за водой, или я тебя выпорю», – а он ответил ей, что большей глупости еще не встречал; да еще потом, когда выбрал себе невесту из египтянок и она стала первой жертвой, которую он уговорил добровольно взойти к жертвенному столбу. С тех пор Сихора оставался один, а на всякий женский отказ приводил в пример «праведность» своей возлюбленной. О-о! – этот день он надолго запомнит.
– Сихора счастлив, – повторял он, легко взбегая, как верховный, по лестнице. – Сихора снова молодой, он умеет, подобно духам, летать. Сихоре неведомо уныние: в обличье девственном явилась ему сама радость! Радуйся, старый ключник, сегодня ты заново обрел сосцы матери! Радуйся, бедняк и проходимец, сегодня тебя оденут в пурпур, сегодня ты на алтаре Повелителя мух воскуришь благодарственный ладан!
4
Ворота Экрона! Каменные, чеканные. Торсы героев, баталии, инкрустированные золотом, серебром, чугунными с медными орнаментами. Ворота, не взятые штурмом, не сломленные камнебитными орудиями. Ворота, открытые для мирных горожан и приезжих, для царей и нищих, для пророков и проходимцев.
Их венчали высокие, широкие стены, выстроенные на века. Приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть их бойницы, в проемах которых мелькала вооруженная стража – с земли больше похожая на кукол, что вырезают из дуба мастеровые, лавки которых встретишь на каждом углу. Краснодеревщики разговорчивы: спросят-выспросят, откуда ты, с кем и зачем приехал в столицу поклонения Ваал-Зевулу. Разговаривая, вырезают, трут, скрепляют, чистят, после чего вдруг – так неожиданно – подают выточенную зебру, бегемота, медведя (это для мальчиков), цветок, грациозную лань (для девочек); а если глава семейства скажет, что они только с корабля – приплыли с Кафтора или что они так устали, покуда целую луну ехали из Дамаска верхом, как дикие погонщики верблюдов, тогда эти древоточцы вырезают танцующего Вакха, спящую строгую Деметру, корабль и много всякой другой всячины – искусной, дешевой, побрякушной.
Местные горожане узнаваемы сразу: статные мужчины, одетые в пестрые халаты (цветные павлины, поле радужных хризантем). Высокие тюрбаны колышут безветрие, наполненное базарными завываниями, смехом, громкими разговорами, спорами. Путник, вошедший в ворота, чувствует отдохновение. Он даже не понимает – так сразу, – откуда оно исходит, и только потом, когда вновь выйдет за городские стены, осознает, в чем именно заключалось его спокойствие. Там, позади, словно рассказанная, но не забытая сказка, останутся фонтаны, шумящие кроны персиков, прекрасные – бронзовые, высокие, полноватые – женщины: их осанка говорит о родовом величии, об их неприкосновенности. Они смотрят печально и скучно. Их взгляд туманен, их речи вялы, их души скрыты. Слой косметики затмевает молодость. Дорогими благовониями надушены их тела. В их печали запечатлены бессонные ночи. Возница тащит их повозку, носильщики несут носилки. Их ноги покоятся на золотых подушках, руки свисают, завернутые в богатый виссон. Они полны сна. Мумии, вызывающие у зевак зависть и пошловатые ужимки.
Паломники шли по начищенным до сияния булыжникам. Мимо проплывали пыльные, залитые дневным светом торговые лавки. Непрерывными рядами они начинали и оканчивали каждую новую улицу. Улицы таковы, что двое пеших бок о бок с трудом пройдут по этим узким, прорубленным, кажется, в монолитном камне туннелям, петляющим траншеям, лабиринтам. Шумный люд, для споров и торговли вспыхивающий, как осенняя трава, заполнял все и вся нависшим над головами гудением. Закроешь ладонями уши – окажешься в ином мире, где происходящее беззвучно. Зажмуришь веки – суматоха, неразбериха, виденные только-только тюрбаны, халаты… Все сливается в одно целое – в то, что еще есть, но гораздо меньше, незаметнее, затаеннее. Наставления отца, песчаные долины юга, собственная тень, раскачиваемая верблюдом. Ночью смотришь на огромные звезды – некоторые срывались и падали в бездну. Где она? Кто может указать на ее пределы? Ведь даже в самом глубоком колодце есть свое дно. Голова идет кругом – будто с лежанки падаешь.
Торговали свежим горячим хлебом и тут же стригли, завивали волосы на персидский манер – со множеством завитков. Случались такие умельцы, что длинную черную разбросанную по сторонам бороду превращали в благоухающие сады, пирамиды, вставляли туда блестящие лазуриты, монеты, вплетали шелковые нити, красили – в синий, желтый, красный. Оттенки, полутона. Богачи могли позволить себе завивку в виде лодок, городской башни, даже профиля возлюбленной. Особо благочестивые в эти праздничные дни просили сделать так, чтобы их метелки были похожи на рой копошащихся насекомых.
– Муху, – кричал один, – муху мне сделай!
– А мне самого Повелителя! – доносился другой голос.
– Мне завей храмовую лестницу…
– И волосы ему подстриги храмовой крышей, – смеялись вокруг, – а пьяный нос его пусть будет самим храмом! Пусть жертву нам принесет!
– Нет, – перебивали их, – его благовония – сикера с красным вином! Ладан его – смрад.
Бедный убегал прочь в надежде отыскать лавку цирюльника в каком-нибудь захолустье, где меньше народу и вообще где гостеприимный лавочник предложит глоток освежающего вина. Вслед долетали насмешки:
– Не забудь под лестницей выстричь наголо свой срамной алтарь!
– Беги, беги, пока будешь бегать, в зеркале не узнаешь себя – станешь ливанскими зарослями, а то и еще хуже – израильским пророком!
Тут все брались за животы, ибо каждый представлял себе этих людей пустыни с загорелыми лицами, с бельмами вместо глаз от слепящего солнца, покрытыми не кожей, а панцирем, завернутыми в шкуры. «От них вечно несет тухлым, испорченным», – говорили про них. Еще болтали, что они путаются в своих волосах, что их ногти сами ломаются, отваливаясь из-за невозможной длины. Всем своим видом они наводят страх и отвращение. Ими пугают детей: «Вот придет пророк из Израиля и унесет тебя!». От них отворачиваются, в их сторону бросают – потяжелее – камни.
Донеслись плеточные удары, свист, крики: «Разойдись!!! Все в стороны!!!». Люди, как могли, прижимались к стенам, сливаясь с ними. От уличной узости и без того нелегко было протиснуться сквозь выставленный наружу товар, сквозь идущую навстречу толпу. Когда же нарушала это пешее беспокойство повозка, то каким-то лишь чудом возница справлялся с упрямым мулом, с тюками, взгроможденными на спину животного, с переваливающейся с камня на камень тележкой. А тут – и не толстяк, и не пара волов: по улице мчалась колесница! Направо-налево взлетали взмахи бича, отчего попавшие под самый хлесткий удар падали, покалеченные, с окровавленными лицами, плечами, с перебитыми ногами. Колесница пронеслась вдоль рыбных рядов – перевернутые корзины с морскими карпами, скатами, выпотрошенными акулами, живыми крабами…
– А-а-й, – там и здесь слышны были вопли, – целая ночь в море напрасна! Пусть бы шторм поглотил меня, чем вернуться домой ни с чем. А-а-й, что скажут мне дети, когда голод запьют слезами? Ужель улыбнется жена, увидев пустой ремень? Что принесу им? Пыль или ветер промчавшейся колесницы?!
Сомхи успел отбросить вскрикнувших Елфу и Сулуфь в сторону, сам отскочил, прижав к себе Мару. Хлыст возничего задел его волосы, вырвав седой клок. Кузнец посмотрел на жену и дочь – те успели лишь испугаться. Прикрыл оголенную красную проплешину. Подумал: «Хорошо, вола оставил на постоялом дворе! Так бы ни за что не посчастливилось!».
– Целы? – спросил он перепуганным голосом.
– Слава Повелителю, защитил нас, – отряхнула запыленную одежду Елфа. – А я было подумала, что ты меня обнять хочешь.
Она опустила взгляд, ждала, что ответит муж. Сомхи молчал, только шептал что-то. Казалось, он и не слышал слов Елфы.
– Ваш господин сильный! – сказала, покраснев, Мара.
– Молчи, рабыня и дочь рабов! – язык Елфы стал ядовит. Она посмотрела на Мару взглядом, который говорил: «Выгнать ее взашей, хватит – прислужной подстилки ей мало, хочет на мужнее ложе возлечь».
Мара поняла, что ее любовь и благодарность Сомхи вызывают уже другие чувства, нежели раньше, когда он привел ее из похода. Женщины в доме с некоторых пор стали смотреть на нее косо: не разговаривают с ней, обличают, выдумывают про нее всякие небылицы. «Господин не верит слухам, он любит меня. Всегда буду служить ему!» – в сердце решила для себя Мара и вновь посмотрела на Елфу – гордо, без чувства вины.
А та всю дорогу до самого храма бранила ее: все она не так делает, раньше была служанка служанкой, а теперь вовсе от рук отбилась, непонятно, что и делать с ней.
– Из дома выбросить жалко, но и не всю ведь жизнь кормить тебя! Пора и самой находить. Мужа тебе искать… А коль работать не умеешь и молодостью бедна, то и знай себе – не лезь без причины, пока не позовут. А то заимели особенности…
Мара молчала, тихо шла, снося каждое слово, будто удар колесничего. Елфа щедра была на колкости – так и сыпалось из нее. Между тем они все ближе подходили к храму. Дорога становилась круче, они поднимались. Позади оставался тонущий в пыли и закате город.
Экрон! Город городов, царствующий над многими. Нет равных тебе, среди других не отыскать подобного. Колодцы освежат лицо твое, и утренняя влага омочит высокий лоб. В тебе нет раздора, гонений. Храмом взметаешься выше орлов, величием – выше Ливанских гор. Вавилон с Дамаском не стали бы препятствием на пути твоем. По правую руку – море, по левую – земля Израиля, пустынная, бедная. Против тебя – ни воины, ни землепашцы. Падут от руки Повелителя мух, ускорят свой шаг и побегут. Мечи их сломаются о стены твои, копья их – о кованые ворота. Где враги твои? Были они, а может, и не было их?
– Вот и дошли! – лицо Сомхи светилось, охваченное вдруг нахлынувшим счастьем. Он походил на пророка, на мессию или на того, кто в одно мгновение лишился разума.
Каждый год в праздник Повелителя мух Сомхи не мог устоять, дивясь красотой и богатым убранством храма. По всей земле нигде, за исключением покинутого его предками Кафтора, не было ничего подобного – только здесь, в Экроне, куда вместе с пеласгами переселились и их боги. Облака задевали храмовую черепицу. Во всех пределах Амалика и Иевусея, на снежных ливанских и скальных синайских вершинах о филистимлянах говорили: «Величием своим они поднялись до подножия богов».
Сомхи стоял, не шелохнувшись, онемев от недвижимости монолитных, как думалось издалека, стен. Мастера, посвященные для строительства, вырезали храмовые плиты из цельных мраморных пластов: в нише одной такой плиты могла поселиться семья из пяти-шести человек.
– Смотри, смотри!!! – слышалось со всех сторон многотысячной толпы, что скорым течением несла семью кузнеца к священной лестнице, по которой поднимались те, кто уже прошел очистительные обряды.
Отсюда, из разноцветия одежд, белые платья, возносившиеся над общим гудением, медленно плыли к заветной цели – невидимому жертвеннику.
– Смотри, – слышалось то там, то здесь, – храм-то еще больше, чем мы думали!
– Точно, – подхватывали рядом, – думали – до небес, а облака – вон, и до кровли не достают!
Паломники хоть и отличались, но все же походили один на другого: крашеные – в синий, красный, желтый – волосы, пестрые балахоны, что и одеждой трудно было назвать. Многие стояли с корзинами, доверху наполненными разноцветным песком: при каждом восшествии нового, переодетого в белое, из корзин на головы впереди и сзади стоящих летели щедрые жмени, окрашивая все и вся вокруг. Новые и новые оттенки, невиданные, невозможные цвета. Сочетания, всплески, павлиньи хвосты. Знакомые не узнавали друг друга, отплясывая ритмы беспрерывных танцев, смешиваясь в сплошное густое, нашпигованное диковинными специями блюдо. Вздохи, аханья, рычание, плач, дикий неудержимый смех. Гу-у-у-у-ул!!!! – внезапно его становилось меньше – и тогда весь мир затихал, вся вселенная… И было слышно, как стонет, как в венах стучит наковальнями вспененная, загнанная жизнь, как жужжит… А лишь только общий слух улавливал ослабевшее кисельное жужжание, толпа, будто тяжелая бешеная волна, вновь набирала уже созревшую мощь. Где-то там, в самом конце, катилось, нарастало… От тех передавалось этим – от тела к телу, от тихого горения лучины до сокрушающего все выдоха, ошеломляющего экстаза – туда, к стоящим, к беснующимся впереди. Ах, горячо! В одном ритме сольются. Кроны и корни – кто сверху, а кто внизу? Звезды – изранят ноги, земля – коснется выкрашенной головы! Вверх дном – муха ходит по потолку. День – ночь. Смешение и стыд под заклятием! Девы с юношами роятся, жужжа и целуя рожденных тут же детей – личинки. О, Повелитель, приди, прильни, прими…
По лестнице поднимались один за другим вычищенные до равнодушного лоска в белых длинных накидках на голое тело. Медленно восходя, отсчитывая ступеньки, он или она слышали позади раскаты дикого рева: там, наверху, появился кумир – почти не видная маленькая, игрушечная фигурка, облаченная в золотые ритуальные одежды. Шумело море – филистимляне и здесь походили на чаек, на быстроходные суда, на поднятые паруса. Рев разливался, расслаивался на отдельные голоса, то вновь сливался в один, мало похожий на человеческий… Рев. Белые балахоны скрывались в поглощавшем их золотом свете.
А оттуда по прошествии времени спускались уже красные, вымазанные жертвенной кровью жрецы, готовые в порыве религиозного счастья растерзать любого, кто попался бы под руку: зрачки бегали, закатывались, руки тряслись. Они плевались, отхаркивались, блевали, выкрикивали, призывали, бредили. Каждый знал: к пришедшему «оттуда» лучше близко не подходить. Бывало, когда и семилетний ребенок – из послушников-учеников – рвал на куски здорового мужчину-воина. Идущие от жертвенника несли в себе ту силу, которой сторонились, боялись. В наполненных кровью глазах, в перекошенных от хрипа губах не узнавался брат, муж или сын. К такому дня три старались не подходить – он жил в пустыне вместе с другими, в которых узнавал нечто схожее: они так же хватались за волосы, кричали, царапались, катались, бились оземь, блеяли…
Многие заковывали своих родственников в цепи, но те скоро вырывались, калеча себя или просто как детскую игрушку разрывая цепные кольца размером в кактусовый инжир.
Ни по прошествии положенных трех дней, ни после, когда человек возвращался назад в семью или в храм, он не был уже такой, как когда-то прежде. Все чаще проявлялись – резкие, туманные и быстрые во взгляде, в движениях, в разговоре – видимые отклонения. Зачастую человек сам не выдерживал, не понимая, что с ним происходит, и вовсе уходил – селился далеко в пустыне, питался диким медом и сушеной саранчой, ходил голым и до конца дней своих кричал, хрипел, валялся в ломавших его припадках. О нем говорили, что Повелитель мух взял его душу. Его родственники старались замечать вокруг себя всех жужжащих насекомых – считалось большим грехом убить муху.
На соседа могли донести: мол, тот прихлопнул божество – нечаянно или нарочно. Этого было достаточно, чтобы на следующий день прийти и спокойно поселиться в его хижине. О странном исчезновении старых хозяев вспоминали недолго…
Говорили: «Жизнь филистимлянина дорога́, но если рядом с ней поставить жизнь мухи, то первая окажется выше второй… на весах». Много говорили, оплакивая безумных родственников, которые там, на вершине храма, увидели нечто такое, что уже никому не расскажут.
***
– Кто благочестив остался в народе сем? – на лестнице показалась красная фигура Сихоры. (На самом деле то были белые одежды, под чашами приношений принявшие цвет искупления, царский и в то же время позорный цвет.) – Кто пойдет сам к жертвенному столбу и навсегда очистится от своих заблуждений? Кому не жаль отдать свою дочь, жену или служанку? Кто подарит великому Повелителю мух своего первенца? Если есть такие, значит, жива еще вера филистимлян! Жив Ваал-Зевул! Живы пеласги!
– Жив Ваал-Зевул, – подхватили тысячи голосов, – живы пеласги!
Золотые, лазурные лиры. Тимпаны. Руки, запястья, кожаные с золотыми браслеты. Кольца, мелькающие пальцы. Движенья змеи – петли, хлесткие удары, на каждый вдох ритм, ритм на выдох, ритм, ритм. Бедра – выпад. Резко. Вправо, влево. Не оглянуться – в едином марше, в одном биении – в трещотке бедер, запястий, колец, браслетов. Красные, голубые, желтые – бороды, брови, волосы. Крашеные щеки, носы. Губы – с пеной у рта (как в детстве – когда с капелькой молока засыпал…). Белые взгляды – зрачки месяцем закатились. Шаг! – бейте руки в тимпаны; шаг! – тело трещит погремушкой; шаг! – в стороны, в стороны! Голос – хрипи, надрывайся: не повседневный – иной. Недра, затерянные болота, с другой стороны – полуночной, лунной; источники, рвитесь наружу, червями, жителями подземелий выходите из заточений, схороненными духами воскресайте из недр! Ноги, стоптанные до самых подошв, ноги, стоптанные до кости. Боли нет, боль – радость, падающие светила. Тела в едином горении; черной коркой роговой венчающий дым, огонь. Шаг! – останься, стань одним из нас. Шаг! – развратный жар, священный пляс. Остановись, отдай себя, бесовской пляскою звеня. По лестнице – к Ваалу жертвой устремись, отдай, скорми, оставь себя.
– Кто праведен еще? Для бога Зевула кто честен? Кто прячет за спиной первенца, говоря: «Может, боги нам дали единственного сына, и если мы отдадим его, то придется влачить нам старость в одиночестве?». Кто мужа своего выдает за брата, боясь увидеть назавтра супружеское ложе опечаленным? Говорю вам, боги лучше знают, в чем вы нуждаетесь и от чего нужно отказаться. Сегодня богам нужна жертва!
Сихора прорычал: «Нужна жертва!» – а дальше согласные с гласными, слоги, отдельные фразы вырывались из его гортани на срыве, в засасывающей одержимости: «Ваа-а-ал-Зе-е-еву-ул на ва-а-ас зе-емле-ей кри-и-ва горба-ата его-о спи-ина-а затме-е-енье-е при-идет и я-я-я обра-ащу ва-а-с в киша-ащую ста-а-юю…».
Тело Сихоры выгибалось, ломалось. Он то выбрасывал в стороны руки, то запрокидывал голову, скалился, обнажая белые зубы, рот, мочился вокруг себя, царапал свое лицо, выл, бранно ругался, тонул сначала в осознанном, а потом в поглотившем его забытьи.
А тем временем, проходя мимо него, поднимались десятки и десятки крашенных с ног до головы человеческих фигур. Никто из них не оглядывался, шаг за шагом уходя все дальше, скрываясь в клубах дыма, в осадках черного пепла. Ступив на лестницу, они превращались в одно – в жидкое, против всяких законов течения текущее вверх. В дребезги, в битые глиняные осколки, в крошки, в ранящие черепки.
Рвется наружу роем, густым маревом. Из собственных губ – оттуда, из самого нутра, где так долго – целыми поколениями – накапливалась, дождевой водой гулкие заполняя колодцы, безбрежная, с ума сводящая пустота.
– Душно, невыносимо душно, – взмолилась Елфа, – у нас был кувшин молока, где он?
– Его разбила треклятая колесница! – выбившись из сил, ответил Сомхи.
– Перестань трястись, – Елфа заплакала, не обращая внимания на ритмично танцующих.
– Шаг! – Сомхи грузно притопнул, пытаясь развеселить жену. – Мы найдем воду, не волнуйся. Скоро должны окончиться жертвы. А вечером мы поедем домой.
Елфа оглянулась:
– Где наша дочь, Сулуфь? – Неподалеку в большом смешанном хороводе стояла Мара, однако Сулуфи не было видно.
– Жена моя, – заговорил Сомхи, – наша семья отныне станет благословенной. Дочь нашу я отдал Ваалу. – Сомхи закружился в порыве какого-то необъяснимого восторга: – Зевул! – прокричал он, – приими нашего первенца! Благослови дом Сомхи, черными тучами насекомых защити его от ненастий, других детей подари нам. От всякого начала – тебе. Приими дочь нашу – начальник всяких начал. Прислужницей своей пусти ее в дом свой. И нас не забудь, отдавших тебе в жены самое дорогое, что было у нас…
Елфа локтями расталкивала людей, пробираясь к лестнице. Ее останавливали, сыпали на голову краски, вовлекали в хороводы, обнимали, валили на землю. Елфа – в оцепенении, в охватившем ее порыве отчаяния – вырывалась, отстраняя от себя таких гигантов, перед которыми в любое другое время она бы склонила голову или сама сняла с себя брачные пояса. Стоны вырывались из ее груди. Не видя лиц, она дико, по-зверски пробивалась вперед. Оставались последние ряды. Она перешагивала лежащих, наступала на них, вовсе не отличая горы сваленных одежд от живых или полуживых тел. Она видела лишь лестницу, устремляясь к ней. Рыдала, тяжело дыша. Натянутым нервом, зудом, раненной птицей спеша, ломая, круша и плача. «Сулу-уфь! Сулу-уфь!!!» – кусками отрывала от себя Елфа.
Чудовищными усилиями она наконец добралась до лестницы, ступив на один путь с теми, кто – добровольно или нет – поднимался к жертвенному столбу. Однако не так, как прочие, которые медленно шли, неспешно перенося ногу с одной ступеньки на другую. Со стороны могло показаться, что нехотя отделялись они от общей массы, от близких, от земли – к небу. На самом же деле большинство из них готовилось к этому решающему восхождению чуть ли не всю жизнь: кто от собственного благочестия, кто исполняя обет, данный Зевулу за то, что тот исцелил, помог, сжалился, простил, привел путешествующего, защитил сражающегося, уберег, сохранил… Сколько просьб!
Через ступеньку, через две быстрыми, энергичными движениями… Скоро Елфа стояла уже у самого верха. Все плыло перед глазами – одышка, жара и черный дым застилали сознание, не позволяя сразу прийти в себя. Постепенно сердцебиение успокоилось, намокшая от пота одежда прилипла к телу и здесь, наверху, даже освежала, обдуваемая морским бризом. Взору Елфы предстал – жертвенник!
– Так вот он какой… – подумала она. – Мало кто может сказать, что видел его вот так, на расстоянии в несколько шагов.
И действительно, только избранные могли подойти так близко – верховный жрец, смотритель жертвенника и еще прислужники. Конечно, были и простые смертные, которые сподобились увидеть этот каменный в половину человеческого роста столб, но еще никто из них не возвращался.
Алтарь так прочно стоял на мраморном полу, будто имел продолжение, корнями, основанием уходя глубоко – к самому храмовому фундаменту, к земле, к ее центру, где души бесчисленных жертв никак не могли отойти от места своего… обмана. Над всеми ними возвышался великий и ужасный Ваал-Зевул. Зловонная слизь огромными каплями падала на их головы, при этом стаи черных жирных точек садились, пожирая любимое свое лакомство. Повелитель мух исторгал из себя злость, говорил и дышал ненавистью. Его раздвоенная звериная морда скрывалась под слоем могильного грунта, его лапы упирались в дремучую холодную бездну. Вдоль его чешуйчатого тела проходила дрожь.
Души кровью стекали до основания жертвенника, держались за него, пропитанные страхом: не отпустить последнюю надежду, ускользающую нить. Они вспоминали свое недавнее земное детство и ту пуповину, что привела их из утробы в жизнь. Теперь все было похоже, но только иначе – навыворот. Они еще чувствовали себя живыми, слышали звуки… Держались за корень, не отпуская, моля, впиваясь уже не существующими ногтями в сказанное минуту назад слово, в побагровевшее только что закатом небо. В корень, в самое жало. Их прикосновения возбуждали, заставляли божество извергать палящую все на своем пути лаву. Там, наверху, жертвоприношения доводили Зевула до эпилепсии – он дрожал, извивался, жалил, брызгал во все стороны гнойной слюной, слизью, сотрясал недра земли. Жертвенник же – от самого его основания до видимого столба – был не чем иным, как Вааловым детородным членом! От самых корней – вверх по всей толщине твердого каменного ствола до завершения, до неистовства, до безумства – игрища, вакханалии, шабаши… – тысячелетняя, неутолимая похоть.
Только здесь Елфа поняла, что всю жизнь они поклонялись бесам! Кир'аниф уже заносил длинный тупой нож над Сулуфью. Сихора стоял рядом, сотрясая воздух руками, выкрикивая, выхрипывая непонятные слова. Прислужники кругом обступили жертвенник, заклинаниями все громче и громче повторяя: «Ваал-Зевул, те-бе же-на, во-зьми и пей, и стань од-ним, всели-ся в плоть, зач-ни, зач-ни, же-ну сож-ри».
Нож опустился и вновь поднялся. Еще живое, но смертельно раненное тело Сулуфи быстро сняли с жертвенника и унесли. Тут же положили и привязали другого. Те же бормотания, хрипы, заклинания… Нож опустился и вновь поднялся. Сняли и унесли…
Елфа не могла прийти в себя – она стояла, будто оглушенная чем-то внезапным, большим и очень тяжелым. На минуту она закрыла глаза, почувствовала щемящую боль, рвоту. Твердая поверхность исчезла из-под ее ног. Она внезапно провалилась – туда, где реальность кажется более ощутимой. До нее можно было дотронуться – еще немного и… Ах, так и не дотянувшись, упала, сорвалась вниз. Мгновение, долгое и неприятное. Спиной – погружение. Если бы она видела, что там. Перевернуться! Так голова кружится! Не могу – ведет по кругу, по длинной спирали. Водоворот, воронка. Первое проникновение. Ушная раковина – слышу.
Елфа очнулась. Под собой она почувствовала что-то теплое, мягкое, но в то же время плотное. Все еще кружилась голова, слабость и озноб не давали опомниться. Она не понимала, где она и кто оставил ее одну. Одновременно она испытывала и неудобство, и жажду, и чувство затаившегося страха. Елфа попыталась привстать, опершись на руку… которую тут же – с брезгливостью – отдернула, будто ошпаренная: ей показалось, что она оперлась на человеческое лицо, на горбинку носа, по щеке соскользнув до волос, до воскового плеча.
Сознание в ту же минуту вернулось: Елфа лежала среди – сколько их тут! – других, брошенных, как и она. Кто-то из них стонал, но большинство не подавало никаких признаков жизни. Сюда сбрасывали тех, кто, не дождавшись своей участи, падал в обморок или умирал от разрыва сердца.
Дрожащими руками Елфа снова попыталась опереться, чтобы привстать. Сердце бешено колотилось, она не могла вдохнуть. Она подняла голову, огляделась. Слева, за невысокой перегородкой, был жертвенник. Жрец поднимал и опускал широкие рукава; круг прислужников, лестница, все новые и новые… все новые и новые…
Справа – десятки столбов-колов, на пики которых вздеты черные шубы. Шубы вздрагивали, заметно копошились. Елфа не понимала, что происходит. Что угодно, только не эти чудовищные догадки… «Это не шубы…» – проговорила она холодными белыми губами.
Прислужники установили еще один столб. Вынесли и положили рядом новую, раненную в грудь жертву. Ловким отработанным движением от плеча до плеча. На солнце мелькнувшим лезвием. В два счета – опомниться не успел – гиматием, шелковым скользящим халатом стянули. Изнанкой вывернув. Кожу. Оставив красным зияющее пятно – вытаращенные глаза, вмиг поседевшие волосы.
Такого крика Елфа еще никогда не слышала: пронзительный, безысходный.
Прислужники подняли, руками за спину привязали к столбу. Отошли. С нетерпением ждут – примет ли жертву пьяное тучное божество.
Постепенно, одна за одной, волнами, стаями, роями. Садятся, прилипая. Тысячи – тьма! Прислужники галдят от радостного восторга – именно так Зевул пожирает предложенный ему дар. Кровью они помазывают свои лица, грудь, задние проходы, члены. Обнимаются, валятся на землю. Облизывают друг друга, становятся на четвереньки, входят, входят, входят друг в друга. Крики смешиваются со стонами, боль – с наслаждением. Человек – источник собственной боли, которая есть самое высшее Ваалово наслаждение!
От смердной вони у Елфы закатывались глаза – вот-вот сорвется она туда, назад, откуда только недавно… Цепляясь за сваленные в кучу тела, Елфа двигалась будто подстреленная цапля, что, перебирая крыльями – культями, костылями, уходит от преследователя в чащу, от его чуткой собаки – в густые заросли.
Выносят другие столбы, вбивают, от плеча до плеча надрезают, снимают, ставят, руками за спину связывают. И вновь облако черной мерзости: совсем скоро они покроются плотной коркой, толщиной в локоть – вся эта масса будет подвижной, словно болотная топь, гать или кисельное варево. Рои мух перелетают от одного столба к другому, позади оставляя лишь обглоданные пустые глазницы, в которых так скоро сменились любовь, недоумение, ужас.
Елфа не оглядывалась – по отлогому склону спустилась вниз, легла на прохладный вечерний песок. Долго молчала, созерцая первые звезды. Ей казалось, будто Сулуфь из облачной пелены смотрит на нее. «Завтра пойдет дождь. Осень – ливневая пора!» – только и прошептала она, стараясь не помнить, думать о другом, ни о чем под мерное постукиванье завтрашнего дождя, теряясь из виду.
После Зевуловых празднеств еще с полгода по городу ползали жирные мухи, удостаивавшиеся особого почитания среди религиозного люда: некоторые прикладывали их к больным, порезанным или зараженным местам. После великого приношения в храме можно было купить таких мух за очень большие деньги. Всякий, кто их приобретал, обязывался беречь свое сокровище, а сам пользовался почетной славой побывавшего в священном паломничестве. Богачи содержали собственные рои. В огромных закрытых клетках – молитвенных домашних комнатах – они приносили им куриц, кроликов, фазанов, а если строился новый дом и в семье рождался первенец, то считалось особым благословением оставить в фундаменте детские кости. Сколько поколений жило потом в этом доме, в памяти храня имя того, чья жизнь стала залогом жизни целого рода!
5
Кир'аниф не спал – дремля, поминутно проваливаясь, вздрагивая от малейшего шороха. За последние несколько лун ему редко удавалось уснуть – всю ночь ворочался, думал, однако мысли его больше походили на бред: он бормотал бессвязное – заклинания, имена, кого-то просил остаться… Садился на постель, звал наложниц. Те приходили – умащенные благовониями, танцевали для него, сбрасывая с себя немногие ленты, что скользящими росчерками, срывающимися слизнями, заигрывая, похотливо падали к его ногам. Однако верховный жрец, не обращая на них никакого внимания, забывался, холодно, неподвижно уставившись на дымящую в углу кадильницу. Будто бы перед ним раскидывалась неохватная бездонная пропасть, в которой он старался различить хоть что-нибудь, но – так ничего и не узнав – видел свое лишь собственное отражение, обрюзгшее и надменное, старое и злое.
– Горе мне, – тихо произнес Кир'аниф, – я подхожу к черте моих дней.
Жестом он приказал танцовщицам выйти. Музыка, бубенчики с монетами, крепленные за пояса на тонких талиях, за блестящие браслеты на запястьях и на ногах, за ленты, вдетые в волоса… – в один миг все стихло. Девушки и псалтирщики с гуслярами вышли. Жрец остался один. Он долго еще не приходил в себя, взором оставаясь там, где совсем недавно кружила, извиваясь, молодая наложница.
– У самого края, – ему будто являлся каждый произносимый им слог, – у са-мо-го…
Вдруг он резко повернулся:
– Кто здесь? Я же приказал всем удалиться! – в его голосе угадывалась брезгливость: нужно дважды повторять тем, кого он вовсе и за людей не считал.
– Это твой покорный слуга, – подле завесы, что отделяла опочивальню от остальных жреческих покоев, стоял на коленях, припав головой к земле, Сихора.
– Что тебе нужно? – с не меньшей брезгливостью спросил верховный.
– Не гневайся святым гневом твоим – пришел я не напрасно тревожить твое уединение.
– Говори, червь!
Сихора еще больше приник к земле, готовый слиться с ровной поверхностью мягкого, стеленного поверх ковра.
– Прибыл гонец от властителей великого нашего Пятиградия.
– Суть дела толкуй, змея изворотливая!
– Ханун из Газы, Митинти из Аскалона, Азури из Азота, Ахимити из Гефа и правитель Экрона Акиш передают тебе привет и пожелания долгих лет твоей благословенной жизни.
– Сихора, если ты и сейчас не скажешь, зачем пришел, то завтра же увидишь нового смотрителя жертвенника… – Кир'аниф немного помолчал, – с жертвенного столба.
«Сехмет, Чемош, Кимерис… – Сихора перебирал имена всех прислужников, кто бы однажды мог стать на его место. – Кто еще? Адрамелех? Эту обезьяну, с утробы матери метившую себя в блюстители жертвенника? Как может верховный сравнивать меня с этим отродьем! А Чемош, а карлик Кимерис? Они же посмешище, а не прислужники. Слепо исполняют все, что прикажет им Кир'аниф, но не потому, что благочестивы, а потому, что хотят выслужиться. Я же их как прозрачных вижу! Если владыка – просто оттого, что он слишком занят, – не замечает их алчности и готовности сожрать друг друга из-за малейшего знака внимания к их гнусным личностям, то я не собираюсь отводить глаза в сторону – всех выведу на чистую воду! Давно пора разоблачить их мелкие заговоры. Метят, значит, в блюстители жертвенника! Все четверо! Из-за доброты своей владыка их все еще кормит. Ничего, падет и на их головы справедливость! Потому и не любят правду, что она обнажает: весь ты на виду, все на тебе изъяны открываются, все прыщи гнойные, мысли худые, дела неправые…»
– Властители Пятиградия передают тебе, великий Кир'аниф, весть о том, – голос его дрожал, – что Израиль снова восстает против нашего мира. Не желает делить с нами земли Ханаанские. Войной идет на нас, бронзовыми пиками вооружив свою мощь, именем Яхве умножив силу свою…
Сихора не успел договорить, запнулся, ибо навстречу – он видел идущие на него огромные, что бегемотовы лапы, жреческие ступни – широким шагом, преодолевая пространство от ложа до завесы, надвигался развевающийся халат и у самой склоненной Сихоровой головы вдруг остановился, иначе смел бы в прах и в пыль Сихору и все, что бы ни встретилось на пути. Халат тяжело дышал. Блюститель жертвенника ждал грома, который сейчас, вот сию минуту, ударит, раздавив его, как лежащую на дороге лозу дикого винограда. Пот градом скатывался, соединясь в быстрые ручейки, пропитываясь сквозь одежду, капая на пол. Что-то животное было в Сихоровом страхе, что-то необъяснимое, до конца не осознанное. Он весь превратился в куколку, изнутри пожирающую свое зимовье затем, чтобы, освободившись, стать добычей игривой кошки, подслеповатого мухолова.
– Созывай людей! – донесся неожиданный, спокойный и уравновешенный голос Кир'анифа. – Все мужчины Экрона, способные держать копье, пусть будут готовы. Собери их на храмовой площади. Даю тебе одну ночь.
Сихора поднял голову вслед удаляющимся шагам. Попятился, плотно закрыв за собой завесу. Верховный жрец лег на постель и тут же – впервые за такое долгое время – уснул.
17
Израильтяне тогда еще не знали секретов плавки железа.
18
В Синодальном переводе – Аккарон.
19
Арабы, от эрэв или арав – «вечер» (евр.).
20
Одним из самых древних на земле центров пивоварения считается Египет.
21
Мама (евр).