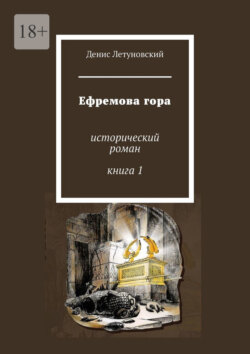Читать книгу Ефремова гора. Исторический роман. Книга 1 - - Страница 5
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРИЗВАНИЕ
Глава третья
ОглавлениеВ скинии проходили обычные будни, для одних – томительным испытанием, для других – ежедневной работой, а для иных – праздником. Длительные (за тяжкие грехи) всесожжения молодых телят или обычные, «нищенские», как их тогда называли, – горлиц с голубями.
Илий держал перед собой три меры пшеничной муки22: белый цвет символизировал чистоту сердца и помышлений. В муку́ еще накануне добавили ладан, чтобы, сгорая, она воплощала благоуханность возносимых молитв и выражаемой благодарности. Перед тем как попасть в руки первосвященника, мука тщательно проверялась, чтобы там случайно не оказалось ни крошки квасного теста. Оно считалось олицетворением нечистых помыслов и всякой греховности. Мука солилась для дольшей ее сохранности. Для самого же дарителя соль была символом предохранения его от какой-либо порочности. Вливалось некоторое количество оливкового масла. После сжигания священники брали остатки жертвы себе в пищу.
Слезы покаяния высохли, тук животных с костями и кожей сгорел. Дарители с миром ушли по домам своим. Левиты отдыхали у бассейна омовений. Полуденный жар одолевал настолько невыносимо, что описания погоды – как, например, «жарко», «душно» и прочие – были бы ничтожны по сравнению с действительностью, когда время плавится и растягивается, а любая твердая под ногами земля мягчает, становится трясиной.
Жара в холмистых степях Ханаана совсем не такова, как на севере, у Ливана. Здесь – в пределах Иудиных – она неподвижна. Масло!
На земле существует такая тишина, которая поглощает любой звук, внешнее проявление. Объятый ею, чувствуешь себя оглушенным. А когда пообвыкся – познал, насколько проще перешагивать дни и недели за стаканом мятного чая, всматриваясь, вслушиваясь, внимая… нежели проживать их. Особенно же несчастны те, кто отдается на волю мучительного поиска занятий или развлечений. С натянутыми на глаза бельмами, они идут наощупь, терзаются назойливой идеей утолять без конца – про запас – свою жажду.
1
Во дворе скинии Самуил спрашивал первосвященника:
– Илий, ты служишь Богу… Скажи, какой Он?
Священник размеренно отвечал:
– Среди живущих Ему нет равных. Он бессмертный, но Его бессмертие не исходит из магических заклинаний, которые предлагаются на всяком базарном углу. Его бессмертие – это Его сущность. Те, кто идет путем Божьим, не вкусят забвения.
– А что такое забвение?
– Это медленное, напрасное существование, похожее на умирание.
– Скажи, есть ли у Бога имена? – Самуил во все глаза смотрел на священника, впитывал каждое его слово. – Или сказать, что Он бессмертный, – уже значит назвать Его имя?
– Нет, это одно из наших представлений о Нем. Просто сказать, что Он бессмертный, – не сказать ничего, так как Его имя всегда превосходит наши о Нем представления.
– Зачем представлять?
– Иначе, увы, человек не может.
– А что представляешь ты?..
В таких разговорах проходило учение Самуила: каждый день после утренних жертв Илий беседовал с милым его сердцу отроком. «Мой мальчик» – называл его Илий. Самуил возрастал в годах и в премудрости. Вместо игр со сверстниками ему ближе были белый эфод, священные песнопения, запах ладана и вот такие беседы с его другом и наставником.
Илий так и не успел ответить. Он оглянулся: Офни и Финеес вышли прочесть начальные молитвы для будничного хлебоприношения. Во дворе скинии стояли женщины. Склонив покрытые головы, они просили или молчали. Старались подражать размеренному раскачиванию верблюжьих погонщиков – сквозь непроходимую бездну пустыни вдевают они себя вместе с уставшими животными в огромное – не обхватить – игольное ушко. Ах, наряд получится на славу – жених придет, с собой заберет! Прощай, ожидание, девичьи безделушки-забавы. Соткана скатерть – в приданое суженому еще вот поле и там – до самых холмов. Богатое приношение, рад будет милый.
– Слушай, Израиль! Господь един… Господь, сильной рукой выведший тебя из Египта… – раскачиваясь, наскоро проговаривал Офни. Ему не терпелось поскорей окончить обряд и возлечь в тенистой прохладе… Ему мерещились холодные напитки, замороженные кусочки дыни, сочных манго. Полные чаши дамасских вин, лень, успокоительный сон до самого вечера.
«А там снова, – думал он, бормоча слова молитвы, – вечерняя жертва… Только бы всесожжений не было, а то опять до ночи… Не выспишься… А завтра…» – ему представлялись уже не прохладные вина, не спелые фрукты, а его ежедневный непосильный труд священника – овны, горлицы, козлята молочные… Пшеничные ефы, пригоршни… Ведра выливаемой на землю крови… Сжигаемые жир, кости… «Когда же всему этому наступит конец?! Неужели Богу это нужно, неужто Ему на самом деле приятно вдыхать весь этот смрад, всю эту копоть? Верить, конечно, нужно, и без веры во что-то высшее нельзя управлять народом, да и самим людям необходимо чувство собственной никчемности, преклонения, позорного рабства. Но зачем же вот так, когда вера… не общение с божеством, а перечень каких-то непонятных и никому не нужных обрядов. Есть, говорят, земли, где не так жарко! Не понимаю, как можно обманывать свой народ, говоря, что на этих раскаленных пустошах текут молоко и мед? Просто Богу, наверное, нужно было завоевать земли Ханаана, вот и нашел простачков, которые поверили и как проклятые сорок лет таскались по пустыне, направляясь не в райские, как оказалось, кущи, а в душное, потное, с египетским схожее батрачество».
– Что же это такое?! – Финеес в отчаянии бросил на ситтимовую подставку свиток закона, потряс руками, будто смахивая прилипших слизких червей. На его лице одновременно отразились разочарование, испуг, отвращение. – Куда скрыться от этого зноя? – Он быстро взглянул на брата. – Офни, бросим эти глупые всесожжения. В таком мареве лучше сладкое вино сном разбавлять, чем сжигать падаль. Кому нужны эти угли, пепел, завывания? Право, наши похабные песенки я бы сейчас куда лучше погорланил! – Он улыбнулся какой-то странной, заговорщицкой ухмылкой. – А хорошо бы еще эту богомолочку взять с собой!!! – Понизив голос, Финеес кивком указал в сторону, где, не глядя на остальных, самозабвенно, руками прикрыв лицо, плача, молилась маленькая девочка.
Финеес смотрел на своего брата, в мыслях уже прокручивая спектакль, который он устроит сразу после жертвоприношения, чтобы поскорее уединиться с ней и до самого вечера не слышать ни шофа́ра23, ни старой псалтири.
– Эх, – сгорал он от нетерпения, – я бы с этой молоденькой… Глупышки считают за честь отдаться священнику. Смотри, Офни, она уже вся изнемогает! Давай я подойду к ней прямо сейчас, быстро ее охмурю, а ты пока позови служку, чтобы он приготовил ложе, да пусть не задерживается, не то, как в прошлый раз, обмажем его золой, в сандалии насыплем битого стекла и пустим по двору. Будет бегать, крича: «Илий, праведный Илий, я – демон высохшего Азазела! Я пришел потрясти тебя за бороду и сказать, что именно так великий дух пустыни поступает с козлами, которых ты к нему отпускаешь…».
Оба захихикали.
– Ты только взгляни, брат мой Офни, на эту дурнушку! – сказал вполголоса Финеес, продолжая наизусть бубнить свою часть утренних молитв.
– Дурнушки только на расстоянии манят к себе. Вблизи же они вполне заслуживают своего прозвища.
Офни развернул следующий по уставу свиток.
– Что ты такое говоришь? Не строгое ли благочестие сделало из их миловидных личиков бездушные маски? А если верить поговорке, то дурнушка вспыльчивей любой красавицы.
– Ты, брат мой, хочешь поживиться легкой добычей, – не отрываясь от скорого проговаривания, ответил Офни.
– Зови как угодно, я только хотел сказать, что красоту найдешь скорее в откровенной уродливости, чем в ней самой.
– Ты становишься похожим на странствующего пророка.
– Надеюсь, – широкая улыбка Финееса открыла его белые зубы, – не на Божьего, иначе мне бы пришлось покончить со всем интересным, что только можно найти в этой жизни.
– Нет, нет, ты похож на гадалку, которая даже за час до твоей смерти будет говорить, что «звезды настроены к тебе благодатно…».
– Замолчи, смотри, она идет прямо к нам. Ты продолжай читать, а я расспрошу ее, что бы ей хотелось получить от молодых священнослужителей…
От приносивших «нищенскую» жертву отделилась девочка, совсем еще дитя. С головы до пят она завернута была в грубый холст, что указывало на обездоленность ее родителей. Ребенок подошел к священникам. Офни и Финеес отвернулись, полагая, что она – как это делали многие другие бедняки – станет просить даром принести козленка или овна. Братья не переставали смеяться, однако предметом их насмешек стала уже ее простая одежда.
Девочка подошла и, глядя прямо на Финееса, сказала:
– Своими громкими голосами вы мешаете: мо́литесь тихо и непонятно, а гого́чете один другого слышней!
И вернулась на свое прежнее место.
Братьев охватило оцепенение. Такая дерзость со стороны бедняков, да к тому же высказанная ребенком, и ко всему прочему девочкой, была неслыханной. Их лица налились кровью, они бросили жертвенник и, не договорив положенных молитв, обрушились на нее со жгучей, ядовитой, тонкой, искусной и колкой бранью.
– Кто ты такая и кто родители твои, чтобы делать замечания ставленникам Божьим? Не была ли душа твоя еще мертва, когда нашими устами уже приносились Богу молитвы и славословия? Не вправе ли мы позвать стражу, чтобы выставить вас за пределы святого сего места? Такое ли тебе дурное воспитание смогли дать твои грешные родители? Такое ли имеешь ты уважение и благоговение к тем, кто молится, чтобы сей нечестивый род оставил пути неправедные и ходил перед Богом путями заповедей, данных вам через Моисея?
Офни обращался ко всем, ибо другие тоже оставили свои приношения и наблюдали, чем обернется выходка дочки какого-то нищего.
– Как же нужно не чтить заповедей, чтобы попирать их! Попирая заповеди, вы отворачиваетесь и от Самого Бога. Кто позволил тебе и всей твоей неблагочестивой семье войти во святилище? Неужели наступают последние времена, когда каждый, кому вздумается, станет поучать тех, кто призван быть мерилом Божьего законодательства?..
Офни мало понимал, о чем говорили его уста. «Главное, – думал он, – сказать погромогласнее, пострашнее, чтобы сразу поняли, кто здесь достоин иметь свое мнение, а кто нет».
– Если вы, – сокрушительно продолжал он, – уже не боитесь заговорить со священником – слышащим и вершащим волю Господа, то скоро вы перестанете преклоняться и перед волей самого Всевышнего. Да истребится душа ваша из народа, ибо лучше одному отпасть и погибнуть, чем заразить всех своей нечистотой.
– Отныне, – вмешался Финеес, – подобные выходки будут пресекаться следующим образом… – он хитро подмигнул Офни. – Будь то женщина или мужчина, или старец, или юноша, или девушка, или младенец, – он показал на девочку (она, казалось, вовсе не обращала на них внимания и, преклонив колени, что-то неслышно произносила, положив руки на голову матери, лежащей на носилках и не имеющей сил подняться), – …да, или даже младенец, – повторил он, – каждый такой нечестивец будет очищаться самим священником в его покоях.
Офни даже вскрикнул от удовольствия после такой неожиданной мысли брата.
– Мы, священники, – продолжал Финеес, – идем на такое с нашей стороны послабление, дабы устранить нечестие из среды народа, с которым сам Вседержитель и Сотворитель мира вступил в завет Свой. Ни с кем из других знакомых нам племен: ни с Амаликом, ни с Ханааном, ни с филистимлянами – ни с кем!!! Только с нами – народом святым, из которого Он нашел Себе одно колено, достойное предстоять Ему перед престолом Его!
Финеес так увлекся своей речью, перейдя на крик – на срыве, на тех нотах, когда голос перестает быть естественным, но превращается в нечто сорванное, со множеством трещин и ссадин, с кривым разломом, с зазубринами, – что не заметил, как Офни подошел к стоящему на коленях ребенку.
– Ты хорошо говоришь, брат мой! – сказал он. – Позволь, я прерву тебя ненадолго и отведу эту заблудшую душу в священнические покои, где сам, без посторонних, растолкую ей, в чем именно она заблуждается и какими действиями можно избежать положенного за такое нечестие наказания.
– Мой господин, – промолвила девочка, – не обижайте моей чистоты. Я рождена, чтобы познать моего мужа, и его одного. У нас с тобой, господин, один Бог, Которому ты служишь. Опомнись, солнце нагрело тебе голову и ослепило твое сердце.
Офни схватил девочку за плечи, быстрым и сильным движением поставил на ноги. Мать смотрела на них, но не могла промолвить ни слова. Один раз в год дочь могла скопить достаточную сумму от продажи сладкой манны, которую она в одиночку собирала на далеких пустынных равнинах, чтобы нанять носильщиков, которые принесли бы ее мать в скинию, и чтобы оплатить самую нищенскую жертву. Два голубя и меру пшеничной муки… Как жалко благочестие бедняка, как убого оно… Как искренне!
– Оставь ее и продолжай то, что делал!
Офни быстро и нервно оглянулся – кто еще отыскался, чтобы дерзить и не уважать священнический эфод?
Говорил Самуил. Он спокойным, но уверенным, увесистым шагом все более приближался к Офни, пока и вовсе не поравнялся с ним.
– Оставь ее, говорю тебе, и продолжай начатое. Ты священник, а не судья, чтобы судить пришедших не к тебе, а к Богу. Оставь, говорю тебе, ибо одним ты намереваешься покрыть другое, куда более худшее, чем «хула» на твой запятнанный эфод.
– Чем же это он запятнан?
– Всем, чем угодно, только не кровью святых приношений.
– О чем ты говоришь – ты, сын Елкановой Анны, что до встречи с нашим праведным Илием была неплодной? Святой старец… – Офни оглядывался, как бы ища поддержки, говоря громко, а Самуил спокойно и грозно смотрел на него. – Наш святой старец, – выкрикивал священник, – уговорил ее уединиться с ним во святилище, и тогда уже через год родился ты, маленький выскочка! Тебе ли указывать на то, что я начал и не окончил? В наказание… ты сам возьмешь эту несчастную, и вы вместе будете меня дожидаться в моей опочивальне. Там я вам обоим преподам урок наивысшего благочестия.
Офни сиял от того, что смог с честью вывернуться и перевести гром на самого громовержца.
– Твои речи лживы, как и ты сам, – Самуил смотрел в глаза Офни без смущения, без злобы, осуждения или мести. А священнические зрачки становились непомерно большими, округлыми и, как вздувшиеся от водопоя черные буйволы, наливались желчью, вскипающим гневом, кровью.
– Отпусти ее!
– А если я не отпущу ее, а воспользуюсь ею прямо здесь, в присутствии всех, включая ее расслабленную мать-нищенку, которая не сможет вступиться за свое чадо? Что ты мне тогда сделаешь, кто посмеет помешать мне, неужели слепой Яхве вступится – Бог, жертвы у Которого самые богатые… Конечно, не такие… – он искоса и с пренебрежением посмотрел на маленькие голубиные тушки, потом на мать и девочку.
– Вы не Богу приносите жертвы, а себе! Вы не Богу служите, а потому и не Богу вступаться за вас тогда, когда выйдет срок вашему веселию, когда опустошатся хранилища терпения Господа и вскроются тайники правды, и не будет больше имя Яхве попираемо, и умолкнет язык, произносивший дурное. Гортань ваша кормила сердце ваше нечестием и злодеяниями, праведностью вы плевались и пищей отравленной отхаркивались. Вы небо положили под спуд, а недра земные и вонь подземная стали для вас светилами. Доколе тьма будет называться светом?!! – Самуил взял девочку за руку, продолжая смотреть в бегающие глаза Офни. – Сколько вам еще гадить, сколько развращать и без того полное сомнений и неверия тоскующее по Богу сердце?! Уймитесь, оставьте ваши пути, ведущие в погибель. А коли вы, сильные и знающие истину, намеренно гибнете, то не тяните за собой слабых – тех, кто не знает.
Во дворе скинии воцарилась наполненная, густая, осязаемая тишина. Замерло, не решаясь и шагу ступить… Что замерло? Само ожидание. Такое сложное, неразрешимое. Натянутое струнами умолкнувших гуслей. Что угодно, только не ожидание!
Офни пошатнулся, все еще – лихорадочно, зачарованно – глядя в спокойствие Самуила. Сделал шаг в сторону, отступил. Странно было это движение. Странно и непонятно и одновременно понятно и предсказуемо. Зрелый муж, борода которого до половины закрывала крапленный частыми красными пятнами белый эфод, и двенадцатилетний отрок. Поединок продолжался недолго. В сердце Офни он с тех пор положил непримиримую обиду, превращенную в сгусток, в сухой, колкий, вызывающий спазмы с болью проглоченный комок.
Финеес подошел к брату, стал возбужденно что-то шептать – с присвистом. То с презрением взглядывая на сидевшего в глубине скинии Илия, то бешено – на Самуила, который успокаивал, уверял и отказывался от мелких монет бедняков, что одновременно были их слезами и благодарностью.
* * *
Илий был весьма стар и слышал от людей и видел своими глазами, как поступают нечестивые его сыновья. И наставлял их Илий, говоря:
– Зачем вы делаете такие дела? Зачем сердце свое и сердце всего моего дома порочите? Народ говорит о вас худые речи, а вы спите с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания, и многих отвращаете от жертвоприношений Господу. Если согрешит человек против человека, тогда покается он, помолятся о нем и простится ему грех тот, но если согрешит он против Бога, тогда кого назовет он заступником своим, кого призовет в свидетели, чьи речи оправдали бы его?
– Тебе предначертано созидать, – отвечали сыновья. – Посмотрим, какой ценой заплатит тебе Бог за то, что ты не сберег дом свой! С самого детства, – перебивали они один другого, – ты был противен нам: твои призывания к праведной жизни заключались лишь в строгом соблюдении постов и бесконечных никому не нужных молитв.
Финеес кричал:
– Даже голос твой, любая вещь, принадлежавшая тебе, вызывала в нас отвращение!
Офни подхватывал:
– На льняных эфодах мы устраивали такие оргии, которых ты никогда не видел. Почему на них? Да потому что ты называл их «святыми», вот почему. Нам хотелось испачкать все, к чему прикасались твои праведные руки. Единственное, чему ты нас действительно научил, так это ненавидеть тебя, эту проклятую скинию, эту ежедневную мясорубку и Самого Бога. За своими приношениями и за своим благочестием ты так и не узнал, кто такой этот Бог! Ты никогда не видел Его. Посмотри, к чему привела твоя слепая вера – ты воспитал нас в ненависти! В наших поступках виновен ты один!!! Ты отравил наше существование, и за это – именно за это, а не за наше нечестие! – дому Илия пришел конец. Смерть стоит у ворот его и забвение – на заднем дворе его. Мы стали мечом, подсекшим мышцу твою. Ты же всегда считал себя на духовной высоте, думая, будто мы ничего не смыслим в том, что творим. Ты глуп, отец! Твоей глупости нет ни сожаления, ни прощения. Дом Илия гибнет из-за горделивого сердца, которое думало, что оно – праведно.
– Теперь ты все знаешь, – говорил уже не так громко Финеес. – Мы, в отличие от тебя, честны перед тобой. Да будет вся наша жизнь проклятием твоим жалким сединам. Знай, отец, никогда еще мне не хотелось с такой желчью плюнуть в твое постное лицо, как теперь! Убирайся прочь! Дни твои и дни наши сочтены.
– Иди к своему нагулянному с Анной праведному отроку, – сказал Офни. – Морочь ему голову своими правилами и запретами. Иди, а нас оставь наконец в покое!
Братья ушли, а Илий стоял, опустив руки и ожидая неминуемой смерти.
* * *
– Я молился за тебя, мой мальчик, – сухо произнес Илий, закашлялся и шепотом добавил: – За тебя, Самуил, а не за них – моих сыновей. Они в позор и в погибель мне. Их нечестие – печать на главе моей, горький уксус – речи их. Предложит Господь мне чашу нечестивого зелья на судном дне! Как откажусь от приношения? Кому медовое утешение, а кому горящий затылок.
Илий перевел дух, собрался, будто (пробираясь сквозь длинные лабиринты и выпустив из рук на мгновение размотанный до самого выхода клубок) вновь обретя потерянную им нить:
– С самого первого дня – с того самого дня, когда твоя мать возблагодарила Бога за подаренное ей материнство, – я молился за тебя. Вот, ты уже совсем взрослый. Но знаешь, ты взрослый не потому, что достиг возраста посвящения, а потому… – Илий взглянул на небо, словно увидев нечто закрытое для других. – Лев сойдет с твоей дороги, жало змеи не причинит тебе зла, копыта диких ослов не обратятся в твою сторону. Передаю тебе Божье благословение! – Он положил руки на голову отрока. – Мое благословение предназначалось для Офни и Финееса. Теперь оно в полной мере и без остатка в сердце твоем и на главе твоей. Неси его и будь благословен в роды родов. Пусть будет имя твое спокойствием для обижаемых и утешением для заблудших. Грядущий Мессия пусть родится от чресл твоих, руки твои да коснутся стоп Его и глаза твои да узрят славу Его. От ловчей сети избавлять будешь попавших в силки и от слов мятежных убережешь уста нечестивых и уши праведных. Пусть столп огненный с облачным шествуют впереди и позади тебя. Молитва твоя да будет чистой. Во все дни жизни твоей знай: Господь – Бог твой! Ходи вслед заповедей Его, и слушай голос Его, и следуй словам Его.
– Мой господин… – Самуил хотел сказать, что он ничем не заслужил благословения, но первосвященник движением руки остановил его:
– Только там, где Бог, может спокойно быть сердце твое. Бойся оставить Господа – такая потеря не возместится ничем. А когда тебе будет казаться, что Бог оставил тебя, – священник по-отечески улыбнулся, – знай: это так же невозможно, как если бы твой дядюшка Илий сегодня впервые надел урим с туммимом24.
Самуил молчал, обливался слезами и целовал, целовал и целовал сухие, морщинистые руки первосвященника.
Когда они простились, Самуил отправился по своему обыкновению ко Святому-святых, где находился ковчег Божий. Он проводил там не только каждый день, но и устраивался на ночь у самой завесы, кладя в изголовье дровяное полено, ложась на тонкой циновке и накрываясь благословениями Илия и молитвами Анны.
Вдруг покрытая – до глаз – капюшоном человеческая фигура стала на пути его.
– Прошу, – проговорила она знакомым Самуилу голосом, – выслушай меня. Просто несколько слов, и я уйду.
Самуил слушал, узнав этот тонкий девичий голос.
– Минуя стражу, я пробралась в скинию, чтобы еще и еще отблагодарить тебя. Никогда ни мать моя, ни я не забудем той милости, которую ты сегодня сделал для нас, защитив сироту и вдову. У меня нет отца, чтобы вступиться за нас, но Бог воистину слышит скорбящих сердцем! Каждый год мы приходим возблагодарить Господа за милость и все благодеяния, которые Он посылает нам. Несмотря на нечестивость этих коэнов25, сегодня я еще больше поверила и доверила всю свою жизнь Богу, ведь Он – Бог живой и потому никого не принуждает к святости – ни Левия, ни другие колена.
– Какие странные слова ты говоришь, – вглядываясь в капюшон, произнес Самуил. – Кто научил тебя?
– Никто не может научить тому, что Бог Сам открывает. А ты спрашиваешь меня об этом, а не о том, кто я и откуда я родом, потому что и сам ищешь Божьего откровения… В следующем году, если Всевышний даст сил и здоровья моей матери, мы снова будем здесь. Тогда я приду в возраст, когда я смогу открыть тебе мое лицо и значение имени Эстер… – моего имени!
Так же быстро и неожиданно, как появилась, она исчезла – растворилась в вечернем стрекоте цикад и в мерном ритме грубых шагов храмовой стражи. «Эстер» – Самуил внимательно и с каким-то замиранием повторил имя. До него все еще доносился нежный ее голос.
– Эстер!.. – не шепотом, будто из полусна, но вслух – не оглядываясь, не заботясь о том, что его могут подслушать, проговорил он. Имя ее – счастливое. Лампа, наполненная маслом, – на обозрение всем, на радость. Надежда странника, водительная звезда. Звучит, поет, оберегает, следует за ним – имя! Открытая ему навстречу душа, необыкновенное присутствие…
Самуил почувствовал свежий, едва уловимый запах – утренний. Да, ее имя очень походило на запах – распространявшийся до самых оград у шатра скинии и дальше – через пустыню, минуя холмы, пещеры и редкие на пути оазисы. Так далеко, что лишь херувимам, хранящим ковчег, под силу прозреть. Эстер! На всю ночную округу, на весь спящий Силом, на всю далекую Раму, на все Святое-святых, задернутое сплошной завесой, – Эстер, Эстер, Эстер!..
2
Утром, когда едва начало светать, из покоев Илия донеслись заспанные старческие «что?» и «когда?» вперемежку с оживленными мужскими возгласами:
– Говорю тебе, Илий, стоит у ворот и требует говорить с тобой!
– Кто требует? Зачем?
– Не знаю кто, а зачем – объявил, что будет говорить только с тобой.
Все больше Илий понимал происходящее – сон уже не владел его ве́ками, ночные мечтания оставили его.
– Каков с виду? – решительно спросил Илий у левита.
– Абсолютно наг, – отвечал тот, едва поспевая за первосвященником. – Без единого лоскута одежды. На нищего не похож, на безумного тоже.
– Чего он хочет? – снова спросил Илий, однако на этот раз ответ ему был известен: его ноги дрожали, сердце сжималось невидимыми клещами – в безудержной спешке он еле переводил дыхание, в страхе замирал, боясь услышать недобрую весть.
– Сказал, от Бога он, с тобой говорить хочет. Передавать ничего не пожелал – «с первосвященником, с Илием говорить буду!».
Левит развел руками, как бы в оправдание: «Не мог удержать».
– От Бога он, – повторил.
– Впусти его!
Илий остановился. Он тяжело дышал. Склонил покрытую старческим инеем голову, готовую принять суд от нежданного вестника. Нагими ходят пророки или безумцы. Нагота пришельца – пророческая, драгоценные же одежды Илия скрывают лишь наготу безумца. Вся жизнь – служение, чаяние, ожидание. Позор и падение. До основания стертая память, земля, вымытая из-под ног.
– Как же впустить, когда наг? В святое-то место!?
– Не место, а Бог свят, – уже спокойно, смирившись, ответил Илий.
– Гнать таких проходимцев надо!
Левит помог ослабевшему старику опуститься у самых ворот на седалище, с которого Илий встречал и провожал людей, ежедневно говорил с ними, наставлял, просил прощения за сыновей.
– Открыли срамное свое, – продолжал левит, – возомнив себя пророками. Так и каждый может. А ты их всех выслушиваешь. Может, один-два и будут праведниками, а с остальными что делать? Остальные ведь – голь, трава перекатная.
– Вот и увидим, проходимец он или пророк. Если трава перекатная – не задержится, а если и вправду посланник – грех не выслушать.
Служитель скрылся. Долгое время ничего не происходило. Утро все более красило стены: тяжелые полотнища из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, множество золотых крючков. Вышитые на узорчатых покрывалах крылатые ангелы глядели друг на друга – безмятежно и непрестанно, словно они были не гневным глаголом Пославшего их, а бездушным творением рук человека.
– Оставь меня!
– Первосвященник еще почивает.
– Нечего спать – конец грядет!!!
Тяжелый, удушливый – не-ет, даже не запах – смрад! Клубы пыли, взъерошенные, нечесаные, длинные, комьями плелись по земле, подворачивались под ноги, цеплялись за камни, колючки. Волосы (с застрявшими щепками, всякого рода всячиной – от почерневших, сухих, перетертых листьев до муравьев, гнездящихся в них) разметанными копнами торчали во все стороны из тощего обугленного черепа, который смотрел на первосвященника широкими, до белков раскрытыми пронзающими, палящими стрелами.
– Седалище, – сквозь зубы процедил он, – на котором ты спишь, сломит тугую выю твою. Падешь от лица правды – от сбывшихся на тебе слов Господа. Умрешь бесследно. Наречется другое имя дому твоему – возмездие за неправду! Посмотрят на стопы ног твоих, и вот – не ходили они заповеданными путями. Прахом дымятся они вместо угодных Господу курений. На челе твоем – несмываемая печать. Руки твои подняли и опустили ношу. Ты сказал в сердце своем: «Что я могу сделать?» – забыв об обете Господнем, Который клялся дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона.
– Но, – пролепетал Илий, – Божий человек, что я на самом деле могу сделать?
– Ты оставил волю Бога, – уже в полный голос гремел посланник. – Он избрал колено твое Себе во священники, чтобы ты восходил к жертвеннику Моему, чтобы воскурял фимиам и носил эфод предо Мною. Зачем ты попрал вверенные тебе сжигаемые огнем жертвы всего дома Израиля? Ты в прах истоптал Мои хлебные приношения, Мои всесожжения. В угоду злому нечестию твоих сыновей ты оставил пути Мои; отвернувшись в сторону их голосов, звенящих разбитыми черепками, ты проклял дом свой навеки.
– Н-н-на-ве-еки-и… – рыбьим, немым ртом в сердцах повторил Илий. Перед ним предстало будущее, и «навеки» вдруг явилось неопровержимой, снявшей с себя покровы истиной.
– Знай, даже не в их сторону глядело сердце твое, но так ты думал уйти от суда, сказав в себе: «Это мои дети. Господь помилует их за меня». Говорю тебе: нет милости Моей на доме твоем, суд Мой скоро вершится. Вот, наступают дни и уже наступили, в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. Я не уберу у тебя всех от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Было время, когда сказал Я, что ты будешь ходить пред лицом Моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены.
Илий покорно, будто врастая в землю, опустил голову. Сидел, тяжело дышал, не мог встать. Он даже не поднимал глаза на пророка – рассеянно рассматривал свои кожаные сандалии, пахнущие маслами, которыми натирают обувь от порчи, – чистые, с блестящими по бокам застежками.
– И вот тебе знамение, – пророк вознес над головой костлявую руку.
Илий хотел было взглянуть на него, но невыносимое солнце ослепило его, и он, до боли зажмурившись, снова опустил уставшую голову.
– Офни и Финеес, оба они умрут в один день!
На склоне лет зрение притупляется, но открываются глаза настоящие – не поддельные, не слепые. Шеол в том, что грешник перестает быть слепым: увидев и познав Любовь Твою, он слышит плач и скрежет зубов.
«И поставлю Себе священника верного: он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником Моим во все дни».
Илий рассеянно огляделся. Вокруг никого не было. «Человек Божий», «проклятие», «суд нечестивым»… Все перемешалось. Зной так палил его голову, что в забытьи он чувствовал одновременно и не отпускающий его сон, и стук в висках, и желание пить. В голове роилось, а страшные слова ни на минуту не умолкали.
3
– Самуил, – тихо произнес Илий, – я люблю слушать твой голос. Расскажи мне что-нибудь.
– Что же рассказать тебе? – спросил Самуил, взяв первосвященника за руку.
– Мальчик мой, так недолго осталось нам… Господь скоро заберет меня. Помоги мне.
Они подошли к постели старика. Священник лег, а Самуил присел рядом.
– Глаза мои, – сказал Илий, – стали закрываться, скоро и вовсе закроются. Слово Господне редко в дни наши – я больше не слышу Его, не вижу славы Его. Господь, прежде чем забрать душу мою, отнимет память, разум и очи духовные. Ты видишь, – Илий погладил Самуила по длинным прямым волосам, – а если еще не видишь, то скоро Господь откроется тебе, и дух мой, более мне не служащий, сойдет на тебя, и в славе Господней откроются глаза души твоей.
Священник перестал говорить, жестом руки попросил Самуила погасить лампу. В полной темноте отрок снова присел на край постели. Мрак долго еще стирал границы, оставленные мерцающим огоньком, пока и вовсе не окутала опочивальню черная заводь. Самуил, сначала робко, слово за словом начал рассказывать:
– Один человек хотел найти на земле место, где бы его не настигла смерть… – по ногам отрока протянуло легким сквозняком, и чуть погодя он продолжил: – Этот человек пошел высоко в горы. Долго, много дней карабкался, и вот, увидев вершину и подумав, что нашел желаемое, сорвался со скалы в море и только чудом остался в живых. Тогда человек решил, что, если бы он упал не в воду, а на камни, смерть бы точно пришла за ним.
«Вода надежнее камня защитит меня от погибели», – сказал он и отправился в плавание. Но вот ночью, когда он спал, случился шторм. Лодка опрокинулась. На двух деревянных обломках от судна он выплыл на берег. «Да, – сказал человек, – смерть может найти меня и высоко над землей, и даже в воде».
Тогда он отправился в пустыню, подумав, что в далекие пески не то что смерть не доберется, но и вообще никто, потому что там никто никогда не жил.
Много лет он шел и поселился в такой глухой пустыне, где даже ветра не было слышно. По левую руку его лежали песчаные дюны, а по правую – снежные сугробы. «Это край земли, – сказал он. – Здесь я смогу жить вечно».
К нему прилетали птицы – чайка с севера и ворон с юга, принося ему пищу: лед и хлебные зерна. Он растапливал воду и пек пшеницу. Так он жил долго, радуясь, что пришел туда, куда мечтал прийти. Но однажды к нему прилетели лебедь и летучая мышь. Он спросил у них: «А где чайка и ворон?» – и лебедь с летучей мышью ответили: «Они умерли».
Человек опечалился и рассказал им всю свою историю.
«Это правда? – спросила летучая мышь. – Здесь действительно нет смерти?» «Правда», – ответил человек. «А можно и мы с тобой останемся?» – спросил его лебедь. «Тогда кто нам будет приносить пищу?» – в ответ спросил человек.
Лебедь и летучая мышь улетели. Как и прежде, они приносили ему зерна и воду, однако лебедь с того времени начал о чем-то думать. Иногда его мысли не давали ему покоя, тогда он весь день и всю ночь плакал, повторяя одно и то же: «Почему? Почему? Почему?».
«Что ты всегда спрашиваешь „почему?“, – спросила его однажды летучая мышь, – и всегда плачешь? Ты изменился, ты уже совсем не тот лебедь, которого я раньше знала». «А ты! – закричал на нее лебедь. – Как ты можешь спокойно жить, когда ты знаешь, что скоро умрешь?!» «Но я это знала всегда, да и ты это всегда знал», – спокойно ответила мышь. «Да, я всегда это знал, но теперь, когда я знаю, что где-то есть земля, куда не приходит смерть…» Лебедь не договорил – залился плачем и поминутно упрямо всхлипывал: «Почему? Почему? Ну почему?..».
Во взгляде лебедя появилось что-то нехорошее. Он стал как-то косо смотреть на летучую мышь. А однажды они прилетели к человеку, когда пустыня только-только покрылась росой. Лебедь сказал, что больше не может так, что ему было бы легче, если бы он не знал о существовании такого места, как это.
Человек ответил ему: «И я был таким, как ты, – всю жизнь искал то, что в конце концов нашел. Но ты не можешь остаться здесь, и дело даже не в том, что некому будет приносить нам пищу. Ты не можешь остаться здесь, потому что ты должен найти свое место. Оставшись со мной, ты умрешь, так как здесь – место только моего бессмертия. Получив вечность, я обрел одиночество».
«Ты лжешь, – возразил лебедь. – Из-за тебя рухнули мои самые сокровенные надежды, о которых я никому прежде не рассказывал».
Он улетел и никогда больше не возвращался. Летучая мышь как-то сказала человеку, что видела в зарослях камыша одного подстреленного лебедя, но не была уверена, их это знакомый или другой.
А человек сидел и думал, что, обретя свою мечту, он сделал несчастными многих других. Тогда ему стало ненавистно его собственное бессмертие. Он вновь переплыл море, в котором когда-то тонул, перелез гору, откуда некогда сорвался, и пришел к себе в дом. С тех пор его сердце обрело спокойствие: он больше не боялся смерти, которая однажды придет за ним. Ему нравилось смотреть на чаек и воронов, он выходил к реке кормить длинношеих лебедей, а по ночам ему чудилась далекая пустыня, песчаные дюны и снежные сугробы.
22
Хлебное или мирное приношение-жертва.
23
Музыкальный инструмент (бараний рог), в который и по сей день трубят при встрече еврейского Нового года (Судного дня), во время важных и знаменательных событий.
24
Урим и туммим были одним из трех, наряду со сновидениями и пророчествами, дозволенных способов предсказания будущего. Как выглядели урим и туммим, никто не знает, но многие связывают их с бросанием жребия.
25
Священников.