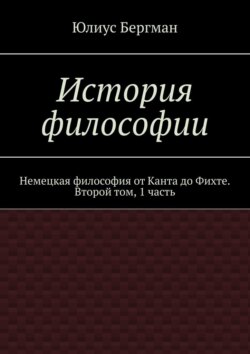Читать книгу История философии. Немецкая философия от Канта до Фихте. Второй том, 1 часть - - Страница 4
Первый раздел. От Канта до Фихте включительно
I. Кант
2. О суждениях критики
ОглавлениеВ связи с обоснованием и развитием идеи критики разума, изложенной выше, можно прежде всего усомниться в правильности того взгляда на метафизику, из которого она исходит. Действительно, метафизика до сих пор стремилась к знанию, которое нельзя извлечь из опыта, которое случайно для разума, и что в отличие от математики и чистого естествознания она не ограничивалась наукой о тех формах и законах предметов опыта, которые могут быть познаны a priori. И в этом тоже придется согласиться с Кантом, что это стремление к гиперфизическому знанию не было случайной аберрацией разума, а возникло из потребности в нем, которая заложена в его природе, в отношении которой можно быть уверенным, что она заявит о себе и в будущем и с которой наука должна, следовательно, каким-то образом примириться. С другой стороны, нельзя отрицать, что метафизика, поднимаясь над случайным для человеческого разума характером того, что дано нам в опыте, а также над необходимыми абстрактными формами и законами того же самого, чтобы ответить на вопросы, связанные с понятием бытия, Он утверждает, что оно отворачивается от всего, что нам вообще дано, и придерживается только тех понятий, к которым разум приходит после того, как абстрагируется от всего данного, и которые поэтому могут относиться только к миру, абсолютно потустороннему и никак не совпадающему с данным миром. Во всяком случае, Картезий, Спиноза и Лейбниц не были такого мнения. По их мнению, метафизика отнюдь не абстрагируется от всего данного, а только от того, что случайно для нее в данном; и то, что оставляет после себя эта абстракция, есть, по их мнению, не просто формы и законы, а конкретное бытие-в-себе, а именно Я самосознания. В Я-сознании они видели источник врожденных идей, а к ним принадлежали метафизические понятия, в отношении которых они, следовательно, никогда бы не признали, что они не выведены из наблюдения и что разум, имея с ними дело, покидает данный мир.
Допустим, однако, что против описания метафизики Кантом ничего нельзя сказать, что эта наука действительно отказывается от всякого наблюдения, но из этого еще не следует, что ей должна предшествовать наука, определяющая a priori возможность, принципы и объем всякого знания. Если, как учит сам Кант, разум неумолимо, не будучи побуждаем к этому одной лишь суетой объективного знания, движимый своей собственной потребностью, идет к вопросам, на которые стремится ответить метафизика, – если эти вопросы возникают не из какого-либо инстинкта, направленного на познание, не из необоснованных предпосылок или предвзятых мнений, а из природы всеобщего человеческого разума, то метафизика, как и другие науки, имеет право без лишних слов взяться за решение своей задачи и продолжать работать над ней в соответствии с общими правилами научной процедуры до тех пор, пока не достигнет точки, дальше которой она может продвинуться только с помощью знания, которое должна дать другая наука, но которое еще не дано ей. Столь же мало, как и задача метафизики, из ее предыдущей судьбы можно извлечь доказательство того, что она должна начинать с исследования способности разума к знанию того рода, к которому она стремится. Если бы, в самом деле, что также можно оспорить, ее усилия до сих пор были простым нащупыванием, если бы ее предыдущие попытки действительно были совершенно безуспешными, если бы всякий, кто снова брался за ее план, должен был начинать все сначала, этого все равно было бы недостаточно, чтобы оправдать требование, чтобы все метафизики воздерживались от новых попыток, пока не будет проведена критика способности разума к метафизическому знанию.
Ведь, как отмечает сам Кант, математике и естествознанию удалось присоединиться к марширующей науке только после долгого периода спотыканий. Но и успех не доказал правоту Канта. Ведь никогда философия не была так лишена самообладания спокойно и уверенно продвигающейся вперед науки, как в период ее истории, начавшийся с «Критики»; никогда она не напоминала больше поле боя, на котором ни один боец не смог прочно закрепить за собой победу.
Точка зрения, согласно которой всем попыткам удовлетворить потребность в метафизическом знании должна предшествовать проверка способности разума к этому, «хотя эта потребность имеет свое основание в природе разума», подразумевает сомнение в том, что разум не должен впадать в ошибку в метафизической области, следуя своим собственным законам. Это сомнение проявляется уже в названии работы Канта: Ибо обозначение ее как критики – не отдельных продуктов разума, в которых участвуют другие способности, особенно воображение и память, а самого чистого разума, органа метафизического исследования, как поясняет Кант, или чистого рассудка, – предполагает, что не только продукты этого рассудка, но и он сам может быть ошибочным, как инструмент, предназначенный для наблюдения определенных явлений, который делает ложные утверждения в отношении части этих явлений. Именно такой была точка зрения Канта. По его мнению, разум обманывает нас так же, как и органы чувств. Чистый разум, заявляет он, в соответствии с некоторыми фундаментальными правилами и максимами его использования, является местом трансцендентальной видимости, которая отличается от логической видимости, т.е. видимости, возникающей просто от недостатка внимательности. Появление заблуждений, отличающееся от логического появления, т.е. появления, возникающего только из-за невнимания к логическому правилу, тем, что оно не исчезает, если оно уже вскрыто и его ничтожность ясно признана трансцендентальной критикой, – место естественной иллюзии, которой нельзя избежать, так же как мы можем избежать того, что море кажется нам в центре не выше, чем на берегу, или так же мало, как даже астроном может избежать того, что луна кажется ему не больше, чем на восходе, даже если он не обманывается этой видимостью. «Существует естественная и неизбежная диалектика чистого разума, не та, в которую по незнанию запутался какой-то неумеха или которую искусственно придумал какой-то софист, чтобы запутать разумных людей, но та, которая непрерывно привязана к человеческому разуму и даже после того, как мы разоблачим его слепоту, не перестанет обманывать его и постоянно толкать на сиюминутные аберрации, которые в любой момент необходимо исправить. «Если, таким образом, мнение о том, что наука о возможности, принципах и объеме всех априорных знаний необходима как пропедевтика метафизики, коренится в недоверии к разуму, если эта наука должна иметь более близкое значение критики чистого разума, то оправдано опасение, совместимо ли с этим заблуждением доверие, которое оказывают разуму, возлагая на него роль критика. Какую гарантию дают вообще утверждения разума, даже те, с помощью которых он судит о себе, если его надежность подвергается сомнению даже в тех результатах, к которым он пришел в результате деятельности, ничем не сдерживаемой и не нарушаемой? Если мы признаем за скептицизмом, что разум иногда обманывает в использовании правил, которые он сам себе задает, то как мы можем избавиться от ощущения, что он обманывает всегда, что он обманывает нас, подобно всемогущему лживому духу, выдуманному Картезиусом, даже там, где мы думаем, что понимаем что-то совершенно ясно?
Требование основывать метафизику на критике разума наталкивается на возражение, что есть основания сомневаться в способности разума к самокритике не меньше, чем в способности к созданию обоснованной метафизики. Согласно Канту, критика чистого разума относится к чистой философии (см. с. 18 выше), и поэтому все ее пропозиции3 должны быть априорными представлениями. И очевидно, что иначе и быть не может, если она должна дать принципы метафизики и дать уверенность в том, что они априорны, что они не произвольные утверждения или простые убеждения, а реальное знание. Это была бы странная наука чистого разума, которая для прочности своего основания должна была бы опираться на опыт. Кроме того, выводы «Критики чистого разума», несомненно, синтетичны, если согласиться с Кантом в том, что нельзя расширить знание путем простого анализа понятий. Ведь никто не поверит, что возможность, принципы и объем всего знания могут быть определены a priori только путем уточнения некоторых понятий. Наконец, критика чистого разума имеет и то общее с метафизикой, что отличает ее от математики и чистого естествознания: она не имеет дела ни с понятиями, которые можно сконструировать, т.е. представить в чистом восприятии, ни с теми, которые, даже если им нельзя дать соответствующего восприятия, тем не менее относятся к объектами восприятия и опыта, поскольку предписывают законы, которым они должны соответствовать, чтобы вообще быть объектами опыта. Таким образом, критика чистого разума, как и метафизика, – это наука, выходящая из области всевозможного опыта и стремящаяся к пониманию, выходящему за пределы мира чувств, где опыт не может ни подсказать, ни исправить положение. Поэтому если метафизика в силу этой особенности нуждается в критике разума как в своем фундаменте, то то же самое должно быть справедливо и для самой критики разума; критика разума, следовательно, должна быть завершена, прежде чем к ней можно будет приступить.
Наконец, следует отметить, что «Критика чистого разума» имеет своим результатом невозможность. Ведь она показывает, что, кроме математики, синтетическое знание a priori может быть только в естествознании, точнее, в учении о теле, поскольку учение о душе «никогда не может стать ничем иным, как историческим и, по возможности, систематическим естественным учением о внутреннем чувстве, т.е. естественным описанием души, но не наукой о душе, ни даже психологическим экспериментальным учением». Как этот результат отменяет возможность Критики чистого разума, так, кстати, и Критики практического разума и предполагающей ее Метафизики нравов, а также Критики способности суждения. И возможность логики также должна быть подвергнута сомнению с точки зрения Критики чистого разума. Ведь непредвзятому эксперту трудно будет убедить себя в том, что логика дает только аналитические предложения, как это, безусловно, предполагал Кант, что она является наукой, с помощью которой знание никак не расширяется, даже в той мере, в какой оно расширяется с помощью предложения, что один плюс один равно двум. Против Канта можно выдвинуть ту же критику, что и против Юма, а именно: он не понимал всего объема задачи объяснения возможности знания и определения его необходимых границ, а потому слишком узко очертил пределы способности познания, ибо он, вероятно, пришел бы к «другим» результатам, если бы ответил на вопросы: как возможна чистая математика? как возможно чистое естествознание? на вопросы: как возможна критика теоретического разума, как возможна критика практического разума, как возможна критика суждения, как возможна логика? или на тот, который обобщает эти вопросы: как возможна наука о разуме?
Разумеется, приведенные выше замечания не означают отрицания того, что задача разума состоит в том, чтобы сделать себя как познающего и как разум в целом предметом своего изучения. Не отрицается и то, что метафизика, призванная уточнять и развивать понятие бытия и отвечать на возникающие при этом вопросы, не может быть отделена от науки, предметом которой является разум; более того, метафизика и наука о разуме – это, возможно, одна и та же наука, только рассматриваемая с разных сторон. Они отрицают лишь адекватность той точки зрения, которую Кант принял для изучения разума, адекватность его учения как критики, которой разум должен быть подвергнут в отношении своей способности к метафизическому знанию, прежде чем ему будет позволено попытаться удовлетворить свою потребность в таком знании». —
Кроме того, спорным является и взгляд, которым «Критика чистого разума» определяет свою общую точку зрения, а также свойственный ей взгляд, согласно которому знание математики и чистого естествознания, как и то, к которому восходит метафизика, являются синтетическими априорными суждениями и что поэтому задача науки о возможности, принципах и объеме всякого априорного знания состоит в объяснении возможности таких суждений.
Против различия между аналитическими и синтетическими суждениями, которое встречается уже у Локка, Юма и Лейбница, возражений не больше, чем против различия между априорным и постиорным знанием. Следует также признать, что решение о том, является ли данное суждение аналитическим или синтетическим, не зависит от отношения этого суждения к судящему. Если было сказано, что одно и то же суждение может быть аналитическим для одного человека и синтетическим для другого, поскольку один человек уже включил предицируемую детерминацию в понятие, образующее субъект (например, другой не включил), то это означает, что в данном случае речь идет об аналитическом суждении. Для начала следует отметить, что суждение называется аналитическим только тогда, когда предикат получается путем простого рассмотрения не всей совокупности признаков, которые судья мог ранее исключить из содержания субъекта-понятия, а первоначального или составного содержания субъекта-понятия, которое образуется теми признаками представляемого объекта, по которым объект является для репрезентанта именно этим объектом и никаким другим, или по которым репрезентант отличает свой объект от всех других, из которых, следовательно, ни один не может быть опущен без преобразования понятия в более общее; во-вторых, если два человека говорят об одном и том же предмете, об одной и той же определенной вещи, то суждение одного может быть аналитическим, а другого – синтетическим, поскольку субъект-концепт одного может быть образован другими характеристиками, чем субъект-концепт другого (например, в пропозиции о субъекте другого). Например, в пропозиции о теле один может понимать под телом протяженную вещь, другой – тяжелую, или в пропозиции об эллипсе один может понимать под эллипсом фигуру, которую можно построить таким образом, другой – таким), но тогда аналитическое суждение одного и синтетическое суждение другого – это два разных суждения, именно разных в отношении их предметных понятий. Что касается другого различия – знания a priori и a postoriori, то можно представить себе, что одно и то же знание относится к первому виду для одного и ко второму для другого, ибо возможно, что нечто, познаваемое чистым разумом, например, пропозиция об углах, может быть познано чистым разумом. B – теорема о сумме углов треугольников), тем не менее, впервые познается опытом.
Но можно придать этому различию и независимый от отношения судьи к его познанию смысл, определив, что априорным следует называть всякое познание, которое может быть найдено чистым разумом. – Поэтому если здесь ставится под сомнение правильность проблемы «Критики чистого разума», то возражение направлено не против этих различий, а против их сочетания, поскольку последнее содержит предположение, что не априорные суждения, как полагали Лейбниц и Юм, совпадают с аналитическими, а апостериорные – с синтетическими, но что суждение, точнее, познание, т.е. истинное суждение, понятое с пониманием его истинности, может быть и синтетическим, и априорным.
Несостоятельность этого предположения вытекает из следующего соображения Суждение называется истинным, если оно согласуется со своим предметом, т.е. если объект является таким, каким он мыслится в данном суждении. Отсюда следует, что к обоснованному решению об истинности или ложности суждения – если воздерживаться от сравнения его с другими суждениями, истинность которых уже установлена и с которыми оно находится в отношении следствия или противоречия, – нельзя прийти иначе, как сравнив его с его объектом, и что к истинному суждению приходят, прозревая его истинность, т.е. зная его истинность. Т.е. к знанию – не считая, опять-таки, выведения нового знания из старого путем рассуждения – нельзя прийти иначе, чем созерцая его объект. Ибо, хотя объект может быть просто видимостью и как таковой, как хотел бы Кант, регулироваться природой нашего восприятия, суждение о нем должно, тем не менее, регулироваться им, поскольку оно сформировано именно в соответствии с природой нашего восприятия. Здесь следует различать два случая.
Для того чтобы понять, действительно ли объект A обладает или действительно не обладает утверждаемой или отрицаемой им детерминацией B, то есть истинно или неистинно суждение о том, что A есть B или не есть B, достаточно либо использовать объект A для сравнения в той мере, в какой ищется в нем детерминация B самим его бытием. B, истинно или неистинно, достаточно либо использовать объект A для сравнения, иначе говоря, искать в нем детерминацию B, в той мере, в какой представляешь его себе через его простое понятие, предмет данного суждения, в силу конституирующего его содержания, и имеешь его как бы перед глазами, либо необходимо выйти за пределы того, что имеешь перед глазами объекта через его простое понятие. В первом случае суждение о том, что А есть В или не есть В, следует называть аналитическим, во втором – синтетическим, что, очевидно, совпадает по существу с кантовскими объяснениями этих обозначений, за исключением того, что согласно им аналитическими следует называть и те суждения, которые возникают из аналитических путем превращения утверждения в отрицание (например, тела не протяженны). Если утвердительные аналитические суждения ближе обозначить как тождественные, а отрицательные – как противоречивые, то из этого, как легко видеть, следует, что каждое тождественное суждение согласуется со своим объектом и поэтому истинно, а каждое противоречивое – не согласуется со своим объектом и поэтому неистинно, выводы из которых, как известно, первые носят название пропозиции тождества, а вторые – пропозиции противоречия. Утвердительные аналитические или тождественные суждения являются здесь априорным знанием, поскольку они истинны, и для того, чтобы убедиться в их истинности путем сравнения с объектом, не нужно выходить за их пределы, так как утверждаемая определенность обнаруживается в объекте, насколько он находится перед глазами через понятие субъекта. Из синтетических суждений те, которые вообще являются знанием (а это могут быть как утвердительные, так и отрицательные суждения), все являются апостериорными. Ведь для того, чтобы признать их истинность, необходимо при рассмотрении объекта выйти за пределы того, что представлено о нем в его понятии в силу его составного содержания, а это означает не что иное, как то, что необходимо рассматривать его в том состоянии, в котором он дан в опыте. Предположим также, что объект является простым явлением и что предицируемая ему определенность обусловлена природой нашей способности восприятия, которая по тем или иным причинам, понятным или непонятным для нас, принуждена к определенности, составляющей понятие рассматриваемого объекта, В этом случае наблюдение воспринимаемого объекта, которое дало бы решение о том, что он (как вид) обладает предицируемой определенностью и что, следовательно, данное суждение истинно, было бы опытом. Придана ли предикативная определенность объекту нашей способностью восприятия или какой-то другой силой, безразлично, поскольку это должно быть для нас фактом, или, что то же самое, поскольку мы должны ощутить, что это принадлежит ему, чтобы наше суждение могло носить название знания.
Поэтому синтетического знания a priori нет и быть не может. Лейбниц был совершенно прав, когда говорил, что нельзя считать изначально достоверным, не нуждающимся в доказательствах ничего другого, кроме фактов опыта и тождественных предложений, что опыт и закон тождества или противоречия являются единственными исходными принципами познания (см. т. I, с. 441).
Кантианец сейчас, конечно, сошлется на то, что именно Кант дал объяснение возможности синтетического знания a priori. Но можно в нескольких словах показать, что это отнюдь не так. Если допустить, что предложения чистой математики и чистого естествознания действительно являются синтетическим знанием a priori, то Кант и отдаленно не сумел объяснить, как они могут быть таковыми. Он полагает, как будет более подробно показано в следующем разделе, что возможность чистой математики объясняется тем, что представления о пространстве и времени, из которых первое является источником знания в геометрии, а второе – в арифметике, – это априорные представления, представления, которыми мы обладаем благодаря одной лишь способности восприятия и которые лежат готовыми в нашем сознании до всякого опыта. Однако невозможно понять, какое значение для рассудочного ума имеет то, является ли наше восприятие пространства, как и восприятие вторичных качеств, эффектом, который производят в нас вещи, или же оно изначально вытекает из природы нашей способности восприятия. Например, чтобы убедиться в истинности суждения о том, что прямая линия есть кратчайшее соединение ее конечных точек, мы должны сравнить то же самое, будь пространство чистым или эмпирическим восприятием, с его объектом, и если, как утверждает Кант, мы должны выйти за пределы объекта, как мы его представляем себе в силу одного лишь его понятия, то остается только посмотреть, как прямая линия в действительности представляет себя в дополнение к тому, что она есть линия и что она прямая, или, что то же самое, что наше восприятие в действительности приписывает прямой линии в дополнение к ее прямолинейности и линейности, а это означает не что иное, как то, что мы должны прибегнуть к помощи опыта. Таким образом, если математические предложения являются синтетическими, то они апостериорны.
Кант не сделал практически никаких попыток показать, каким образом судящий разум по-разному относится к геометрическим сущностям при чистом представлении о пространстве, чем при эмпирическом. Он утверждает, что математические суждения не могут быть получены путем простого деления, поэтому они основаны на интуиции; кроме того, они априорны, поэтому интуиция, на которой они основаны, также априорна. Если мы теперь спросим, насколько этот характер представлений о пространстве и времени помогает исследованию свойств геометрических фигур и чисел, то единственным ответом, который можно найти в его трудах, будет следующая фраза в «Пролегоменах»: «Как эмпирическая интуиция дает нам возможность без труда синтетически расширять в опыте понятие, которое мы составляем об объекте интуиции, новыми предикатами, которые представляет сама интуиция, так и чистая интуиция будет делать то же самое, с той только разницей, что в последнем случае синтетическое суждение будет априорно определенным и аподиктическим, а в первом случае будет только n postoriori и эмпирически определенным, так как в последнем случае содержится только то, что обнаруживается в случайном эмпирическом представлении, а в первом – то, что обязательно должно быть обнаружено в чистом, поскольку оно неразрывно связано как представление a priori с понятием, предшествующим всякому опыту или индивидуальному восприятию. «Очевидно, однако, что этот ответ совершенно недостаточен. Утверждение, что геометрические фигуры и числа обязательно обладают теми свойствами, которые синтетически выражаются ими для интеллекта, – это тоже то, что нужно было доказать. Они были бы необходимы для интеллекта только в том случае, если бы их отрицание влекло за собой противоречие, а этого, как предполагается, не происходит. О необходимости, с которой рассудок встречает в этих объектах те свойства, которые он синтетически выражает в цифрах и числах, можно говорить лишь в том же смысле, в каком мы можем сказать о каждом объекте опыта (как о внешности), что рассудок, который судит о нем, обязательно встречает в нем те свойства, в которых он представляется восприятию, в том смысле, что рассудок должен принять объект, о котором он хочет судить, таким, каким он ему дан. Канту удалось показать возможность того, что предложения, принадлежащие чистому естествознанию, являются одновременно синтетическими и априорными, не лучше, чем в случае с математическими предложениями. Эта возможность объясняется предположением, что предложения чистого естествознания имеют своим содержанием законы, которые являются условиями возможности опыта, т.е. которым должны соответствовать все вещи, которые могут быть для нас объектами опыта, поскольку иначе они не могли бы быть для нас объектами опыта.
В соответствии с этим положения чистого естествознания не являются сразу определенными; для каждого из них должно быть дано доказательство, показывающее, что оно выражает условие возможности опыта; пока одно из этих положений не доказано таким образом, оно еще не является знанием. При этом возможны два случая: либо доказательство основывается на фактах опыта (а именно опыта об опыте), либо оно осуществляется из простого понятия опыта или, что то же самое, объекта, который может быть опытен, путем расчленения этого понятия, показывая, что именно ему принадлежит, чтобы быть объектом опыта. Однако в первом случае доказываемая пропозиция не является знанием s priori, поскольку пропозиции, которые могут быть доказаны только путем вывода из эмпирических пропозиций, сами являются эмпирическими; во втором случае она не является синтетической, поскольку получается путем простого расчленения понятия, а именно понятия познаваемого объекта. В любом случае предложения чистого естествознания не являются синтетическим априорным знанием, если исходить из того, как Кант объясняет их возможность.
Как Кант не смог доказать существование этой возможности a priori, объяснив возможность синтетического знания a priori, так и не смог обеспечить это доказательство a postsriori, а именно продемонстрировав такое знание. Очевидно также, что эта попытка не удалась с самого начала. Ведь хотя можно привести предложения, в отношении которых не вызывает сомнений, что они одновременно синтетические и априорные, все же остается доказать, что это не произвольные утверждения и даже не просто предложения веры, а реальные познания, истинные суждения, выработанные с пониманием их истинности, и это доказательство может быть дано, если не опровергнуть приведенные выше соображения, то такое доказательство может быть дано только путем доказательства данных суждений либо из фактов опыта, либо из простых понятий, т.е. путем получения эмпирического или аналитического знания s priori из приведенных синтетических утверждений. Если бы, например, пришлось признать, что закон причинности является синтетическим суждением a priori, то можно было бы с полным основанием объявить его, как и Юм, простым предложением веры, хотя, возможно, по уверенности не уступающим никакому знанию, пока его истинность не будет доказана либо фактами, либо простым сравнением идей, и тогда можно было бы обладать в одном случае эмпирическим, а в другом – аналитическим знанием о нем. Не иначе обстоит дело и с принципами математики. Вряд ли Юм последовал бы предпосылке Канта и, доказав, что математические предложения также синтетичны и не основаны на опыте, снял бы свое сомнение относительно закона причинности; По крайней мере, можно с тем же правом предположить, что здравый смысл, на который ссылается Кант, подсказал бы ему, что принципы математики, как и принцип причинности, – это пропозиции, которым мы не прочь довериться, но которые даны нам только инстинктом, дарованным нам благосклонной природой, и поэтому их нельзя знать, а можно только верить.
Однако попытка Канта доказать синтетическое априорное знание в пропозициях математики и чистого естествознания отнюдь не зависит от этого выхода. Ведь нет необходимости признавать, что эти предложения являются синтетическими. Что
Прежде всего, что касается арифметических предложений, то Лейбниц на примере 2 +2 = 4 убедительно показал, что они следуют из одних только определений числовых терминов, т.е. из аналитических суждений, и поэтому сами являются аналитическими (см. т. I, с. 442). Если 2 означает столько же, сколько 1 +1, 3 – сколько 2 +1, 4 – сколько 3 +1, то из 3 +1 = 4 следует сначала 2 +1 +1 = 4 и далее 2 +2 =4. Не так просто объяснить анализ, который приводит к геометрическим принципам, но можно убедиться простым наблюдением, что и здесь мы имеем дело с аналитическими суждениями. Возьмем, к примеру, утверждение Канта о том, что прямая линия между двумя точками является кратчайшей. Ясно, что свойство, приписываемое здесь прямой линии, обусловлено тем, что это прямая линия. То, что линия является кратчайшей, очевидно, не добавляется к тому, что она является линией и что она является прямой, как нечто новое в этом вопросе, как, например, к свойствам, составляющим понятие определенного вида растений, можно добавить запах или целебный блеск как свойство, общее для всех растений этого вида, но тождественное в этом вопросе с тем, что она является прямой или с чем-то, содержащимся в ней. Итак, через одно только понятие прямой линии, поскольку оно предшествует всем суждениям о ней, можно получить не косвенно, через нечто другое, к чему они относятся, а непосредственно и без остатка и так, как они есть сами по себе. Поэтому мы должны быть в состоянии обнаружить в прямой линии свойство, тождественное или каким-то образом содержащееся в прямолинейности, что она является кратчайшей между своими конечными точками, наблюдая ее в той мере, в какой мы имеем ее перед глазами через ее понятие, точно так же, как мы можем обнаружить два плюс два в четырех, т.е. три плюс один. А это означает не что иное, как то, что это свойство должно быть узнаваемо из простого понятия прямой линии, или что данная пропозиция, как только она выражает реальное познание (чего не происходит до тех пор, пока она считается истинной лишь в силу неосознаваемого ограничения способности восприятия), является аналитической. Действительно, для познания математических истин необходимо обладать способностью восприятия; предложение 2 +2 = 4, хотя и может быть выведено из простых определений путем строгого умозаключения, также предполагает наличие способности восприятия, поскольку понятия числа получают свое содержание из восприятия, а для человека, не обладающего способностью восприятия, эти определения были бы не более чем комбинациями слов или знаков.
Но это вовсе не противоречит понятию аналитического суждения, как, видимо, полагает Кант. Поскольку последняя требует, чтобы предикат определялся путем простого рассмотрения
субъекта-понятия или, что то же самое, объекта, в той мере, в какой он представлен субъектом-понятием, он не запрещает брать предикат из представления об объекте вообще, а только из той части представления, посредством которой он проецируется за пределы субъекта-понятия. Если бы было установлено, что аналитическими следует называть только такие суждения, которые получаются без всякого участия способности восприятия, то пришлось бы сказать, что таких суждений нет и быть не может, ибо суждениями пришлось бы называть не только мысли, но и просто сочетания слов. – Наконец, что касается пропозиций, которые Кант называет чистым естествознанием, то достаточно вспомнить взгляд Лейбница на важнейшую из них – принцип причинности, чтобы показать, что в их синтетическом характере можно сомневаться. Лейбниц (см. т. I, с. 444), как и Спиноза до него, придерживался мнения, что отношение причины и следствия совпадает с отношением причины и следствия в адекватном познании, что поэтому необходимо уметь выводить познание каждого следствия из полного познания всей его причины, тогда как позднее Юм (см. т. I, с. 372f.), за которым в этом отношении последовал Кант, предположил, что следствие отлично от причины, от которой оно произведено чем-то совершенно непонятным для нас, а именно силой, и от всего, что в ней может быть, и что поэтому тот, кто полностью познал природу причины, еще не в состоянии указать, какого рода будет следствие. Лейбниц, однако, полагал, что он может вывести принцип достаточной причины из понятия истины, не делая никаких предпосылок. По его мнению, этот принцип означает не что иное, как то, что в каждом истинном суждении предикатное понятие должно содержаться в субъектном понятии (prseckiontum inest in sudjeeto), что подразумевается в том смысле, что должен существовать предикат объекта, который позиционируется субъектным понятием, должно существовать понятие, пусть даже недостижимое для человеческого разума, в котором этот предикат может быть найден, как, например, в понятии пива – два плюс два – или в понятии треугольника – все те свойства, которые геометрия приписывает треугольникам. Поэтому принцип достаточного основания, а вместе с ним и принцип причинности, является, по Лейбницу, аналитическим познанием, поскольку его можно распознать из простого понятия истины. Теперь, даже если он только намекнул на связь между этим принципом и этим понятием и, таким образом, не дал убедительного доказательства своей точки зрения, можно, тем не менее, придать ей по крайней мере такой же вес, как и мнению Юма, согласно которому принцип причинности есть и должен всегда оставаться простым положением веры, и мнению Канта, который видит в нем синтетическое познание a priori.
И если здесь нельзя признать, что синтетическое познание s priori возможно, то все же следует признать, что Кант, ставя перед собой задачу объяснить возможность такого познания, имел в виду реальную проблему, на которую обратил внимание еще Лейбниц (см. т. I, с. 441). Ведь даже для тех, кто рассматривает суждения, которые Кант считал одновременно синтетическими и априорными, как аналитические, их возможность требует объяснения. Они содержат, как справедливо заметил Кант, расширение знания, имеют предикат, который не лежит в субъекте-понятии так, что для того, чтобы найти его в нем, достаточно осознать детерминации, из которых состоит его конституирующее содержание, как это происходит, например, когда под квадратом понимают равносторонний и равносторонний четырехугольник и, размышляя об этом, говорят: «Все квадраты равносторонние». Но смысл аналитических суждений, по-видимому, состоит в том, что они делают понятным свой предмет-понятие, устанавливая его составное содержание или его часть; они, по выражению Канта, являются только объяснительными суждениями. Поэтому необходимо показать, каким образом аналитическое суждение все же может приписывать своему объекту определенность, в которой он еще не понят, если представить его через субъект-концепт этого суждения; короче говоря, что аналитическое суждение является суждением расширения.
Если на первый взгляд кажется столь же непонятным, что аналитическое суждение расширяет знание, как и то, что синтетическое суждение может быть априорным, то все же вопрос «Как возможны аналитические суждения о расширении?» имеет перед кантовским вопросом «Как возможны синтетические суждения априорные?» ту предпосылку, что он обладает надежной достоверностью. Помимо арифметических пропозиций, из которых столь же очевидно, что они аналитические, как и то, что они расширяют знание, это прежде всего пропозиции, которые гарантируют правильность его постановки. Ведь если бы аналитические суждения о расширении были невозможны, то невозможны были бы и строгие выводы. Ведь и каждое строгое умозаключение расширяет знание без помощи опыта, путем простого созерцания своих мыслей, т.е. аналитически, поэтому и существует общее мнение, что пропозиция тождества, или, что то же самое, противоречия, является единственным принципом всех строгих умозаключений. То, что обращение к умозаключениям здесь к месту, становится более определенным, если учесть, что истинность всякого строгого заключения совпадает с истинностью суждения, а именно гипотетического, в котором имеется связь посылок заключения с гипотезой, а заключения с тезисом, например, истинность заключения: гипотеза есть истинность заключения. Например, истинность заключения: «Все люди смертны, Казус – человек, следовательно, Казус смертен» с истинностью суждения: «Если все люди смертны и Казус – человек, то Казус смертен». Никто не станет отрицать, что это суждение должно быть аналитическим, если различие между аналитическими и синтетическими суждениями сформулировать таким образом, чтобы оно было легко применимо к гипотетическим суждениям; кстати, гипотетические суждения, полученные из строгих выводов, также могут быть преобразованы в категорические суждения, аналитический характер которых очевиден. Не менее бесспорно, что такое гипотетическое суждение, несмотря на свой аналитический характер, расширяет знания. Например, для того чтобы найти в гипотезе: «Все люди смертны, а Казус – человек» тезис: «Казус смертен», недостаточно разложить первую на составные части или осознать объединенные в ней мысли по отдельности. Подумав: «Все люди смертны» и «Казус – человек», человек еще не думает: «Казус – смертен», хотя эта мысль может быть получена из сочетания двух. Тот, кто не хочет отменить возможность продвижения в познании путем рассуждений, должен признать возможность аналитических суждений о расширении.
Решение проблемы вытекает (чтобы хотя бы в нескольких словах указать путь ее решения) из замечания, что два понятия, различающиеся по своему составному содержанию, не только (как, напр. понятия столицы прусского государства и крупнейшего города, расположенного на реке Шпрее) имеют один и тот же объект, но и могут выводить свои содержания из одной и той же природы общего для них объекта, причем различие между их содержаниями состоит лишь в том, что в том, что различие их содержаний состоит лишь в том, что их конституция представлена одним из них иначе, с другой стороны или с другой точки зрения, чем другим, – иначе говоря, из того замечания, что составное содержание одного понятия, А, может быть объективно или фактически тождественно с содержанием другого, В, или его части, и все же субъективно отличаться от него в своем понятии. Так, составные содержания понятий прямой линии, ведущей из точки a в точку b, и прямой линии, ведущей из точки b в точку a, объективно или фактически тождественны, поскольку в самой линии нет различия между той, что ведет из a в b, и той, что ведет из b в s, но субъективно или концептуально они различны.
Другими примерами являются понятия ряда, состоящего из трех плюс одна, и ряда, состоящего из двух плюс две точки, понятия трехгранной и трехугольной фигуры, отношения размеров a> b и b <a, отношения периметров двух понятий S и P, которые определяются суждениями: «Ни одно S не есть P» и: «Ни одно P не есть S» (а именно, что протяженность P не имеет ничего общего с протяженностью и что протяженность P не имеет ничего общего с протяженностью S), а также отношения протяженности, одно из которых определяется связкой суждений: «Все S есть M» и: «Все M есть P», а другое – суждением: «Все S есть P». Если содержание концепта B отличается от содержания концепта A только субъективно, то для признания наличия у объекта концепта качества, составляющего содержание концепта B, необходимо (напр. что прямая, ведущая от a к d, ведет от B к A, что 3 +1 = 2 +2, что все трехгранные фигуры являются треугольными, что если a больше b, то b меньше a, что если ни одно S не есть P, то ни одно P не есть S, что если все S есть M и все M есть P, то все S есть P), необходимо рассматривать этот объект только в той мере, в какой он представлен его понятием; Суждение, субъектом которого является понятие, а предикатом – конститутивное содержание понятия, является, таким образом, с одной стороны, аналитическим, а с другой – расширяющим знание, так как предикат нельзя найти, лишь осознав конститутивное содержание своего субъекта-понятия и разложив его на составные части. Можно было бы еще показать, что понятие, для того чтобы обеспечить возможность познания своего объекта таким образом, должно быть понятием чистого разума, врожденной идеей, согласно более старому обозначению, но это было бы слишком далеко. —
Как и предприятие критики разума как такового и более детальное определение ее задачи, ее самый общий результат не выдерживает проверки. Не только объекты восприятия, отличные от нашего «я», воспринимающего субъекта, тела, в том числе и наше собственное тело, вместе с охватывающим их пространством, должны быть, как учили еще Лейбниц и Беркли, простыми явлениями нашего сознания, лишенными действительного бытия, но и все, что мы воспринимаем относительно самого нашего «я», наше восприятие внешних объектов, восприятие собственных состояний и действий, воображение, мышление, чувство удовольствия и неудовольствия, желание, хотение, одним словом, все модусы нашего сознания, плюс время, в котором они одновременны или следуют друг за другом, и само наше сознание, т.е. все то, о чем Картезий говорил, что уверенность в его реальном существовании содержится в ooxiro sum. Говорят, что посредством внутреннего чувства, т.е. способности воздействовать на себя, душа приходит к восприятию своих собственных состояний, так же как посредством внешнего чувства, т.е. способности воздействовать на вещи вне себя, она приходит к восприятию вещей.
И как внешнее чувство не может дать нам никакого знания о природе вещей, на которые оно воздействует, так и внутренним чувством мы должны воспринимать себя не такими, какие мы есть в себе, а только такими, какими мы себе кажемся; состояния, которые мы ощущаем и воспринимаем внутренним чувством, должны быть столь же чужды душе или «я», как вторичные качества – вещам, которые являются причиной наших внешних восприятий. Поэтому вещи сами по себе должны быть совершенно недоступны нашему восприятию или созерцанию; мир восприятия ни в коем случае не должен совпадать с миром вещей самих по себе, реально существующим миром. Легко показать, что эта доселе невиданная доктрина противоречит сама себе, предполагая часть того, что она отрицает. Во-первых, утверждение о том, что телесный мир есть лишь феномен нашего воспринимающего сознания, предполагает признание того, что он действительно кажется нам существующим, или, что то же самое, что мы действительно воспринимаем его, а не просто кажущееся восприятие, что, следовательно, наше внешнее восприятие есть не воображаемое нами восприятие, а реальное постижение, поведение не просто видимости, а вещи, существующей самой по себе.
Но эта уступка вновь аннулируется дальнейшим утверждением, что все, что мы воспринимаем внутренним чувством, также является лишь явлением, поскольку внешнее восприятие также предполагается принадлежащим к тому, что воспринимается внутренним чувством. Затем это противоречие повторяется применительно к внутреннему восприятию. Ведь если то, что воспринимается внутренним чувством (к которому, как отмечалось выше, относится и внешнее восприятие), есть, как и то, что воспринимается внешним, телесным миром, простое явление нашего сознания, то, о чем ничего нельзя сказать в мире вещей как таковом, то тем не менее оно реально как явление, или, что то же самое, само наше внутреннее восприятие, даже если то, что воспринимается внутренне, есть лишь видимость неизвестного существа, реальное поведение нашего «я» или нашей души, то, что имеет место в вещи в себе, а именно в нашей душе. Но именно к этому внутреннему восприятию относится и то, что мы, в свою очередь, познаем через внутреннее восприятие, и поэтому то, что верно в отношении всего, что воспринимается внутренне, верно и в отношении него: это всего лишь видимость; для глаза, который видит вещи такими, какие они есть на самом деле, внутреннего восприятия было бы так же мало, как и внешнего.
Противоречие заключается и в следующем результате «Критики»: вещи, существующие сами по себе, помимо их простого бытия, непространственности, несвоевременности и вообще отрицания всякой известной нам детерминированности по отношению к ним, также совершенно не поддаются высшему познанию, тогда как познание явлений возможно. Ведь для того чтобы мысль была знанием, она должна быть прежде всего истинной, а истинность мысли состоит в том, что то, что в ней мыслится, действительно существует или существует само по себе, а не только кажется существующим. Поэтому всякое познание относится к тому, что существует само по себе, и отрицать возможность познания того, что существует само по себе, значит отрицать возможность познания вообще. То, что можно назвать познанием того, что не существует, а только кажется существующим (к чему относится и то, что Кант называет явлепнием), имеет своим объектом не то, что только кажется существующим, а существующий субъект, для которого это явление существует, в отношении того, что ему кажется, и действительно кажется действительным, а не просто кажущимся, или, что то же самое, воображающий субъект, который действительно существует в отношении своего явления. Если, например, я признаю в отношении вещи, которую вижу в зеркале, что она изменяется определенным закономерным образом, то действительным объектом моего познания является не несуществующая вещь за зазеркальем, а мое зрение: а если предположить, что весь мир тел есть простое явление, то действительным объектом естествознания является не мир тел, который только кажется существующим, а реально существующее сознание, в той мере, в какой оно есть восприятие тел. Однако познание явлений в этом смысле, согласно критицизму, невозможно, поскольку воспринимающий или, в более общем смысле, воображающий субъект рассматривается им как простое явление, так что то, что он называет познанием явлений, ни в коем случае не является познанием существующей вещи.
3
Конкретной «мысли», выраженной в предложении