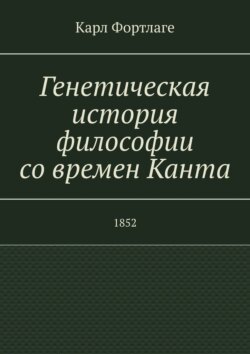Читать книгу Генетическая история философии со времен Канта. 1852 - - Страница 16
Жизнь и труды Канта
Сокрушение догматизма
ОглавлениеДо сих пор мы занимались чистой теорией процесса познания, а теперь переходим к полемической части критики разума, которая взяла из нее свое оружие. Она была в центре внимания, когда появилась критика. Она оказала свое влияние, и для нашего времени по своему значению она значительно уступает позитивным достижениям критики. Основная идея этой полемики, безвозвратно уничтожившей догматизм в философской науке, чрезвычайно проста. Кант же с неутомимым терпением и неиссякаемым красноречием проник своей рукой во все закоулки тогдашней схоластики и не успокоился, пока не сравнял с землей все ее укрепления, до самого последнего бастиона.
Уверенность, на которой зиждется весь догматизм, заключается в том, что знание о метафизических вещах можно получить из одних лишь категорий рассудка, как бы в свободном удовольствии. Считается, что раз уж применение категорий в сфере опыта идет так хорошо, то их использование будет еще лучше и легче в трансцендентальном царстве сверхъестественного, где они освобождаются от земляного комка эмпиризма. Рассекая в свободном полёте воздух, замечает Кант, и чувствуя его противодействие, лёгкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы гораздо удобнее летать. 1Точно так же рассудок заблуждается, когда воображает, что его категории, которые, будучи продуктами созерцательного элемента, имеют какое-либо применение за пределами последнего.
Но это заблуждение о возможном расширении нашего знания за пределы опыта оказывается еще более несостоятельным, если учесть, что мы сами не признаем предметы опыта такими, каковы они есть сами по себе, а только такими, какими они нам представляются. В самом деле, даже понятие вещи как таковой становится все более проблематичным, чем дольше мы им занимаемся. Ведь именно понятие причины, добавляемое к ощущению как чистое postiriori знания, и заслуживает в этом отношении названия чистой мысли-вещи или нуменона. Если под нуменоном мы понимаем не более чем вещь, в той мере, в какой она не является предметом нашего чувственного восприятия, абстрагируясь от нашего способа ее восприятия, то это просто нуменон в отрицательном смысле. Но если мы понимаем под ней предмет нечувственного восприятия, мы предполагаем особый вид восприятия, а именно интеллектуальное, которое не является нашим, и возможность которого мы также не можем осознать, и это будет нуменоном в положительном смысле. Но поскольку наши рассудочные понятия ни в малейшей степени не выходят за эти пределы, то, что мы называем нуменоном, должно пониматься как таковое только в негативном смысле. Таким образом, понятие нуменона – это всего лишь предел, ограничивающий презумпцию чувственности, и, следовательно, имеет лишь негативное применение. Тем не менее, оно не придумано произвольно, а связано с ограничением чувственности, не имея возможности установить что-либо позитивное вне рамок последней. Разделение предметов на явления и ноумены, а мира – на мир чувств и мир рассудка, таким образом, не может быть признано в положительном смысле. Скорее, наше представление получает таким образом лишь негативное продление, т. е. оно не ограничивается чувственностью, а скорее ограничивает ее, называя вещи сами по себе ноуменами. Но при этом оно сразу же ставит себе предел – не распознавать их ни через какие категории, то есть мыслить их только под именем неизвестного нечто.
Таким образом, земля истины или чистого разума напоминает остров, заключенный природой в незыблемые границы, окруженный огромным и бурным океаном, самим местом иллюзии, где много туманов и много скоро растающих льдов лежит на новых землях и, непрерывно обманывая моряка, плывущего к открытиям с пустыми надеждами, запутывает его в приключениях, от которых он никогда не сможет отказаться, но никогда не доведет их до конца.
Если мы попытаемся классифицировать эти обманы, то прежде всего столкнемся с амфиболией или двусмысленностью, которая содержится в неорефлексивных понятиях единства и различия, сопряжения и противопоставления, внутреннего и внешнего, материи и формы, в зависимости от того, рассматриваем ли мы эти понятия в их априорной абстрактности или применяем их к явлениям, поскольку в обоих случаях они дают совершенно противоположные утверждения и тем самым проявляют себя как произведения заблуждения, непригодные для постижения истины. Например, предмет, который несколько раз вырождается с одними и теми же внутренними детерминациями, согласно рассудку, является только одной вещью, но может существовать несколько раз по внешнему виду благодаря простому различию места (как, например, две совершенно одинаковые головки воды). Кроме того, согласно чистому рассудку, реальность никогда не вступает в противоречие с реальностью, а только с отрицаниями, тогда как во внешности одна и та же сила немедленно вступает в противоречие с самой собой, как только только одна ее часть меняет свое направление в пространстве. В предмете чистого рассудка внутренним является только то, что не имеет никакого отношения к чему-либо отличному от него. С другой стороны, внутренние детерминации lubstuntia pimenolnenon (например, материи) есть не что иное, как отношения, и сами они являются воплощением чистых отношений. В понятии чистого рассудка материя предшествует форме, тогда как в чувственном возникновении форма восприятия предшествует всей материи ощущения и всем данным опыта, и фактически делает последние возможными в первую очередь. Поэтому далеко не всегда материя (или сами вещи, которые появляются) является основой, возможность этого предполагает скорее формальное восприятие (время и пространство) как данное.
Если направить телескоп полых понятий рассудка дальше в океан диалектических явлений, то можно увидеть паралогизмы вместе с антиномиями чистого разума. Паралогизмы или заблуждения чистого разума проистекают из ошибочности желания определить природу нашей души как мыслящего индивида или единичной личности путем простого обсуждения понятия: я мыслю, согласно всем категориям рассудка a priori, как чистую (нематериальную) субстанцию, отделенную от самой себя, совершенно обособленного и простого (нетленного) качества, которая сама по себе является как вечно индивидуальной (бессмертной) личностью, так и, по отношению к своему телу, индивидуальным основанием его животной жизни. Ибо рассуждающий так человек думает, что имеет в виду вещь в себе, тогда как то же самое может относиться только к трансцендентальному субъекту, то есть к временному центру априорных детерминаций мысли, но не к причине, из которой мысль проистекает как следствие. Поэтому, как только он высказывает подобные суждения о независимости своей души, он уподобляется человеку, который берется собрать из простых образов, появляющихся в зеркале, само зеркало, в котором они появляются.
Антиномии, или противоречия чистого разума, возникают, когда человек пытается, исходя из чистых понятий рассудка, либо предоставить, либо отказать в полноте опыта в отношении некоторых неисчислимых детерминаций, и тогда разум вступает в конфликт с самим собой. Это делается в отношении следующих четырех вопросов: 1) бесконечен ли мир или конечен в пространстве и времени; 2) состоит ли составная вещь из простых или вообще не существует ничего простого; 3) действует ли причинность только по законам природы или также по законам свободы; 4) существует ли нечто порочное только по законам природы или также по законам свободы. 4) существует ли абсолютно необходимое существо в мире или вне его в качестве его причины. Ибо если предполагается, что мир не имеет начала, то он слишком велик для нашего понятия и никогда не сможет достичь прошедшей вечности. Если же предполагается, что у него есть начало, то он слишком мал для нашей концепции, так как требует более высокого временного состояния. Если мир бесконечен и неограничен, то он слишком велик для всех возможных эмпирических понятий; если же он конечен и ограничен, то мы все равно спрашиваем: что определяет этот предел? и мир оказывается слишком мал для этого понятия. Если каждое явление в пространстве (материя) состоит из бесконечного числа частей, то регресс деления всегда слишком велик для понятия; а если деление пространства должно остановиться на каком-либо одном его члене (простом), то оно слишком мало для идеи необусловленного. Если мы предположим, что во всем, что происходит в мире, нет ничего, кроме чистого успеха в соответствии с законами природы, то расширение ряда условий a priori не имеет конца, а потому слишком велико для понятия. Но если мы время от времени выбираем события, которые происходят сами собой, т. е. порождаются свободой, то «почему» преследует нас, и мы находим такую совокупность связей слишком малой для нашего необходимого эмпирического понятия. Если мы предполагаем абсолютно необходимое существо, мы помещаем его во время, бесконечно удаленное от любого данного момента; тогда его существование недоступно нашему эмпирическому понятию и слишком велико, чтобы когда-либо достичь его. Но если все, что принадлежит миру (как обусловленное или как условное), случайно, то всякое данное нам существование слишком мало для нашего понятия, потому что оно вынуждает нас еще искать другое существование, от которого оно зависит.
Однако дальше всего от эмпирической реальности находится трансцендентальный идеал, под которым понимается чистое понятие рассудка не просто in concreto, но inäivitiuo, как единая вещь, определяемая одной только идеей. Ибо все существующее определяется во всем, и в каждом вся реальность существует либо реально, либо отрицается. Таким образом, мы формируем понятие entis realissimi, индивида, в котором реально присутствуют все реальности, как вещь в себе и, более того, как архетип (prototypon) всех вещей, которые в целом, как неполноценные копии (sohpa), берут материал для своей возможности и, приближаясь к ней более или менее близко, тем не менее всегда бесконечно не достигают ее. Этот идеал является предметом трансцендентальной теологии. Но это не более чем субъективная идеяя, которую сначала незаконным образом реализуют (превращают в предмет), затем гипостазируют (возводят в ранг вещи в себе) и, наконец, персонифицируют (уподобляют деятельности апперцептивного разума). Эта троекратная ложная процедура лежит открыто и обнаженно перед глазами в онтологическом доказательстве, но повторяется как то же самое, только обманчиво с более эмпирическими украшениями, сначала в космологическом, а затем в физико-теологическом доказательстве.
Вольфианская метафизика, расцвет которой пришелся на время Канта, состояла из онтологии, космологии, рациональной психологии и естественной теологии. Против его онтологии была направлена демонстрация амфиболии в понятиях рефлексии, против его рациональной психологии – разоблачение паралогизма чистого разума, против его космологии – установление антиномий, а против его естественной теологии – опровержение трансцендентального идеала.
Кант называет все понятия, которые пролетают над взором, именами идей. В области идей нет ничего, кроме пустых воздушных фигур, а значит, нет и серьезной полемики. Обе стороны здесь – всегда борцы за удовольствие. Они сражаются хорошо. Подобно героям в Валгалле, тени, которые они разбивают, в одно мгновение вырастают вновь, чтобы потом снова развлекаться в бескровных битвах.
И все же, несмотря на то, что идеи совершенно неприемлемы, когда их рассматривают как знание, есть два соображения, согласно которым им следует признать применение, причем в обоих отношениях не по отношению к действительному, а к возможному знанию и знанию, которое предстоит приобрести, в обоих отношениях не как конституирующие, а как регулирующие принципы знания. Ибо если эмпирическое исследование где-то застопорится и устанет, то идея, как требование полного и систематического знания, станет спасительным стимулом никогда не закрывать эмпирическое знание, но сохранять плодотворное стремление к расширению во всех направлениях. Если же, с другой стороны, мы имеем дело с практическими требованиями долга и с адекватной оценкой нашей жизни и наших практических способностей, то определенные идеи снова входят в качестве необходимых, хотя и субъективных, вспомогательных понятий, без которых практические требования не могут быть прояснены, частично сами по себе, частично в их более широком контексте. Ведь разум содержит закон не только по отношению к знанию, но и по отношению к обязанностям. И таким образом, идеи, после полного уничтожения их конституирующего использования, вновь становятся открытыми вопросами в практическом отношении, которые никогда не могут получить ответ от самих себя, но всегда только через расширение знания опыта, с одной стороны, и через требования практического разума, с другой.
1
Рассекая в свободном полете воздух и чувствуя его противодействие, легкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы гораздо удобнее летать. Точно так же Платон покинул чувственно воспринимаемый мир, потому что этот мир ставит узкие рамки рассудку, и отважился пуститься за пределы его на крыльях идей в пустое пространство чистого рассудка. Он не заметил, что своими усилиями он не пролагал дороги, так как не встречал никакого сопротивления, которое служило бы как бы опорой для приложения его сил, дабы сдвинуть рассудок с места.