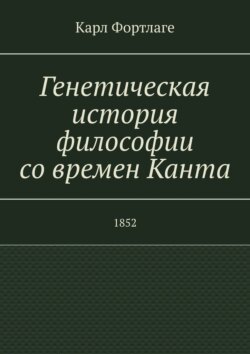Читать книгу Генетическая история философии со времен Канта. 1852 - - Страница 17
Жизнь и труды Канта
Критика практического разума
ОглавлениеКаждая наука имеет свое применение к жизни. Применение самой общей науки, философии, носит в то же время самый общий характер, являясь указанием на то, как следует жить в соответствии с законами разума.
Принцип практической философии у Канта не выводится из теоретической области, а находится путем самостоятельной критики наших практических способностей. Однако он согласуется с принципом теоретической сферы в той мере, в какой является принципом чистого разума. Это спонтанная деятельность нашей мыслительной способности, которая, с одной стороны, делает знание из одних ощущений, а с другой – подчиняет игру склонностей и инстинктов нашей практической природы общему и необходимому закону.
Процедура, которую Кант наблюдал в «Критике практического разума», в значительной степени аналогична его процедуре в области познания. Здесь также необходимо было очистить путь от пустого догматизма, а затем заложить совершенно новый фундамент на основе опыта. Догматизм вольфианской школы основывал мораль на так называемой врожденной идее совершенства, которой давалось слово для любого содержания и которая, таким образом, являлась прекрасным общим местом для назидательных рассуждений, но не принципом познания наших обязанностей.
И здесь английским чувственникам принадлежит заслуга в том, что они впервые лучше и основательнее использовали опыт. Они исходили из того, что опытным признаком хорошего характера является чувство, противостоящее эгоизму, которое, проявляя себя благожелательным и полезным по отношению к людям, в свою очередь, уверено в той благосклонности и аплодисментах, которые выражаются в хвалебных суждениях хорошего характера, в порицающих суждениях эгоиста. Ведь доброжелательность пробуждает доброжелательность, так же как ненависть в свою очередь рождает ненависть». Таким образом, субъект был уже счастливо поставлен на почву простого опыта, но, конечно, в то же время втянут в сферу простых чувств. Не разум и мысль, а чувства так называемого морального чувства создавали практические суждения. Эта доктрина была подготовлена Ричардом Камберлендом (1632—1719) и Купером графом Шафтсбери (1671—1713), последний из которых был другом Локка, и развита ирландцем Фрэнсисом Хатчесоном (1694—1747) в целую школьную систему, получившую большую известность под названием Шотландской школы моральной философии. Эта школа рассматривает доброжелательность по отношению ко всем людям как основу как долга, так и истинного счастья. Мотивом этой всеобщей доброжелательности является инстинкт бескорыстных поступков, который необходимо культивировать, укреплять и ставить в правильное соотношение с эгоистическими наклонностями. Тогда его следствием станет удовольствие от бескорыстия, которое выражается практически в хорошем поведении и теоретически в моральных суждениях.
Ричард Камберленд, De legibus naturae disquisitio etc. Сонбон, 1672 г. 4. Шафтсбери, Исследование о добродетели и достоинствах. Сонбон, 1699 г. Фрэнсис Хатчесон, Исследование о происхождении наших представлений о красоте и добродетели. Сонбон, 1720. Эссе о природе и поведении страстей и привязанностей с иллюстрациями о моральном чувстве. Sonbon, 1728. philosophiae moralis institutio compendiaria librisIII ethices et jurisprud. naturalis principia continens. Глазго, 1745. система моральной философии. Два тома. Лондон, 1756. 4.
Как бы мало ни был поколеблен фундамент этой доктрины, насколько она действительно эмпирична, и как бы ни превозносилась сама доктрина своей легкостью в понимании и большой плодотворностью в применении, все же тот, кто привык к строгой всеобщности и необходимости суждений в теоретической области, не избежит здесь недостатка, который цепляется за сенсуализм как за несмываемую фундаментальную ошибку, а именно того, что он нигде не достигает всеобщих и необходимых суждений. Если, например, жертвы, которые бескорыстные максимы налагают на человека, как, например, возвращение оговоренного долга, выполнение данного обещания в изменившемся состоянии жизни и т. д., становятся столь велики, что для приведения в движение такого бремени обязательств эмпирически не достаточно инстинкта благожелательности к ближним, то доктрина, не имеющая другого основания, кроме опыта и этого инстинкта, подвергает себя произвольным утверждениям и противоречиям. Ибо либо она должна, исходя из одних только чувств, допустить, что обязанность каждого человека действовать бескорыстно простирается лишь настолько, насколько простирается в нем инстинкт благожелательности. В таком случае моральное суждение будет иметь разные размеры и вес для разных людей, что нелепо. Или же она должна требовать, чтобы максима бескорыстного действия была расширена за пределы возможного чувства благожелательности до безусловного закона; тогда она противоречит своему принципу. Отсюда очевидно, что тот, кто склонен серьезно относиться к максиме бескорыстного действия, рассматривает себя тем самым, если он хочет быть последовательным в любом другом отношении, как вышедшего за пределы сферы чувственности в область общих и необходимых суждений разума.
Кант, вступивший на этот путь античности, почувствовал себя вынужденным провести различие между максимой бескорыстного действия и инстинктом благожелательности, который шотландские философы-моралисты игнорировали. Всякое благодетельное действие, если оно чистое, а не просто кажущееся, всегда является таковым бескорыстным, но для того, чтобы производить строго бескорыстные действия во всех без исключения случаях, одного инстинкта благожелательности недостаточно, а там, где он находит предел своей податливости, требование бескорыстного действия под названием долга остается абсолютно неизменным в моральном суждении. Благосклонная встреча снова порождает благосклонность, но благосклонность может быть получена от нас и через доброту, которая не имеет никакой связи с долгом и поэтому является обманчивым стандартом морального суждения. С другой стороны, бескорыстный поступок всегда и исключительно порождает чувство невольного уважения к действующему человеку, которое совсем не похоже на простую привязанность к нему, а скорее, поднявшись на необычную высоту, переходит в восхищение.
Хотя очень приятно делать людям добро из любви и сочувствия или быть справедливым из любви к порядку, но это еще не истинная нравственная максима нашего поведения, если мы, словно избиратели, горделиво ставим себя выше идеи долга и хотим делать, как бы независимо от заповеди, только из собственного удовольствия, то, для чего нам не нужна никакая заповедь. Мы скорее находимся под дисциплиной разума и не должны ни забывать во всех наших максимах о подчинении ему, ни отступать от него, ни укорачивать авторитет закона разума самолюбивым заблуждением, ставя основание нашей воли если и в соответствии с законом, то в чем ином, как не в самом законе и в уважении к этому закону. Долг и обязанность – вот имена, которые мы одни должны дать нашему отношению к нравственному закону.
Уважение всегда относится только к людям, но никак не к вещам. Последние могут вызывать в нас привязанность, а если это животные (например, лошади, собаки и т. д.), то и любовь, и даже страх, как море, вулкан, хищный зверь, но никогда – уважение. Ближе к этому чувству стоит восхищение, а это, как аффект, удивление, может относиться и к вещам, например, к высоченным горам, к величине, количеству и ширине тел мира, к силе и скорости некоторых животных и т. д. Но все это не уважение. Но все это не уважение. Человек также может быть объектом любви, страха или восхищения, вплоть до изумления, и все же не быть объектом уважения. Его шутливый юмор, его мужество и сила, его власть, его ранг среди других людей могут внушать мне подобные чувства, но мне все равно не хватает внутреннего уважения к нему. Фонтенель говорит: я преклоняюсь перед высшим человеком, но дух мой не преклоняется. Я могу добавить: перед низким, буржуазным, простым человеком, в котором я вижу прямоту характера в той мере, в какой я сам о себе не подозреваю, мой дух склоняется, хочу я того или нет, и несет голову так высоко, чтобы не позволить ему упустить мое превосходство. Почему так? Его пример открывает мне закон, который побеждает мое самомнение, когда я сравниваю его со своим собственным поведением, и соблюдение которого, а значит, и его целесообразность, я вижу доказанным на деле. Теперь я могу даже осознавать равную степень праведности, и все же уважение останется. Уважение – это дань, которую мы не можем не заслужить, нравится нам это или нет; мы можем в лучшем случае воздерживаться от нее внешне, но не можем не чувствовать ее внутренне.
Уважение – настолько малоприятное чувство, что мы неохотно отдаемся ему по отношению к человеку. Мы стараемся найти что-то, что облегчит его бремя, какой-то упрек, чтобы не испытывать унижения от такого примера. Даже усопшие, особенно если их пример кажется неподражаемым, не всегда защищены от этой критики. Даже нравственный закон, во всем его торжественном величии, подвержен этой попытке отвратить от него уважение.
Думаем ли мы, что это происходит по какой-то другой причине, по которой мы хотели бы принизить его до нашей конфиденциальной склонности, а по другим причинам стараемся сделать его любимым правилом нашего собственного хорошо понятого преимущества, чтобы избавиться от сдерживающего уважения, которое так сурово упрекает нас в нашем собственном недостоинстве? Тем не менее, в нем так мало нежелания, что, отбросив самодовольство и позволив этому уважению иметь практическое влияние, невозможно насытиться великолепием этого закона, и душа считает себя возвышенной в той мере, в какой она видит святой закон возвышенным над собой и своей хрупкой природой.
То, что является долгом, очевидно для всех; но то, что приносит истинное и прочное благо, всегда окутано непроницаемым мраком, если его распространить на все существование, и требует большой мудрости, чтобы при помощи искусных исключений приспособить практическое правило к целям жизни в приемлемом виде. Тем не менее, нравственный закон требует всеобщего, и притом самого пунктуального, соблюдения. Поэтому не должно быть так трудно судить о том, что следует делать в соответствии с ним, чтобы даже самый захудалый и необученный ум, лишенный житейской мудрости, не знал, как с этим справиться.
Выполнить заповедь нравственности под силу Зеде во все времена; выполнить заповедь счастья – лишь изредка, и ни в коем случае, даже в отношении одного намерения, это не под силу каждому.
Заповедь о том, что каждый должен стремиться сделать себя счастливым, была бы глупой; ведь никто никогда не приказывает человеку делать то, чего он неизбежно хочет по собственной воле. Нужно только приказать или, скорее, дать ему правила меры, потому что он не может делать все, что хочет. Но предписывать мораль под именем долга вполне разумно, ибо, во-первых, не всякий человек любит подчиняться его предписаниям, когда они противоречат его склонностям, а что касается правил меры, как он может подчиниться этому закону, то им нет нужды здесь учить, ибо что он пожелает в этом отношении, то и сделает.
Идея личности, которая пробуждает уважение, которая заставляет нас осознать возвышенность нашей природы (в соответствии с ее предназначением), одновременно давая нам понять недостаточную уместность нашего поведения по отношению к ней, и тем самым сбивает самодовольство, естественна и легко заметна даже для самого низкого человеческого разума. Разве каждый человек, обладающий хотя бы умеренной честностью, не обнаруживал иногда, что он упустил безобидную в других отношениях ложь, с помощью которой он мог бы выпутаться из досадной сделки или даже принести пользу любимому и достойному другу, только для того, чтобы не быть втайне презираемым в собственных глазах? Разве праведник в величайшем жизненном несчастье, которого он мог бы избежать, если бы только сумел поставить себя выше долга, не сохраняет сознание, что он сохранил и почтил в своем лице человечество в его достоинстве, что у него нет причины стыдиться себя и уклоняться от внутреннего зрения самоанализа? Эта внутренняя уверенность – следствие уважения к чему-то совершенно иному, чем жизнь, по сравнению с которой жизнь, при всей ее приятности, не имеет никакой ценности.
В силу этих соображений принцип долга, как общий и необходимый закон моральных суждений, отделяется от принципа склонности и благожелательности, с одной стороны, и от принципа блага и счастья, с другой, тем, что он обнаруживает себя как закон априорной мысли или чистого разума, как в силу своей всеобщности и необходимости, так и в силу своего отличия от всего содержания склонностей и инстинктов. Но как один только разум или мышление способны предписать общий и необходимый закон действия, так и исполнение его во имя самого закона, если такое исполнение вообще возможно, возможно только посредством чистого разума. Способность исполнять закон обязательства ради самого закона, а следовательно, благодаря чистому разуму, называется моральной свободой.
Через подчинение склонностей и инстинктов закону их спонтанности впервые возникают моральные действия, так же как через подчинение ощущений закону синтетической апперцепции впервые возникает знание. Шотландские философы ошибочно перенесли основную движущую силу рационального действия в простую пассивную способность морального чувства, так же как они ошибочно перенесли основную движущую силу рационального познания в простую восприимчивость ощущений. Кант подчинил простой материал опыта организующим законам априорного мышления как в теоретической, так и в практической сфере.
Свобода, как способность исполнять закон долга ради самого этого закона, является условием этого закона, без которого чистота последнего не может быть отрегулирована. Здесь мы имеем первый пример практического значения идей. Для того чтобы возникло действие, возвышающееся над простой моральной добротой до морального уважения, нельзя обойтись без концепции чистого морального закона разума, а для того чтобы полностью реализовать эту концепцию, условием служит идея свободы. Она является таким же необходимым условием практического закона разума, как чувство уважения – необходимым следствием его исполнения. Ибо чувство уважения возникает тогда, когда действие уже нельзя объяснить одними лишь мотивами склонностей и побуждений, а идея свободы – это теоретическое предположение о способности побуждения к действию, которое не зависит от склонностей и побуждений. Эта способность – условие, возможность которого требует концепция морального закона, хотя его реальность в области естественного знания может быть так же мало продемонстрирована его защитниками, как и его отрицатели способны представить доказательства его невозможности. В теоретической области свобода – один из тех бесплодных вопросов, которые нельзя ни утверждать, ни отрицать с уверенностью, поскольку они выходят за пределы области вещей самих по себе. В практической области идея свободы все же становится предметом познания, но не естественным путем, через наблюдение и опыт, а насильно, так как мы видим себя вынужденными встать на сторону этой идеи, если мы не хотим быть неверными моральному суждению о том, что достойно уважения.
Абсолютно общий и необходимый закон бескорыстного действия не может выдвинуть какой-либо объект способности желания в качестве детерминанты воли и поэтому должен искать детерминанту чистой воли или чистой склонности в простой форме рациональной законности наших действий. Поэтому чистая воля должна находить основание своей детерминации в чистом законе, причем не в материи закона, а в его простой форме, дающей закон. Чистая воля желает бескорыстия не потому, что оно приобретает благосклонность и уважение, а потому, что это общее и необходимое содержание закона разума, потому что это формально разумная вещь в жизни.
Если мой поступок строго соответствует форме закона разума, то его способ будет действителен как правило или модель рационального поведения для всех людей, и таким образом может быть выражена чистая форма основного этического закона: Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла рассматриваться как принцип общего закона, или, в более популярной форме: Как хочешь, чтобы люди поступали с тобой, так и поступай с ними. Поскольку это правило (так называемый категорический императив) содержит не что иное, как простую форму общего и необходимого для всех закона, установленного по отношению к действиям отдельного человека, его можно назвать основным фактом практического разума и основным правилом свободы как действия, проистекающего из чистого обдумывания в противоположность склонности. Подчиняясь этому закону, разум подчиняется функции всеобщего и необходимого в своих действиях. Функцией всеобщего и необходимого, однако, является мышление или сам разум. В этом он подчиняется только самому себе и своему собственному закону, тогда как в эгоистическом поведении он подчиняется закону, который не исходит из него самого, а диктуется ему инстинктами и склонностями. Разум, который черпает высший закон своих действий из других источников, – это гетерономный разум; разум, который черпает высший закон своих действий из самого себя, – это автономный разум.
Закон бескорыстия – избирать такой образ действий, какого, как нам кажется, мы вынуждены желать от всех, то есть никогда не совершать своих действий как простые индивидуумы, но всегда в лице человечества в целом, – должен быть применен не к отдельным действиям или привычкам (выбор дела, одежды, дома и т. д.), которые принадлежат конкретным способностям индивидуума, но только к общему разумному расположению всех, а следовательно, и к внутренним чувствам. Это необходимое и неистребимое желание не быть ущемленным в моих собственных действиях действиями других, а наоборот, быть максимально поощренным, которое преобразуется мыслящим человеком в общую и необходимую волю человечества, чтобы каждый не ущемлял никого в его действиях, а наоборот, максимально поощрял их, в соответствии с априорным правилом. С этой точки зрения этот закон можно назвать самой установкой всеобщей доброжелательности (человеколюбия), выраженной в строгой формуле: Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, а именно – благожелательно. В целом, в этом формальном законе важно не столько искоренить все следы материального содержания, сколько осознать, что существует большая разница между действиями из простого благожелательного желания и действиями из чистого намерения делать то, что признается разумным, и делать это только потому, что это разумно. Действие из простого благожелательного удовольствия – это, строго говоря, лишь эгоизм более тонкой природы, и он всегда скоро достигает своего предела, но если он проходит испытание, перенося правило своей благожелательности за пределы собственного удовольствия, то с этого момента он уже не действует из импульса и склонности, а действует из чистого убеждения, что то, что он делает, правильно и разумно. Такое действие есть действие ради формы закона разума, автономное действие. Автономно действует каждый, кто действует из чистого убеждения, что то, что он делает, в целом правильно, то, что соответствует человечеству в целом. Если в отношении материи закона произойдет ошибка, это нисколько не повлияет на ценность поступка, поскольку его ценность определяется не содержанием, а чистой формой закона, которая называется убеждением. Акт, верный убеждению, как таковой автономен.
Поэтому категорический императив как закон чистого разума в практической области имеет еще более доминирующее положение и силу, чем чисто рациональный закон синтетической апперцепции с его утверждениями категорий в теоретической области. Если вообще ставится вопрос о необходимом законе действия для рациональных существ как таковых, то это единственно возможная форма, в которой такой закон может появиться. Теперь эта форма сама по себе так же лишена всякого содержания, как и синтетическая апперцепция в этой области. Но она, как и последняя, не подвержена слабости, связанной с необходимостью быть одинаково удовлетворенной каждым содержанием, случайно данным ей ощущениями. Скорее, по отношению к инстинктивной жизни, с которой он вступает в контакт, он постулирует содержание благожелательности или гуманности как единственное, которое не противоречит форме этого закона, в то время как все остальные содержания он сразу же отвергает, потому что они вообще не могут быть приведены к форме этого закона. Если мы теперь поставим чистую форму императива в связь с содержанием, которое одно только остается нетронутым им, то понятие нравственного совершенства, которое вначале было лишь пустым вопросом, приобретает очень точный и ясный смысл. Благожелательность, или забота о счастье других, когда она включена в максиму рационального действия как общий закон или закон, не требующий принятия, сама по себе является моральным совершенством. Ибо это единственно возможное действие, основанное на истинном и хорошо понятом убеждении в содержании собственного разума.
Убеждения заслуживают уважения в каждом человеке. Там, где мы находим твердые убеждения и принципы, уже одно это способно вызвать наше уважение к человеку, но необходимо также, чтобы эти убеждения соблюдались последовательно и настойчиво. Хорошие люди, как правило, имеют бескорыстные принципы, но они не живут в соответствии с ними, поэтому часто обманывают себя относительно их плодов, в то время как они, тем не менее, всегда к ним благосклонны. Решительные эгоисты так сильны потому, что не руководствуются принципами, избегают в своих действиях всяких полумер, всегда соглашаются с собой в своей воле, и если только им хватает ума сочетать отсутствие убеждений с необходимой степенью лицемерия, они легко достигают своей цели везде. Поэтому несправедливо упрекают некоторые гиперкритики моральный императив Канта, будто он слишком малотребователен как правило нравственного поведения. Тот, кто считает его слишком легким и тривиальным, свидетельствует лишь о том, что он никогда в жизни не предпринимал серьезных попыток его выполнения. Бремя жизни, в которой, в соответствии с изложенными обстоятельствами, зло всегда имеет определенное преимущество на своей стороне, снимается добром только с помощью такого железного и непреклонного в своем самопонимании инструмента, как этот моральный императив. Оно, впрочем, полностью избавляет от него, и тот, кто решительно воспользуется этим средством, окажется сильнее силы зла в нем и без него.
В той мере, в какой человек исполняет закон бескорыстия, он представляется судье достойным уважения, поскольку исполняет и спасает то, что является общечеловеческим в его личности, его человеческое достоинство. Если же он опускается с этой высоты до уровня корысти и эгоизма, сжимается, так сказать, до простого индивида, он теряет свою безусловную человеческую ценность и уподобляется тому, что имеет лишь относительную ценность, – товару на продажу. Однако никогда не следует считать, что человек деградировал до такой степени, а нужно постоянно уважать разум как способность подлинной человечности в нем, и всегда рассматривать рациональную способность в человеке как самоцель, а не как простое средство для других.