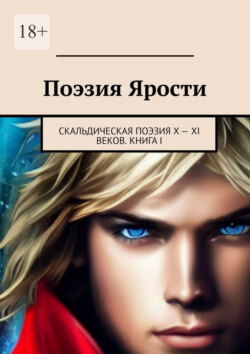Читать книгу Поэзия ярости. Скальдическая поэзия X – XI веков. Книга I - Галина Владимировна Довжик, Галина Владимировна Бузлова, Петр Александрович Карасев - Страница 6
БЕСПИСЬМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЗАРОЖДЕНИЕ АВТОРСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
ОглавлениеСкальдическая поэзия теснейшим образом связана со своим создателем, именем которого названа, скальдом. Вне творчества скальда скальдическая поэзия не существовала, ибо в отличие от эпической поэзии, которая расценивалась современниками, как внеавторская, скальд четко и недвусмысленно заявлял о своем авторстве, которое признавалось за скальдом обществом.
В сагах авторство большинства вис – скальдических стихов – четко обозначено: «И тогда (имярек) сказал вису». Приписывание себе чужих стихов считалось недопустимым, и нарушение этого правила встречало всеобщее неодобрение. О скальде конунга Харальда Прекрасноволосого Аудуне (X в.), например, было известно, что он украл стев (припев) «из драпы, которую Ульв Себба, сын его родича, сложил о Харальде конунге». В результате его драпа получила название «Песнь с украденным стевом», а сам Аудун за плагиат был награжден прозвищем Дурной Скальд, и не скоро достиг примирения со своим патроном.
Скальды творили свои стихи в Северной Европе – Дании, Швеции, Норвегии, большая часть дошедших до нас произведений связана с выходцами из Норвегии, заселивших Исландию и острова Северного Моря. Самым древним скальдом считается Браги (IX в.), создатель «Драпы о Рагнаре», последние скальдические произведения датируются XIV – XV веками, таким образом, время непрерывной традиции составляет более 500 лет. Неплохо для «темного» и «вычурного» стиха.
Несомненно, столь долгое бытование поэзии скальдов связано с эстетической востребованностью данных произведений: висы скальдов считались «красивыми», их заучивали и передавали из уст в уста, наслаждаясь их поэтикой. Е. А. Гуревич и И.Г Матюшина в монографии «Поэзия скальдов» указывают: «Большинство ученых считают, что воспринимать на слух поэзию, сочиненную дротткветтом, (особым скальдическим размером) могли только или сами скальды, или аудитория, достаточно искушенная во всех деталях скальдической техники, и утверждают, что дротткветтные висы не предназначались для единичного исполнения, но заучивались наизусть и затем расшифровывались. Тем не менее, трудно представить себе, что поэзия скальдов могла бы сочиняться, передаваться в устной традиции, восприниматься при исполнении и просуществовать в течение пяти веков, если бы не была понятной аудитории».
Классические скальдические произведения слагались и бытовали в бесписьменной среде. Строго говоря, скальды были неграмотны. При этом скальдические произведения не являются фольклором, ибо создавались они не «народом вообще», а конкретными авторами, и «народ вообще» помнил это авторство. По сути дела, мы имеем феномен «бесписьменной литературы», хотя такое сочетание и звучит как оксюморон.
Надо сказать, что скальды отнюдь не уникальны в своем положении бесписьменных авторов. Уже в Древней Греции было известно имя сказителя Гомера, которому приписаны своды Иллиады и Одиссеи. Можно спорить, являлся или нет Гомер автором этих произведений, но что «авторское право» закрепилось именно за ним, сомнений нет. Широкое распространение письменности в Античные Времена делает достаточно спорным исследования на тему существования «бесписьменной литературы» в Классических цивилизациях Греции и Рима, что усугубляется отдаленностью от нас тех времен и нарушением преемственности Античной и Средневековой Европейской цивилизацией, связанной с принятием христианства.
Другим примером существования осознанного авторства в бесписьменной среде, является феномен арабской словесности. Абу-аль-Исфахани в «Книге песен», написанной в X веке, приводит песни, созданные в доисламские времена, и каждая цитата сопровождается именем автора, наиболее ранние из которых творили в IV – V веках, и до письменной фиксации, которая началась во времена Арабского Халифата, бытовали в устной форме 100—200 лет.
Сходные общественно-экономические отношения порождают сходную ментальность. Арабы V – VII века жили родовыми общинами, занимаясь примитивным земледелием и скотоводством с параллельным бытованием «грабительской» экономики, основанной на грабеже и рекете торговых караванов, которым занимались наиболее пассионарные личности под руководством родовых вождей, чье происхождение удачно дополнялось лидерскими качествами и военными успехами. Только военные походы, сопровождаемые грабежом побежденных, могли в короткий срок дать человеку вожделенные богатство и славу, материальные ценности в этой жизни, и непреходящую ценность в виде памяти поколений, в последующей. Война – это риск, это боль, кровь и смерть, поэтому чтобы отринуть от себя спокойствие и гарантированную нищету ради негарантированной удачи, необходима мощная мотивация, не столько материальная, сколько духовная, ибо никакие ценности человеку не потребуются при худшем исходе дела – в посмертии. Но жизнь, продленная в песне, слава – это весьма мощный стимул даже для арабов, которые до принятия Ислама в бессмертие души не верили.
Слава неотделима от личности, от свершенных подвигов. Личность выделяется из рода. Наряду с выделением личности героя, совершающего подвиги, выделяется и личность песнопевца, воспевающего подвиги данного конкретного героя. Певец начинает осознавать свое авторство, ведь именно он, а никто другой, воспел данного конкретного человека, индивидуализировал его деяния в таких же индивидуализированных словах, а, значит, оставил отпечаток своей личности в песне, и она может принадлежать только автору и никому больше.
Не случайно тождество жанров песен, складывающихся в героическую эпоху: это хвалебная песнь, хульная песнь, и любовная песнь. Каждый их этих жанров выделяет личность из его окружения, индивидуализирует его, так или иначе, потому что восхваление, посрамление или любовь это, в первую очередь, отношение к личности, индивидуальное чувство.
Авторское стихосложение в Европе продолжает творчество кельтских филидов и бардов, из которых, например, известен Талиесин, живший, по преданию в VI веке, автор «Кат Годдо» – «Битвы Деревьев».
Многие исследователи считают, что скальдическая поэзия была привнесена в Скандинавию кельтами посредством контактов в Англии, но вменяемых доказательств этой теории нет. Скорее, это очередная попытка реанимировать все тот же политический миф, уже в отношении скандинавов, изображая их дикарями, воспринявшими светоч культуры и цивилизации из признанных культуртреггерных очагов – Франции и Англии. Удивительно, но проталкивают эти теории вечного заимствования сами скандинавские ученые. Кажется, это и есть сервильность – ментальное рабство, осознание себя глубоко ущербным, а своей культуры – вторичной, по отношению к неким Цивилизаторам. Отстаивают независимое происхождение и оригинальность скальдического стихосложения, как это ни парадоксально, русские филологи и лингвисты, Е.А.Гуревич и И.Г.Матюшина, причем, весьма убедительно, на основании тщательного лингвистического и исторического анализа.
Раннекельтская поэзия, в том виде, как она дошла до нас, представлена творчеством таких авторов, как Талиесин и Анейрин (VI век), Лливарх (мужчина) и Хедедд (это женщина) – жили в конце VI – начале VII века, но произведения датируют 850 годом, Мирддин Безумный, жил, по преданию в VI веке, произведения датируют XI веком. Легко заметить, что оказать гипотетическое влияние на сложение скальдической поэтики могли лишь первые из названных авторов – Талиесин и Анейрин, остальные творили уже параллельно со скальдами. Оба автора известны своими панегирическими поэмами. Талиесин воспевал сначала короля Уриена, а потом его сына Оуэйна, Анейрин создал большую героическую поэму Гододдин.
Добродетели, достойные восхваления – щедрость и храбрость правителей, во многом аналогичны скальдическим добродетелям, но это не может свидетельствовать о какой-либо связи тех и других. Щедрость с дружиной и жестокость к врагам – это трафаретные добродетели вождей Героического века, их воспевали по всему Земному шару народы, разделенные культурой, языком, временем и расстоянием. Заимствование предполагает привнесение в одну культурную среду образов, характерных для другой культурной среды.
В валлийской поэзии очень рано появилась тенденция ухода в минорное настроение, что особенно заметно у Анейрина. В поэме Гододдин он не столько воспевает героическую смерть в бою, сколько оплакивает погибших воинов. Талиесин начинает и заканчивает поэму о гибели Оуэна молитвой о его душе, что задает трагическую ноту.
Подобная слезливость чужда скандинавам. Вопли и причитания по поводу смерти на поле боя – это не для них. Если для валлийца смерть в бою является трагедией, то для скандинава – это то, к чему следует стремиться. Анейрин ужасается смерти, скальды ее героизируют.
В скальдической поэзии нет места чувствам жалости, утраты, депрессивному настрою, характерному для валлийцев. Древнеанглийская поэзия на древнегерманском языке позже впитает эти особенности валлийской поэзии, что выразится в элегиях – плачах по поводу и без повода. Различается и поэтический язык: барды описывали чувства, их поэзия не столько эпична, сколько лирична, скальды чувства визуализировали, выносили их вовне и создавали яркую словесную картинку.
Добавим, что известные валлийские барды творили уже после христианизации. Талиесин включил в поэму молитву о душе своего патрона короля Оуэна, соответственно, скандинавы, если предполагать, что валлийские барды оказывали на них какое-то влияние, должны были бы впитывать и элементы христианской культуры. Но ни намека на знакомство с христианством у скальдов нет, их поэзия проникнута традиционными мифологическими аллюзиями. Она до такой степени была завязана на языческую мифологию и религию, что первые христианские конунги вообще не желали слушать посвященные им скальдические песни.
Когда Сигват Тордарсон, в дальнейшем первый придворный скальд и ближайший сподвижник Олава Святого, впервые явился к этому конунгу и попросил разрешения исполнить хвалебную песнь в его честь, Олав сказал, что не хочет, чтобы о нем сочиняли стихи, и не любит слушать скальдов.
Е.А.Гуревич и И.Г.Матюшина в книге «Поэзия скальдов» пишут: «эта поэзия была изначально и нерасторжимо, на уровне самого языка, связана с язычеством. Описывал ли скальд сцены из жизни богов, изображенные на подаренном ему щите, или отвечал насмешливой висой на выпад противника, воспевал ли он подвиги правителя или жаловался в стихах на утрату возлюбленной, он всегда говорил на языке, весь образный строй которого был традиционно основан на языческой мифологии». Я уже не говорю о том, что кельтская языческая мифология отличалась от скандинавской, а во время гипотетического контакта кельтов со скандинавами, кельтская языческая мифология уже была вычеркнута из языковой культуры кельтов.
Таким образом, говорить о заимствовании скальдической поэзии от кельтов не приходится. Общность появления авторской бесписьменной литературы у кельтов и скандинавов объясняется, как и в случае с арабами, общими социально-экономическими условиями, дополнительно помноженными на общность происхождения. Не будем забывать, что происхождение и скандинавов, и кельтов восходит к общему пранароду ариев.
Более продуктивно обратиться не к кельтской, а к собственно англо-саксонской традиции. К V веку относится упоминание Бэдой Достопочтенным имени Кэдмона, автора «Гимна Кэдмона», произведения на христианскую тематику, сочиненном на древнеанглийском языке аллитерационным стихом. Уже в V веке у древних англов можно констатировать наличие авторского самосознания, и если нам ничего не известно о других древнеанглийских авторах, то нам неизвестны и произведения данных авторов. Корпус древнеанглийской поэтики сохранился, мягко говоря, фрагментарно, в основном, в рукописи «Древнеанглийская хроника», относящейся к X веку.
Надо сказать, что авторы, несмотря на господствующую христианскую концепцию анонимизации, стремились заявить о себе. Так Кюневульф вплел свое имя руническим шрифтом в текст четырех христианских поэм, тайнописью, но заявив о своем авторстве, что говорит о том, что авторское самосознание было присуще древнегерманской поэтике уже начиная с V века, и если затем мы и наблюдаем провал в 400 лет, то не потому что единожды заявив о себе авторское самосознание исчезло, а потому что у христианской письменной литературы не стояло в приоритетах сохранение традиционного наследия христианизированных народов.
Остановимся более подробно на этом вопросе. Древние англо-саксы были частью германского мира, к которому принадлежали скандинавы. Германские народы англов и саксов начали колонизировать остров Британия в V веке, перебравшись из Северной Германии (Саксонии) и в дальнейшем, перемешавшись с местными кельтами, образовали новый народ, сохранив за собой этноним англо-саксы. Генетически современные англичане отличаются от скандинавов, популяционно-генетический анализ определенно показывает, что потомков тех древних колонистов осталось не более 2%.
Пришедшие из Германии англо-саксы, назовем их «древними»:
1. говорили на языке, общем с древними скандинавами (тогда это был единый древнегерманский язык),
2. являлись носителями общей эпической традиции: события самого известного англо-саксонского эпоса «Беовульф» происходят в Дании и воспеваются в нем подвиги данов, гаутов и ютов – народов Северной Германии. Ничего собственно английского в повествовании нет, не считая того, что автор – будучи христианином – убрал все ссылки на традиционных германских богов. Сохранившийся отрывок «Вальдере» доказывает, что еще в X веке анло-саксы помнили обще-германскую эпическую традицию Бургундско-гуннского цикла, связанную с такими героями, как Атли, Гуннар, Хаген-Хегни и Дитрик Бернский. В «Деоре», английской элегии X века, автор – Деор (он называет свое имя в тексте) перечисляет фрагменты известных ему эпических сюжетов, которые также циркулировали в скандинавской среде: о кузнеце Велунде, о Дитрике (Бернском), о Йормунреке – Германарихе.
3. имели общую со скандинавами поэтику, известную, как аллитерационно-силлабическую, т.е. основанную на созвучии гласных и согласных (аллитерация) и определенном чередовании ударных и безударных слогов (силлабика), при отсутствии конечной рифмы. Чередование ударных и безударных слогов задавало определенный ритм, который и придавал речи поэтичность. В дальнейшем развитие древне-английского и скандинавского стихосложения пошло разными путями, но основные формы, сформировавшиеся к V веку, сохранялись как англами, так и скандинавами.
4. Известно, что у англо-саксов были профессиональные дружинные певцы – скопы, они исполняли свои произведения при дворах королей, сопровождая пение игрой на арфе. Положение скопов отличалось от положения бардов и филидов в кельтском обществе. Так, в «Деоре» сообщается, что владыка просто-напросто изгнал Деора со своего двора, отдав его «имение» другому певцу Хеорренде, о чем Деор жалобно сообщает. Думается, упоминание по именам, как себя, любимого, так и своего соперника не случайно: английские скопы, как и скандинавские скальды, сознавали себя личностями, и в таковом качестве громко заявляли о себе. Назвав свое имя в сочиненном произведении Деор, по сути дела, оставил свой автограф, и это было сделано сознательно и в русле традиции, ибо мышление средневекового человека по определению было традиционным, а не инновационным.
Можно предполагать, что осознание своего личностного авторства имеет общегерманские корни и зафиксировано уже в V веке. Если сопоставить с относящейся к этому же времени традицией кельтских бардов и филидов, то приходится углубить феномен «бесписьменной» литературы еще глубже, как бы ни к Гомеру. Если же учесть арийское влияние на арабов (обосновывать это положение ни к месту, и ни ко времени), то вполне может получиться, что феномен арабской бесписьменной литературы развился не то чтобы вполне самостоятельно. Не забудем о полном совпадении жанров в арабской и германской поэтике, которая хоть и может быть объяснена общностью человеческого мышления под влиянием единой социо-экономической среды, но все равно, выглядит странно.
Расхождение судеб традиционной поэтики у древних англо-саксонцев и скандинавов связано с расхождением их исторической судьбы, по крайней мере, с V века. Англия в V веке приняла христианство, и англо-саксы тоже достаточно быстро христианизировались, так что Кэдмон сочинил свой «Гимн» на новой идеологической основе. Христианизация, как в свое время кельтов, так и германцев имела важные последствия и для тех, и для других, а именно: анонимизация традиционной поэтики с последующим затуханием традиции.
Как ни странно, хотя ничего в том странного нет, следующим народом, хронологически близким к скандинавам, имеющим традицию «бесписьменной литературы» с осознаваемым авторством, являлись средневековые русичи, как это зафиксировано в чудом спасшемся «Слове о полку Игореве», где назван по имени сказитель Боян и возможно еще один сказитель Ходына, а также приведены цитаты из их произведений. «Слово о полку Игореве» записано во второй половине XII века, Боян и Ходына должны быть, по определению, старшими по отношению к Автору Слова, следовательно, жить в XI веке, т.е. быть современниками классиков скальдической словесности, которые творили в X – XI веках. Есть предположение, что Боян был современником Всеслава Изяславича, внука Владимира Крестителя, о котором оставил знаменитые слова, подытоживающие его жизнь: «Ни хитрому, ни умелому суда Божьего не избежать», таким образом, имя Бояна, как автора княжеских панегириков, помнилось, по меньшей мере, 100 лет.
Мы видим синхронное возникновение и у скандинавов, и у русичей одного и того же явления: авторской поэтики, но если скандинавская скальдическая поэзия, пусть и в отрывках, дошла до нас, то русская – увы и ах.
Западная Европа вновь вернулась к осознанию личностного авторства, которое она знала в V веке, лишь в XII веке в форме творчества окситанских трубадуров и жонглеров. Перерыв не много, ни мало 700 лет. Столько времени потребовалось западно-европейской цивилизации, чтобы ассимилировать христианство. Исчезли кельты вместе с бардами и филидами. Полностью сменился язык с кельтского на романский. Появились новые нации: франкская, окситанская, нормандская, и новые государства: королевство Франция, герцогство Аквитания, герцогство Нормандия. Вновь из ниоткуда возник феномен бесписьменной литературы трубадуров. Однозначно, что осознание своего авторства у трубадуров Южной Франции не связано ни с традицией бардов и филидов кельтов, ни со скальдической традицией Северной Европы. Это было преодоление христианского обезличивания, которое культивировалось во всех странах и народах, как христианская добродетель. Полностью ликвидировать авторское самосознание получалось не всегда, но тенденция была именно такова. На Руси Автор «Слова о полку Игореве» назвал имя Бояна, но свое тщательно замаскировал, ибо в открытую назвать себя стало дурным тоном.
Итак, 700 лет потребовалось народам Западной Европы, чтобы ассимилировать христианство и создать новую культуру Высокого Средневековья, где христианская любовь превратится в духовную любовь к женщине, любовь к ближнему найдет свое выражения в идеале рыцарского служения, а верность Единому Богу станет залогом верности Сеньору. Идеи, бесконечно далекие от скальдической поэтики, которая вообще не приспособлена для выражения каких-либо абстракций, она предельна ситуативна и конкретна.
Теоретики «культуртрегерства» выдвинули идею, что скальдическая поэзия развивалась, как можно догадаться, под влиянием южно-французской поэзии трубадуров. То, что контакты окситанцев и норманнов были, отрицать невозможно. Известен, например, такой факт: в 1151 году во время Крестового Похода ярл Оркнейских островов Ренгвальд Кали остановился в Лангедоке в Нарбонне, где в то время правила виконтесса Эрменгарда, покровительница многих трубадуров: Пейре Роджера, Пьера Овернского, а может быть даже Бернарда де Вертадорна. При дворе Эрменгарды ярл сочинил две висы, и по одной сочинили находящиеся при нем скальды Одди Глумсон и Армод. Все висы были посвящены Эрменгарде, что неудивительно.
Надо добавить, что висы были сочинены, естественно, на скандинавском языке, и как их переводили для Эрменгарды или они остались без перевода, история умалчивает. Стихи трубадуров, так же как скальдическая поэзия, крайне формализованы, что делает практически невозможным адекватный перевод и тех, и других на иностранные языки. Сомнительно, чтобы ярл и его люди понимали южно-французский ок и могли в полной мере оценить поэтику трубадуров, неизвестно, как они со своей северной моралью восприняли куртуазную «игру в любовь». Надо сказать, германцы не принимали дозволенность южно-французской «любви к Донне», где Донна была замужней женщиной, и считали такое положение вещей аморальным.
Идея возникновения скальдической поэзии под влиянием южно-французской напарывается на проблему хронологии. Хоть вывернись наизнанку, но первые опознаваемые трубадуры – Фридрих II в Сицилии, Гильем IX в Аквитании творили в конце XI – XII веках, а сочинения скальда Браги датированы IX веком. Разрыв всего ничего – 200 лет, и не в пользу трубадуров. Но теоретики культуртреггерства люди ушлые и говорят следующее: скандинавские саги и висы записаны не ранее XIII, а то и в XV веке, а, следовательно, и сочинены они вовсе не в то время, которое они описывают, а гораздо позже. Доказательством авторства того или иного скальда является лишь традиция, а вещь это ненадежная. Ничего не мешало безвестным монахам самим сочинять скальдические стихи и вкладывать их в уста традиционно-известных скальдов. А монахи – они люди образованные, знали латинский, стало быть, и ок понимали, на месте они не сидели, разъезжали по всей Европе, несли культуру из очагов цивилизации в разные медвежьи углы, вроде Северной Европы.
Действительно, в сагах встречаются эпизоды, относящиеся к литературным «бродячим сюжетам» и нельзя отрицать тот факт, что в саги проникали веяния извне, из общего европейского литературного котла сюжетов. Поэзия же скальдов целиком ситуативна, часто висы невозможно понять без прозаических пояснений, отсюда вроде бы вытекает положение, что висы моложе текста саг.
Оказалось, нет. Филологическое изучение скальдической поэтики показало, что лексика вис старше прозаической лексики саг. В висах гораздо чаще встречаются архаизмы и поэтизмы, слова, не использующиеся в обычной речи. Иногда автор саги пытался модернизировать непонятный ему текст висы, как, например, виса Тормода Скальда Чернобровой, где он заявляет о своей готовности умереть и обращается непосредственно к самой Хэль-Смерти, была интерпретирована, как обращение к лекарке с жалобой на боль в смертельной ране. (См. в тексте).
Довольно часто висы, в которых скальд обращается к некой условной женщине (одна из традиционных фигур поэтики скальдов) вписывают в диалог скальда с какой-либо реальной женщиной, которая вовремя появляется, чтобы поговорить о новостях. Бывает и так, что не очень хорошо понимающий смысл висы автор саги, меняет пол персонажа, разговаривающего со скальдом, т.е. в висе скальд обращается к женщине, а в тексте говорится о мужчине, и наоборот. Т.е. автор саги не придумывал вису под свой текст, а свободно инкорпорировал уже имеющие висы в прозу саг, при этом от мастерства сказителя часто зависело, насколько органично виса вписана в сагу.
На относительную древность вис указывает использование мифологических кеннингов (условных поэтических метафор, подробнее ниже). Трудно себе представить, чтобы благочестивый или даже не очень монах XIII – XV века стал бы свободно пользоваться такими кеннингами, как Фрейр поединков, Улль металла, Идунн запястий и т. д. Звать по именам языческих богов, это все равно, что кликать бесов. Исследователи отметили четкую тенденцию: с принятием христианства количество мифологических кеннингов резко сократилось, а это значит, что висы, насыщенные мифологическими кеннингами сочинялись в языческую эпоху. Таким образом, даже если непосредственных доказательств авторства вис нет, и никогда не будет, анализ языка подтверждает, что висы создавались приблизительно в то время, которым они датированы традицией, а это никак не XIII – XV век.
Еще один довод против заимствования поэтики скальдов от южно-французских трубадуров, это тот факт, что скандинавское стихосложение, основанное на силлабо-тонической системе (подробнее ниже) есть продукт развития общегерманского аллитерационного стиха. Сложный ритмический рисунок скальдических вис не имеет ничего общего с не менее сложным, но основанным на других критериях стихосложения, ритмическим рисунком поэзии трубадуров. Системы стихосложения нордических скальдов и окситанских трубадуров – различны, в них нет ничего общего. При культурном заимствовании заимствуется все: и форма, и содержание, ибо что в скальдической поэзии, что в поэзии трубадуров разделить форму и содержание не представляется возможным, откуда и берется проблема перевода.
Если не получается объявить полное заимствование, то можно продвинуть гипотезу о частичном. Так, более распространено мнение, что под южно-французским влиянием в Северной Европе появилась конечная рифма и, соответственно, особый поэтический размер Рунхент, а также любовная лирика Мансенг.
Более углубленные исследования показывают, что нет нужды прибегать к иным сущностям, если все прекрасно объясняется из внутренней эволюции самого скальдического искусства. Рунхент изобрел на основе экспериментов с внутренними рифмами скальд Эгиль Скалагримсон, и в дальнейшем этот размер стал достоянием его рода. Эгиль жил в X веке, за 200 лет до появления поэзии трубадуров. Исследование всего корпуса произведений, приписываемых Эгилю, обнаруживает внутреннее единство стиля, характерное для единоличного авторства, так что проще всего предположить, что Эгиль реальный автор стихов, связанных с его именем.
Что касается Мансенга, то этот жанр родился из древних любовных приворотных заговоров, и в таковом качестве был запрещен к публичному произношению в Исландии под угрозой объявления вне закона. Понятно, что законодательство не способствовало сохранению Мансенга, и по большей части они до нас не дошли. О древности же этого жанра свидетельствует эддическая песня «Поездка Скирнира», где описывается любовное томление Фрейра по поводу девицы Герд. Правда, к любви Герд склоняли больше проклятиями, чем уговорами, но сила чувств влюбленного Фрейра описана весьма возвышенно. Про девицу сказано, «от рук ее свет исходил, озаряя свод неба и воды», а про свою любовь Фрейр говорил: «Часто казался мне месяц короче, чем ночи предбрачные». Весьма тонкое замечание об относительности времени. «Поездка Скирнира» датируется концом языческой эпохи в Исландии, т. е. X веком, где-то в это же время Эгиль Скалагримсон сказал вису о своей любви к вдове брата Асгерд. Традиция Старшей Эдды, несомненно, старше висы Эгиля и демонстрирует цепочку, соединяющую эпическую и скальдическую поэзию. Скандинавы вовсе не были чужды любовной лирики, ее первый образец на 200 лет старше произведений трубадуров.
Скальдическая поэзия – это своеобразное творчество скандинавских народов, идущих своими корнями в глубокую древность общегерманского, а возможно и общеарийского единства. Она родилась путем развития общегерманского аллитерационного стиха. Традиция скальдической поэзии имеет свою основу в эпической эддической поэзии, с которой она неразрывно связана как поэтикой, так и множеством аллюзий. Отличительной особенностью скальдической поэзии от других форм скандинавского народного творчества является осознанное авторство, особая поэтика, о которой будет рассказано ниже и предельная ситуативность.