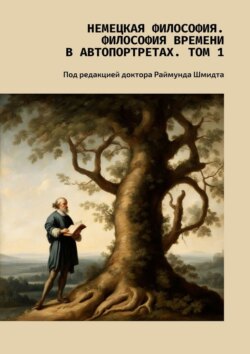Читать книгу Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта - Валерий Алексеевич Карданов, Дарья Андреевна Самсонова, Наталья Сергеевна Кузьмина - Страница 2
Предисловие редактора
ОглавлениеОт того, какую философию человек выбирает, зависит, что он за человек: ведь философская система – это не мертвый предмет обихода, который можно отбросить или принять по своему усмотрению, но она одушевлена душой того, кто ею владеет».
Фихте, Первое введение в теорию науки.
Эта коллекция автопортретов живых философских личностей имеет как фактологическое, так и педагогическое обоснование. Он составляет определенный контраст со всеми «введениями в современную философию», со всеми «изложениями современных философских течений1», которые являются вторичными и которые почти всегда оказываются в заблуждении, что полностью адекватное изложение современной философии вообще возможно. Точно так же, как, несомненно, возможен рассказ о достижениях техники, отчет о современном состоянии медицинских исследований и прочее.
«То, что передает художник, – пишет Алоис Риль в своей монографии о Ницше,1 – и на чем основывается его действительный эффект, – это не объект его работы в отдельности или в первую очередь, а он сам в своей работе: его концепция объекта, его настроение, радость от его работы. Произведение и личность едины в каждом подлинно художественном творении». Аналогичная ситуация и с философом. Его творчество – это тоже комплекс его высшего философского опыта и тех проблем, которые ставит перед ним его среда, его время. Даже в тех произведениях современной философии, где явно прослеживается стремление оторвать мысль от личности того, кто ее мыслит, т.е. «обезличить» свое творчество, присутствует необычайно значимая личностная нота.
Стремление отдельных авторов рассматривать каждую из своих проблем sub specie aeter-nitatis вытекает из личности автора, является симптомом своеобразия его душевного склада. В работах наших философов также постановка проблемы и ее решение оказываются настолько тесно связанными с личностью решателя, что разделить эти два фактора было бы равносильно нарушению работы. Разумеется, не мелкие черты повседневного опыта должны оказывать широкое влияние на жизненный путь философа. «Философы имеют, – как выразился Пауль Менцер в превосходной ректорской речи,2 – право требовать, чтобы их учение понимали из их высшей жизни».
Если уже сейчас необычайно трудно нарисовать картину жизненного пути философа далеких веков так, чтобы не возникло противоречий, то насколько же сложнее это сделать в отношении живого, нарождающегося человека! Труд умершего человека завершен и говорит сам за себя. Богатство данных, относящихся к его личному опыту, было передано как руководство к его «высшей жизни», так сказать. Это относительно неизменный набор факторов, позволяющих нам судить о его творчестве, понимать это творчество с точки зрения его личности и его времени, и все же его образ колеблется в веках. Каждая эпоха и каждый историк, живущий в ней, зависят от конкретных потребностей, опираются на конкретные стандарты. Тем не менее, в ходе историографии, которая заключается в постоянном обобщении и сравнении найденных особых перспектив, могут возникать образы относительной стабильности и некой «вечности». Тем не менее, несмотря на все уверения исторического мышления и реконструкции, объективный контроль невозможен. Накопленные предрассудки, накопленные ошибки реконструкции в хорошем и плохом смысле легко вкрадываются в этот «образ вечности» и таким же образом увековечиваются, и поэтому, по мнению редактора, даже самую совершенную реконструкцию исторической личности мы должны сравнить с мифом в определенном смысле. История, которая в конечном счете является наукой и провозглашением души, – говорит Эрнст Бертрам 3в своем «Мифосе Ницше», – никогда не является синонимом реконструкции чего-то, что было, с максимально возможным приближением даже к той реальности, которая была. Скорее, это именно де-реализация этой прежней реальности, ее перевод в совершенно иную категорию бытия; это замена, а не создание реальности».
Причина этого исторического процесса обессмысливания кроется уже в наших отношениях с современниками. Вероятно, никто не в состоянии получить всеобъемлющее представление о современной философской литературе путем обширного, непредвзятого изучения источников, да и вообще всех источников, и в то же время имеет счастье находиться в таком тесном контакте с достаточным числом философских личностей, что решающие для философского развития черты чисто личного развития, внутренней жизни и характера не являются для него тайной. Тот, кто не находится в таком положении, а это более или менее каждый из нас, зависим от сведений из вторых рук и не имеет возможности исключить из своего представления о «философских течениях современности» игру случая, каприз моды дня, предрассудки рецензентов, односторонность направления и тому подобные искажающие факторы. Ведь даже те писатели, которые ставят перед собой задачу описать современную философию, редко черпают достаточно из обоих источников: из знания произведений и личностей. Слишком часто им не хватает непосредственного, всеобъемлющего, сравнительного знания всей философской литературы, и даже там, где оно примерно доступно, человек редко может освободиться от влияния своей собственной философской позиции на его способность интерпретировать чужие мыслительные процессы без предубеждения, от своих собственных стремлений и желаний, которые делают невозможным для него полное ознакомление, полное понимание и передачу творений других. Таким образом, первый шаг к фальсификации исторической реальности, к мифизации в хорошем и плохом смысле, о которой мы говорили выше, делается уже при жизни автора. Поскольку у нас нет объективного отчета о философии наших современников, поскольку мы не можем иметь такого отчета, мода того времени и капризы случая играют самые губительные игры с нашими попытками видеть и судить объективно. Поэтому понятно, что в общественном мнении играют роль ошибки самого трагического свойства, что, несмотря на всю добрую волю, «система невежества и смертельного молчания» никогда не перестанет действовать, что искренний крик одинокого мыслителя остается неуслышанным и что модные фигуры без глубины и вдумчивой дисциплины привлекают все лучи общественного внимания.
Идея этого сборника возникла из таких фактических возражений против сообщений из вторых рук. Никто, кроме создателя системы, никто, кроме самого творца мысли, не может дать отчет о «психогенезе» этой мысли. Только он знает значение отдельных этапов ее интеллектуального развития. Он один способен указать, при каких судьбоносных личностных и фактических условиях проблема стала для него проблемой, а решение – решением. Ему легче всего классифицировать себя в концерте умов своего времени и продемонстрировать историческую привязку своего мира мысли. У него тоже, несомненно, будут «ценности», и его категоризация также будет субъективной. Однако субъективный момент, который таким образом вливается в такой отчет, совершенно не похож на источник ошибок, возникающих при субъективном восприятии и сообщении литератора X, который совершенно равнодушен к философии. Напротив, поскольку в философии фактический и личностный аспекты образуют нерасторжимое единство, он является абсолютной частью той картины, которую мы обязаны составить о данной личности и ее философии. Более того, этот субъективный элемент в достаточной степени уравновешивается и нивелируется противопоставлением самых разных личностей в сборнике для тех, кто имеет в виду только судьбу конкретной проблемы и стремится избавиться от всех субъективных источников ошибок.
Такое неприятие репортажей из вторых рук накладывает серьезные обязательства на редактора этого сборника. Он тоже является источником ошибок, по крайней мере, благодаря тактике отбора, которую он применяет среди ведущих умов философского настоящего. В этом деликатном вопросе он должен оправдаться перед публикой. Однако обзор доступных на данный момент материалов сборника показывает, даже самым предвзятым, что не может быть и речи об отборе, основанном на каких-либо личных философских пристрастиях. Суровый. Сборник объединяет противоположности, хотя изначально предлагает лишь часть общей картины современной философии. Он задуман как бесконечная задача. Он должен постепенно превратиться в своего рода «энциклопедию философских личностей нашего и грядущего времени». Поскольку начинать нужно было с какой-то группы людей, имело смысл ограничиться вначале самыми выдающимися фигурами в академической философии, в той мере, в какой они достигли или уже прошли определенную вершину в своем творчестве. Разумеется, с каждым новым изданием тома эти авторы получают возможность пересмотреть свой вклад и добавить вновь обретенные этапы своего творчества, новые взгляды на уже пройденный ими путь развития. Однако это ограничение более узким кругом специализированной академической философии ни в коем случае не должно оставаться таковым. Как только здесь будет достигнута определенная полнота, последующие тома будут посвящены личностям, сфера деятельности которых включает пограничные философские области, философию права, педагогику и т.д., и, прежде всего, будут также включать автопортреты философских личностей, стоящих вне академической жизни и оказавших значительное и зрелое философское влияние. В этом отношении редактор не намерен полагаться исключительно на свои собственные суждения или предубеждения. Скорее, он просит общественность высказать свои предложения по организации публикуемой коллекции. Он постарается добросовестно изучить эти предложения и представить их на рассмотрение всех авторов. Он хотел бы, чтобы его собственный научный вкус и его философские склонности, в той мере, в какой они могут быть субъективными источниками ошибок при редактировании этой работы, были устранены.
Здесь редактор хотел бы парировать возражение, которое было высказано ему некоторыми лицами в ответ на его приглашение к сотрудничеству, будто желаемый акцент на личностном моменте в философском развитии является приглашением к саморекламе, авторскому тщеславию и демонстрации публике: «Смотрите, какой я мужчина!» Если бы публичность, американизм действительно были краеугольным камнем этого сборника, это было бы преступлением против соавторов и публики.
В его осмыслении проблемы, в развитии мысли со стороны ее создателя, в его самопрезентации так много от личности автора, что он не смог бы искоренить ее даже из своих научных трудов. Если он попытается сделать это успешно, то тот личный момент скромного отступления* за пределы рассматриваемого вопроса также заметно отразится в этих трудах. Уверенная в себе личность будет преподносить себя с осознанием, даже если в данном случае речь не идет о том, чтобы писать именно об этом. Сдержанная личность также непреднамеренно и без прикрас раскроет момент сдержанности в самоописании. Чтобы предоставить каждому автору полную свободу в этом более бессознательном представлении собственной личности, своей «высшей жизни», редактор оставил за каждым право решать, как он хочет представить психогенез своего мира мысли.
Помимо фактической, этот сборник преследует и образовательную цель. Она вытекает из тех же убеждений. Как в наш век специализации и разделения труда, позволяющий лишь очень небольшому числу людей черпать непосредственно из многих источников, человек может осознать философскую личность, быть приведенным к ней, которая своим судьбоносным развитием и уникальным состоянием души предлагает ему то мировоззрение, которого он так жаждет? Перед лицом этого чрезвычайно важного вопроса все представления из вторых рук меркнут, превращаясь в простые схемы. Только автопортреты, подобные тем, что представлены здесь, ставят под вопрос серьезного искателя. Только они дают краткий, но неискаженный фактический обзор философских достижений наших лидеров в области философии и широкую поверхность контакта с людьми, стоящими за этими достижениями. В рамках этих самоописаний ищущий вскоре обнаружит адекватную ему личность, чтобы направлять ее к прямым источникам, которые открываются перед ним в ней и через нее.
Лейпциг, октябрь 1920 г.
Доктор Раймунд Шмидт
1
Алоис Риль, Фридрих Ницше, художник и мыслитель. 6-е издание. Штутгарт 1920, Frommans Klassiker der Philosophie.
2
Пауль Менцер, Личность и философия. Halle 1920, Niemeyer.
3
Эрнст Бертрам, Ницше. Попытка мифологии. Берлин 1918, Георг Бонди.