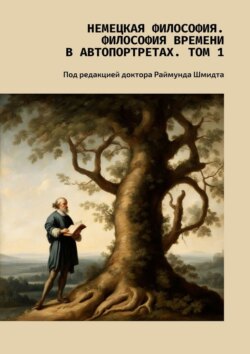Читать книгу Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта - Валерий Алексеевич Карданов, Дарья Андреевна Самсонова, Наталья Сергеевна Кузьмина - Страница 3
Пауль Барт
Почетный профессор Лейпцигского университета.
ОглавлениеЕсли говорить о моем интеллектуальном развитии, то даже в последние годы студенчества мое стремление было направлено на полное и единое осознание всего сущего. Я считал, что это должно быть естественной целью каждого поэта и мыслителя, и был очень разочарован, когда нашел в «Мудрости брамина» Рюккерта лишь знание жизни, причем несистематическое, но никак не знание природы. Однако у меня было чувство, что это универсальное знание можно получить только из всего богатства отдельных наук, как обобщение их результатов, возведенное в высшую степень, дающее широкий, большой обзор настоящего и отсюда предвидение будущего.
Свои академические занятия я начал в 1875 году (родился в 1858 году). Большая любовь к классическим языкам и их литературе заставила меня обратиться к классической филологии. Я рассматривал ее как углубленную историю и надеялся получить глубокие знания об одной части прошлого. Я не игнорировал другую часть, историю Средних веков и современности, я хотел получить знания обо всей истории, по крайней мере, разобраться в этой половине бытия, поскольку у меня был большой интерес к естественным наукам, но мало времени. Мой план когда-нибудь получить мировоззрение, основанное на всей совокупности наук, оставался непоколебимым. Моим идеалом были те философы, которые охватывали или казались охватывающими вселенную в своих знаниях, такие как Лейбниц и Гегель. В Лейпцигском академическо-философском обществе, куда я приехал после шести месяцев, проведенных в Бреслау, летом 1876 года я прочитал лекцию о гегелевской философии истории, которую я не до конца понял, но которая захватила меня своим стремлением подвести под одну формулу все развитие человечества. Естественно, я слушал философские лекции, по внешним причинам больше с историком Максом Гейнце, чьим «famulus» я был, чем с Вундтом, а также с тогдашним приват-доцентом Рихардом Авенариусом, в которых он знакомил нас со своей теорией познания. Я также был многим обязан вышеупомянутому Академическому* философскому обществу, которое я с радостью обнаружил в Лейпциге, где сразу же стал его членом и оставался им до конца своих студенческих дней. Все проблемы философии и современные вопросы обсуждались там в горячих дебатах, тем более плодотворных, что среди нас был старший студент, Мориц Вирт, который был уже в зрелом возрасте и поэтому имел авторитет и умел подкреплять его снова и снова своими обширными знаниями и логической проницательностью, который видел свою задачу в этом воспитании молодых студентов и посвятил себя этому с большим усердием. Впоследствии он активно писал, особенно как прекрасный знаток поэзии и музыки Вагнера и последователь национал-экономиста Родбертуса, и умер в очень бедных обстоятельствах в Лейпциге в 1917 году. Он также продолжал заниматься филологией. Отто Риббек, редактор «Вергилия» и автор «Истории римской поэзии», обучал меня филологическому методу и критике. Моя докторская диссертация была посвящена использованию инфинитива у римских драматургов. Меня привлекли сцены частной жизни, раскрытые в их пьесах, и тонкое использование языка, предложенное Теренцием. Моя работа доказала, что я «понимаю ремесло», которое Карл Штумпф справедливо считает необходимым условием для философа.
Я покинул Лейпциг на Пасху 1881 года. За этим последовал год военной службы, затем четыре года (1882—1886) я работал учителем в Бреслау и Лигнице. Моя педагогическая работа давала мне много стимулов, и не в последнюю очередь потому, что, хотя я был новичком, я не получал никаких наставлений, а только учился на своих ошибках и поэтому мог наслаждаться своими собственными приобретениями. В течение этих четырех лет я преподавал во всех классах гимназии, а также в течение двух лет был членом экзаменационной комиссии Матура, так что у меня было много возможностей для приобретения педагогического опыта. Я начал карьеру учителя в надежде, что эта работа оставит мне достаточно времени для академических занятий и философского анализа. Однако я понял, что это иллюзия, и решил отказаться от этой должности, чтобы полностью посвятить себя науке. Я отправился в Лейпциг, который снова привлек меня как памятное место моих студенческих лет, и погрузился в новую работу над собственным образованием. В 1887—1888 годах в Йене я снова попытался совместить эту работу с преподаванием в гимназии. Этот год в Йене принес мне окончательное осознание невозможности такого сочетания, но также и ценный педагогический опыт благодаря искусству и личности Густава Рихтера, тогдашнего директора гимназии. Я вернулся в Лейпциг весной 1888 года, еще два года изучал естественные науки и экономику и в 1890 году получил звание профессора философии, защитив диссертацию «Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer, ein kritischer Versuch». (Лейпциг, О. Р. Рейсланд).
Из двух частей реальности история оставалась для меня наиболее близкой, несмотря на весь мой интерес к природе, в то время как я все больше понимал, что познание исторического мира по существу еще не достигнуто, что Гегель, несмотря на свои богатые исторические знания, видел его только с одной стороны, сверху, с идеологического птичьего полета. Я считал, что более глубокое проникновение в исторический процесс возможно лишь при условии, что человек – существо социальное, что историческим событием является лишь то, что касается не отдельного человека, а совокупности, что индивид становится предметом рассмотрения лишь в той мере, в какой он руководит совокупностью, что закон жизни общества есть в то же время закон истории, что философия истории совпадает таким образом с «социологией», социальной наукой, которую Огюст Конт и Герберт Спенсер не создали окончательно, но пытались это сделать. В частности, Гегель находил действенными только сменяющие друг друга системы идей, отдельных «народных духов», но слишком мало внимания уделял реальным факторам, особенно экономическим. Он слишком мало признавал, например, экономические причины падения античного государства и его культуры и всемирно-историческое значение Гракхов, неудача которых представлялась мне трагическим поворотным пунктом в судьбе античного мира. Увлечение этими великими деятелями, превосходившими всех античных государственных деятелей духом, характером и человечностью, побудило меня написать поэтическое изображение старшего Гракха, трагедию «Тиберий Гракх», которую я опубликовал в 1892 году и, с некоторыми изменениями, во втором издании в 1893 году. Я полагал, что проблема, касающаяся не одного, а целого народа, сочувствующая всемирно-историческая личность и всемирно-исторический кризис должны быть привлекательны для театральной публики. Меня постигло глубокое разочарование. Литературная критика была в основном благосклонна, но режиссеры, некоторые из которых также признавали ее ценность, отвергали драму «из-за темы». Она стала жертвой дурной репутации римских драм. Лишь один венский театральный режиссер, Адам Мюллер-Гуттенбрунн, в феврале 1899 года решился поставить спектакль с частично неадекватными актерскими силами. И здесь серьезная критика была благосклонна, но зрителей привлечь не удалось из-за сюжета, точнее, из-за связи между сюжетом и уровнем образования. Спектаклей было всего четыре. Все это было не только полезным для моего самопознания, но и социологическим опытом.
Социология теперь оставалась в центре моей работы, хотя мои лекции касались не только ее, но и истории философии и отдельных философов, так же как мои семинарские занятия были связаны с объяснением философских работ. Прежде всего, я хотел ознакомиться со всеми уже существовавшими социологическими попытками, основанными на различных принципах, а также с односторонними взглядами философии истории. В результате появилась книга: Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1. Teil, Einleitung und kritische Übersicht. Она была переведена на русский язык в 1900 году и вышла во втором, значительно расширенном издании в 1915 году.
В этой книге, второе издание которой гораздо подробнее первого, я прежде всего попытался дать критическую историю социологии и определение ее задачи, которая – в силу сложности предмета, предлагающего столько направлений взглядов и атак – не менее противоречива, чем, например, задача философии. Более того, поскольку социология для меня – это еще и наука об истории, я должен был занять позицию по вопросу о природе исторической науки.
Очень долгое время, начиная с Тюрго, проводилось различие между предметом естественных наук и предметом истории. Виндельбанд считал, что естествознание занимается общими законами и понятиями, история – описанием отдельного человека, что естествознание «номотетично**, а история «идиографична». Однако очевидно, что детали бесчисленны, как отдельные объекты, так и характеристики каждого отдельного объекта, и поэтому любая наука становится невозможной без применения критерия отбора. Ученик Виндельбанда Г. Риккерт в качестве такого критерия хочет использовать «ценность», которую событие, личность, народ или духовное движение имеет для соответствующей культурной системы. Высшей ценностью, однако, является мораль, должное в понимании Канта, или, скорее, добрая воля, которая следует за должным. По мнению Виндельбанда и Риккерта, философия – это критическая наука об общезначимых ценностях. Риккерт считает невозможными социологию, стремящуюся установить исторические законы, и любую философию истории, которая делает то же самое. Для него «исторические законы» – это contradictio in adjecto. Вера в «единственную жертвенную научную процедуру» концептуализации и исследования законов абсурдна; в истории эта процедура бесполезна. Он вообще не должен «объяснять», а должен «судить». Поэтому Риккерт также отвергает психологию, ставшую объяснительной естественной наукой, как основу истории; он хочет, чтобы у историка была другая психология.
Дильтей хотел охарактеризовать такую психологию, подходящую для историка, противопоставив ее «описательной и препарирующей» современной психологии, которая является частично экспериментальной, но всегда «научной, объясняющей, конструктивной». Разумеется, Дильтей не может проводить свою психо-логию, не скатываясь к «научной и объяснительной», поскольку наука, которая не объясняет, никогда не может нас удовлетворить. Но и Дильтей, разработавший свои тезисы еще в 1883 году, почти за двадцать лет до Риккерта, и сам Риккерт согласны с тем, что история никогда не должна следовать научному способу познания; по мнению Дильтея, социология, которая это делает, до сих пор была лишь тем же, чем алхимия среди естественных наук.
Очевидно, что Дильтей и Риккерт правильно характеризуют процедуру работы историков. Тот, кто пишет историю, выбирает из обилия людей и событий то, что кажется ему ценным, то есть то, что он в целом рассматривает как добро или зло или как условие добра или зла. Отсюда различные направления, «тенденции» историографии. Есть католическая, протестантская, национальная (Трейчке), международная (Бакл), материалистическая (в марксизме), идеологическая (Ранке). Конечно, эта тенденция не мешает нам объяснять поступки появляющихся людей, часто делая определенные предположения об их характере, а в остальном применяя популярную психологию, не очень понимающую свои принципы.
Но такая историография – не наука, а искусство. Как художник изображает не все подряд, а только то, что кажется ему эстетически эффектным, так и историк рассказывает не все, что ему известно из источников, то есть из старых изображений, документов, надписей, монет и т. д., а только то, что кажется ему достаточно важным, при этом нельзя исключать чувство, то есть субъективное суждение. Такое событие, как, например, сожжение Сервета в Женеве, одному человеку может показаться важным для протестантизма, а другому – неважным, и поэтому один человек будет о нем широко рассказывать, а другой – упоминать вскользь. Но то, что изображает историк, он стремится воплотить в жизнь как нечто конкретное и индивидуальное, со всеми деталями, как это делает художник; он не будет довольствоваться бледной схемой. Например, в случае с Периклом он не преминет упомянуть, что у него была остроконечная голова и поэтому он никогда не появлялся на публике без шлема, даже если это не имеет никакого отношения к политической личности Перикла и к причинному контексту политических событий. Все античные историки считали себя художниками. Ведь все они, за исключением Полибия, вплетали в свои труды художественные речи, которые не были произнесены, но могли бы быть произнесены в том контексте, в котором они были написаны, и которые поэтому не научны, а эстетически ценны.
Но все это – история как искусство, а не как наука. Необходимо провести различие: историческое исследование, историография, историческая наука. Это три этапа, которые мы находим и в других отраслях знания. Зоология, например, должна сначала установить факты, что отнюдь не просто, а зачастую возможно только благодаря кропотливой микроскопической работе (например, чтобы обнаружить одноклеточных животных), затем описать и классифицировать факты, то есть формы животных, и, наконец, попытаться объяснить их, применяя идеи теории происхождения. Таким образом, и здесь есть три этапа: исследование природы, описание природы, наука о природе.
История оставалась на втором уровне до недавнего времени; только под влиянием «социологии» Конта Г. Тайне вышел из режима историографии. Он больше не дает картины частностей, а общих условий, личностей только в той мере, в какой они служат для иллюстрации и объяснения условий; он стремится доказать причинную связь между условиями, например, между условиями старого режима и вспышками народного гнева во время революции; он также прослеживает отдельных личностей, таких как Наполеон, до их корней, то есть до их прошлого и их предков, чтобы объяснить их характер.
То, что делает Тайне в ограниченном поле, является задачей истории как науки о судьбе всего человечества. Она совпадает с задачей философии истории в той мере, в какой последняя обобщает результаты отдельных областей, подобно тому как философия природы означает синтез общих истин отдельных областей. История как наука или философия истории может лишь следовать естествознанию как своему образцу; она стремится продемонстрировать определенные стадии развития отдельных народов и установить в них «эмпирический» закон. Таких «эмпирических» законов может быть много или мало, но в любом случае к ним нужно стремиться. Социология преследует ту же цель, за исключением того, что она не просто подчеркивает изменения, как философия истории, но также имеет «статический» раздел, который исследует причины продолжительности и стабильности определенных условий, например, определенных классовых отношений.
Возможность такой истории как науки и такой социологии отрицается Дильтеем и Риккертом. Я же, напротив, попытался утвердить ее и обосновать это утверждение. В частности, именно органический характер человеческого общества заставляет нас ожидать закономерности в его жизненных явлениях. Общество часто рассматривалось как организм, еще Томасом Гоббсом. С тех пор как Шванн открыл животную клетку, в этом есть нечто большее, чем просто внешнее сравнение, а именно реальный параллелизм. Ведь организм – это еще и общество, а именно общество клеток; и животное тело, и человеческое общество подпадают под термин «органическая система». Однако, чтобы не делать слишком больших выводов из равенства видов, необходимо помнить о специфическом неравенстве. Единицей, составляющей животное тело, является клетка; единицей, из которой строится общество, является или, по крайней мере, все больше становится человеческая воля, направляемая духом; общество, таким образом, в этом смысле является духовным организмом. Как таковой, он, однако, проявляет основные органические характеристики: 1. Единая связь всех его элементов, стремящаяся противостоять нарушениям; 2. Взаимодействие частей друг с другом; 3. Передача органической связи новым элементам, которая в животном организме называется размножением, а в социальном – воспитанием. Никто не сомневается, что жизнь животного организма подчиняется определенным законам развития и регресса, если не принимать во внимание насильственные возмущения, приходящие извне. Очень похожие законы действуют и в развитии всего животного мира, что очень убедительно показал Геккель в своей теории параллелизма филогенеза и онтогенеза. Поэтому мы вправе ожидать органического развития и духовного мира. Рост и упадок. Только такая закономерная последовательность явлений позволяет предсказывать будущее, что в конечном счете является целью любой науки и особенно важно и ценно для предмета истории – общественной жизни.
Однако, к сожалению, большинство немецких историков придерживаются позиции историографии, а не исторической науки. Поскольку, подобно Дильтею, они не хотят отказываться от предположения о свободной воле человека, они сторонятся законности. Эта робость почетна, но необоснованна. Ведь несмотря на всю законность, человек, и особенно коллективный человек, не игрушка каких-то внешних сил, не автомат, приводимый в движение средой, а собственная сила с собственными намерениями и способностью отстаивать их перед средой. Но страх перед автоматизмом приводит к тому, что историки предпочитают верить в беззаконие, а не в предопределенный порядок. Хотя они признают, что нельзя отрицать отдельные линии развития, история в целом остается хаосом, из которого вылавливаются «ценности». Таким образом, они никогда не приходят к общему взгляду на историю или, по крайней мере, не приходят к ясному, осознанному взгляду. Ведь у каждого историка есть некий неясный, более эмоциональный общий взгляд, поскольку без такого взгляда он был бы совершенно беспомощен перед массой деталей.
На мой взгляд, этот отказ от исторической науки пагубно сказался на интеллектуальной жизни Германии. Большинство историков не занимались исследованием «смысла» истории, который сам по себе является душой исторического преподавания, но в наших школах – несмотря на официальное поощрение – не был достаточно акцентирован ни как теоретическая проблема, ни как практическая цель. Только Карл Лампрехт попытался выделить в немецкой истории определенные «культурные эпохи», которые должны следовать друг за другом с психологической необходимостью, но которые характеризуются скорее способами воображения, чем ядром исторических событий – волей.
Практическая политика также пострадала от этого самоограничения историков. Те, кто верит в законность истории, найдут в ней нравственный прогресс, а именно: в каждой цивилизации или, по крайней мере, среди арийских народов, которые одни до сих пор переживали более длительное развитие, постоянный рост зрелого, ответственного человека в законных правах и постоянное распространение свободы на тех членов народа, которые раньше ее не имели. Внешние оковы, сковывающие человека, разрушаются, на смену им приходят внутренние, законы, которые человек сам себе устанавливает, чтобы укротить элементарную, животную грубость своих инстинктов и аффектов, чтобы дикость все больше и больше превращалась в цивилизацию. Исторически обоснованная вера в этот прогресс дает надежду на будущее, определенный ориентир для воли и действий, короче говоря, политический идеализм, который и сегодня недостаточно распространен в Германии. Ведь слишком многие историки и слишком многие преподаватели истории считают любой прогресс, если он появляется, эпизодом, который вскоре может смениться регрессом, так что возникает неровный зигзаг, но не постоянное восхождение, утверждающее себя вопреки всем препятствиям.
Однако часть немецкого народа верит в очень твердую теорию, которая выглядит как строгая наука, но которая является лишь очень односторонним тезисом, учитывающим только часть исторического развития, в так называемую «материалистическую» философию истории, которая была выдвинута Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом после различных предложений более ранних мыслителей, особенно Сен-Симона. Она утверждает, что действительными движущими мотивами истории являются экономические, а все остальные – лишь их последствия или маскировка. Согласно ей, первоосновой прогресса всегда является новая технология; из нее вытекает новая экономическая структура, то есть определенная форма предприятия, например фабрика, с определенным масштабом транспорта, который, однако, в эпоху фабрик простирается очень далеко и должен, по возможности, охватывать весь мир. Экономическая структура базируется на правовой надстройке, то есть на определенной системе собственности, а также на определенной форме правления и даже на определенной модификации религиозных, художественных и философских идей, господствующих в обществе, в соответствии с изменениями в экономике. История опровергает это заблуждение о всемогуществе экономики, что я и попытался продемонстрировать.
Технологии, конечно, обладают огромной силой. Каждое ее достижение создает новый способ работы и, следовательно, поскольку выгоды распределяются по-другому, новое распределение собственности. Но великие принципы собственности, «формы собственности», как можно было бы сказать, имеют не экономическое, а политическое происхождение. Феодальная собственность возникла в Западной Европе в результате необходимого господства над обширными земельными пространствами при франкских королях, для которых не было государственных служащих, так что крупные помещики должны были заменить их и для этого приобрели государственные суверенные права над своими крепостными, крестьянами, приобретя, таким образом, одновременно и высшую собственность на их имущество. И эта высшая собственность, из которой возникло «феодальное бремя» крестьян, была отменена не экономическим прогрессом, а идеями гражданского равенства и свободы, которые, возникнув из возрожденного естественного права XVI века, проникли в теории конституционного права и были реализованы на практике Французской революцией. Неправда и то, что в основе религиозных потрясений лежат только экономические причины, что, как утверждают Маркс, Энгельс, Каутский и другие, Реформация была церковным, необходимым сопутствующим элементом восстания буржуазии против феодализма. Тогда она должна была бы возникнуть сначала в Италии, где буржуазия была независимой с XIII века. Скорее, это дальнейшее развитие в истории религии от религии закона католического средневековья к религии убеждений, дальнейшее развитие, подобное тому, которое произошло в Китае от религии старых книг, собранных Конфуцием («Цари»), к даосизму Лао-цзы, в Индии от брахманизма к буддизму, в исламе от старой ортодоксии Корана к суфизму, В случае с евреями – от Моисеева закона к религии «апокрифов» и далее к религии Иисуса и Святого Павла – развитие, которое, по общему признанию, происходило только там, где были люди, заинтересованные в религии, но для них это была психологическая необходимость, совершенно независимая от экономических факторов.
Но, несмотря на научную неправоту, исторический «марксизм» был и остается сильным в социал-демократической партии, особенно в ее левом крыле. Желание было и остается отцом мысли. Если все обстоит так, как утверждали Маркс и Энгельс, если экономическое желание действительно всегда является решающим фактором, то ничто – так думали они – не будет препятствовать «накоплению» собственности, происходящему сейчас в промышленности и сельском хозяйстве; оно закончится тем, что небольшое число собственников окажется перед бесправной массой народа, поэтому обязательно произойдет «переворот», прежние «экспроприаторы» будут экспроприированы самой совокупностью, т. е. будет достигнут социализм – общая собственность на средства производства.
Развитие не пошло по пути, предсказанному «материалистическим взглядом на историю». Стабильное накопление действительно имело место в промышленности, но не в сельском хозяйстве, где, напротив, мелкий фермер без поденщиков значительно вырос в числе и значении и, вероятно, останется господствующим типом в ближайшем и отдаленном будущем. Не концентрация собственности, возросшая до предела, привела к перевороту в Германии, а политическое событие, проигранная мировая война, которая потрясла и взбудоражила армию так, что она свергла правящие силы. Старая социал-демократия, вероятно, также признала это; односторонний марксизм, со всей его механизацией исторической борьбы, исключающей идеи, перешел в «независимую» социал-демократию, где он объединился с требованием «диктатуры пролетариата», которая, по Марксу, необходима как переходная конституция к социализму, чтобы подавить здравое мышление. Те, кто не доверяет идеям и власти, в конечном итоге придут к чисто физическому насилию, они должны ожидать всего от классовой борьбы, и в конечном итоге от ее элементарной, насильственной формы, как это делает крайне левая часть рабочих. Мы не знаем, почему эти политики являются пацифистами, почему они ненавидят и отвергают борьбу между народами, но считают борьбу между классами народа, которые по природе своей ближе друг к другу, чем разные народы, священным долгом.
Материалистическая, или, вернее, экономическая, концепция истории не получила бы такого широкого распространения, если бы наши историки не воздерживались от борьбы с ней путем противопоставления фактов. Это поразительно, но вполне объяснимо их интеллектуальной позицией. Марксизм верит в закономерность истории, хочет создать науку о ней, какими бы неадекватными ни были ее средства. Наши историки, однако, с самого начала не готовы к этому, а готовы лишь к историографии, которая делает акцент на ценностях, то есть, как было показано выше, не на науке, а на искусстве. Но с теорией, которая хочет быть научной, можно бороться только с помощью науки, а не искусства. Журнал «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie», который я редактировал с 1902 по 1916 год, как новое издание «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie», который я основал в 1876 году и редактировал с 1899 по 1901 год, был расширенным журналом с намерением ввести «социологию» в Германии. Он был международным, имел много иностранных подписчиков, в том числе и иностранных авторов, и поэтому стал жертвой мировой войны. Исход войны, возможно, приведет к тому, чего еще не достигла теория. Он заставит нас задаться вопросом о причинах нашего поражения и, более того, о причинах мирового пожара, а значит, научит историков мыслить каузально.
Стою, систему и историческое влияние которой я попытался описать, очень убедительно показала мне, насколько сильны философские идеи в формировании мира. 4Простые, логичные линии ее системы и глубокая серьезность взглядов на жизнь сделали ее мировоззрением простых людей, огромных масс в Римской империи, а также мыслителей среди рабов, в то время как эпикурейство было распространено среди богатых и знатных. Очень привлекательно представить себе, как развивалась бы мировая история, если бы Стоа не уступила христианству, если бы она завоевала духовное лидерство у всех народов Средиземноморья и если бы она пришла к германским народам в качестве римского мировоззрения вместо христианства. Тогда они пережили бы не свое «средневековье», а культурную эпоху, в которой античная наука и искусство получили бы новую жизнь и новый импульс благодаря юношеской энергии нового народа.
Однако стоицизм был вытеснен христианской религией, которая в еще большей степени, чем стоицизм, обращалась к эмоциям и таким образом одержала победу, как бы мало она ни привнесла в мышление. Однако, когда стоицизм был заново открыт и воскрешен в эпоху Возрождения, он дал мощный толчок западноевропейской цивилизации. Из своей системы он вынес идею естественного права, которое отнюдь не является законом сильнейшего, но идеальным законом всеобщего равенства и вытекающей из него всеобщей свободы. Стоики обосновывали это тем, что каждая человеческая душа – это частица всепроникающей божественной мировой души, из которой она приходит в тело при зачатии и в которую возвращается после смерти, и что все люди, таким образом, имеют одинаковое происхождение, то есть братья и сестры, и что никто не имеет никакого преимущества перед другими. За два столетия до прихода христианства стоицизм римских юристов императорской эпохи стремился сделать равенство и свободу, насколько это было возможно, действенными в праве, и поэтому действительно улучшил правовое положение угнетенных, особенно рабов, женщин и детей, и постепенно ввел в действие «права человека» этих классов. В XVII в. В XVII веке естественное право стало почвой, на которой выросли великие практические идеи: новое конституционное право, которое предоставляло каждому гражданину долю в управлении государством путем избрания народного представителя; новое уголовное право, которое рассматривало преступника как человека, наказание не как вспышку гнева, а как разумную меру для предотвращения новых преступлений, и таким образом гуманизировало весь судебный процесс; наконец, новое международное право, которое стало необходимым, поскольку европейские народы больше не признавали общего авторитета в лице папы, и которое теперь нашло новую почву в равенстве народов по аналогии с равенством граждан. Таким образом, мы видим, как идеи античности приносят плоды в современности.
Через несколько лет после получения хабилитации обстоятельства в Лейпциге побудили меня расширить свою преподавательскую деятельность до практической науки, а именно педагогики. Ведь она основана на этике, которая является ее целью, и на психологии, которая указывает ей путь. Кроме того, образование тесно связано с социологией. Ведь образование – это воспроизводство общества. Нет необходимости говорить, что это духовное воспроизводство. Ведь, как уже говорилось выше, общество – это духовный организм, а значит, и размножаться оно может только духовно. Физическое воспроизводство лишь создает материал для нового общества, которое может сформироваться только в том случае, если от старого поколения к новому передается общий взгляд на мир и жизнь. Таким образом, я надеялся найти в педагогике новые социологические факты и сделать социологические истины плодотворными.
В последние десятилетия XIX века психология достигла больших успехов, в частности, стала на путь эксперимента и тем самым получила достоверные результаты по некоторым вопросам. Я попытался построить педагогическую систему на основе этого и наиболее жизнеспособных элементов современной философии. Она должна была стать определенной заменой системе Гербарта, которая, также основанная на психологии и философии, все еще оставалась доминирующей благодаря своему прочному единству, хотя ее психология односторонняя, устаревшая в результате новых исследований, а ее философия не имеет отношения к современной науке. Таким образом, мой «Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre» 5стал одним из первых учебников, поставивших новые приобретения науки на службу педагогике. Он был опубликован до работы Э. Меймана «Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik». Основные положения «Элементов»: факты психологии и наследственности означают, что после долгого периода пессимизма мы снова можем верить в силу воспитания; что прежде всего необходимо укреплять волю; что современная переоценка и почитание спонтанной воли детей может быть опасной и привести к недостатку энергии; что эмоциональную жизнь необходимо культивировать больше, чем раньше, а также больше использовать внимание; что некоторые отрасли, такие как религиозное воспитание и уроки истории, а также уроки немецкого языка, нуждаются в тщательной реорганизации.
Если образование означает воспроизводство общества, то очевидно, что его история следует за историей общества, которое, конечно, еще не написано как единое целое, но должно быть создано заново. Исходя из этого, я попытался в своей «Истории образования в социологической и интеллектуально-исторической перспективе» 6показать происхождение образования в естественных формах общества и его трансформацию параллельно с социальными изменениями. В учебниках, например, известно только одно греческое образование, тогда как их было три: гомеровское, республиканское в эпоху расцвета эллинов и, наконец, эллинистическое классовое в так называемый период упадка, в котором возник идеал образования для человечества. Однако влияние интеллектуальных движений в обществе на образование проявляется в эпоху Возрождения, Реформации и Просвещения. Последнее, в частности, еще не получило достаточного признания в этом отношении. Поэтому я постарался подробно показать, как Просвещение выдвинуло не только негативную программу – «выход человека из его самозрелости» (Кант), но и позитивную – систему естественных наук, а именно: естественную религию, естественное право, естественную этику (Камберленд, Спиноза, Шафтсбери) и «естественную свободу» в экономике (Адам Смит). Этот позитивный дух породил и «естественную» педагогику, которая осознанно зародилась в Германии под девизом Ратке: Omnia juxta methodum naturae! Природа и разум – синонимы для эпохи Просвещения. Требование Ратке постоянно расширяется и получает более глубокое обоснование у Коменского, Локка, Руссо, Базедова и его круга, Песталоцци. За исключением Песталоцци, эта педагогика, как и все Просвещение, по сути своей индивидуалистична, включая естественное право и вытекающую из него «естественную свободу» в экономике, экономический либерализм. В экономике индивидуализм оказался несостоятельным, и в последние десятилетия XIX века возникло противодействие, сосредоточившееся на социализме или, по крайней мере, на социальном ограничении эгоизма. В то же время возникла новая теория образования – социальная педагогика. Таким образом, общественное движение и образовательные тенденции тесно переплетаются повсюду.
Особенно важным сейчас является вопрос о нравственном воспитании молодежи. Ни одна эпоха не находилась в более трудном положении в этом отношении, чем наша. Нравственное воспитание легко в обществе, где все его члены единодушны в своем взгляде на мир и жизнь. Тогда молодые люди принимают нравственные заповеди с обоснованием, которое дается этим взглядом и которое не поколебать в дальнейшей жизни противоречиями со стороны окружения. В нашем обществе все иначе. Оно очень дисгармонично с точки зрения мировоззрения. Старые конфессии, отголоски «естественной религии» (вера в Бога, бессмертие и воздаяние в загробном мире), научный материализм, так называемый «исторический» материализм, о котором говорилось выше, теория развития, вытекающая из биологии, – все эти взгляды поднимают свой голос, увлекая молодежь то туда, то сюда. Официальная школа, однако, по-прежнему, как и в XVI веке, основывает правила жизни на догматах своей конфессии. Они имеют жизнь и действуют только в тех частях Германии, где сохранилось сельскохозяйственное производство, а значит, и старый порядок жизни, религиозность и обычаи. В промышленных же регионах, где вместе с новыми методами труда и новым образом жизни возникли новые идеи, догматизм, принесенный из школы, вскоре выкорчевывается критическими голосами окружающей среды, и насаждается новая, часто очень неясная вера в земные цели, а то и вовсе отсутствует, так что молодые люди лишены яркого и руководящего нравственного идеала, особенно в опасное время юношеской самонадеянности.
Вот почему я считаю необходимым, чтобы нравственное воспитание было поставлено на иной фундамент. Как бы ни расходились теоретические взгляды, ни одна партия не смеет отвергать определенные человеческие добродетели. Если одна партия не может этого сделать, она обвиняет других, которые вынудили ее это сделать, но не смеет кичиться своей виной. Таким образом, можно создать этическую систему, в которой не нужно бояться, что философия в самопрезентации. 1. 2 в будущем будет вырвана из души ребенка. Но любая этика должна опираться на мировоззрение, которое оправдывает ее предписания. Религиозное не может сделать этого сейчас, поскольку оно не имеет власти над всеми; остается научное, философское.
Кто-то сразу же возразит: Не существует универсально обязательной этической системы, их столько же, сколько философских систем. У каждого философа своя этика. Кому же должен следовать учитель нравственности? Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что разнообразие не так велико и даже есть определенное согласие. Прежде всего, это касается целей морали. Классическими системами этики являются Стоа, Спиноза и Кант. Все три имеют одну и ту же высшую цель: сильная воля и социальная воля. Поэтому учитель этики сможет преподавать эти две цели без противоречий. Оправдания, ответы на вопрос: почему я должен стремиться к этическим целям, следовать этическим заповедям? Но разнообразие ответов на этот вопрос – не недостаток для педагогики, а скорее преимущество. Философу для единства его системы необходимо единство этического мотива, а педагог может утверждать разные мотивы в надежде, что если не один, то другой сработает. Он может со всей строгостью повторить кантовскую доктрину о том, что добро следует делать только ради закона, но не должен, подобно Канту, исключать стремление к счастью. Ведь вполне возможно, что исполнение долга – это одновременно и наше счастье, которое Шиллер представляет как идеал. Кроме того, педагог может указать на то, что нравственность соответствует закону развития, то есть подчиняется воле природы или – как еще можно сказать – воле Бога, но что безнравственность противоречит и тому, и другому и поэтому обязательно должна вести к наказанию, к несчастью. Педагог должен избегать только одного – объединять противоречащие друг другу причины. Если он считает нравственной сильную волю к жизни (animo-eitas), которую требует Спиноза, то он не должен в то же время проповедовать шопенгауэровское отрицание воли, которое едва ли какой педагог принесет в школу. И если религиозное воспитание учит вместе с Павлом неизлечимой слабости человеческой воли, следствию первородного греха, а учитель нравственности требует сильной воли, это было бы противоречием, которого руководство школы должно по возможности избегать. Если догмат о первородном грехе необходим, то религиозный учитель должен по крайней мере указывать на сильную веру, которой должен обладать христианин, что в конечном итоге также является характеристикой воли.
Все эти вопросы я рассмотрел в двух книгах: Die Notwendigkeit eines systematischen Moralunterrichts7 и Ethische Jugendführung (Grundzüge zu einem systematischen Moralunterricht),8 а также составил руководство по преподаванию морали для старших классов начальных школ и для школ дополнительного образования. 9Разумеется, я не считаю, что религиозное обучение должно быть исключено из государственных школ. Религия в ее высших проявлениях – это ощущение вечных ценностей, которые научная, философская этика стремится достичь путем размышлений и исследований. Поэтому настоящие религиозные герои – это возвышенные фигуры, образцы жизни, которую нужно вести в более высоком стиле, постоянно помня о вечном. И сама полноценная моральная система никогда не обойдется без религии. Конечно, она будет не основой, а ее венцом. Сами нравственные заповеди вытекают из реалий жизни. Тот, кто хочет жизни, должен хотеть и нравственности как высшей жизненной силы. Но если мир в целом основан на морали, то и причина его должна быть моральной, то есть божественной. Так Платон, Шафтсбери, Кант, Гете, даже Спиноза пришли к религии. Таким образом, высшее чувство в конце концов объединяется с высшим познанием.
В настоящее время, однако, на первый план выходит познание. Мы переживаем переломный момент в мире, который, вероятно, никогда в прошлом не переживался так резко. Мировая война не только разрушила европейскую экономику, но и пошатнула старые авторитеты, частично уничтожив их. Непоколебимой осталась только одна – наука. Поэтому она является самым мощным рычагом для восстановления. Отдельные науки должны войти в более тесный контакт друг с другом; их синтез и кульминация, философия, должны определить смысл и направление жизни.
Философ должен стоять рядом со священником религии. Как тот через откровение, так и философ через свет мысли должен внести в разум ясность, успокоение и доверие; он должен, как в свое время Фихте, учить, что природа человека – это деятельность. Это важное условие социальной гармонии. Ведь деятельность – это радость творца, а его труд приносит пользу другим и тем самым преодолевает дихотомию между собственными и чужими интересами. Таким образом, наука и труд избавят нас от многообразных бед, которые нас угнетают. Эта надежда не даст нам пропасть.
4
Die Stoa (Frommanns Klassiker der Philosophie, XVI), второе переработанное и значительно дополненное издание, Штутгарт 1908 (первое издание 1903).
5
1-е изд. 7-е и 8-е издания должны появиться в сентябре этого года. Они переведены на итальянский (2-е изд. 1917 г.), русский, испанский и шведский языки.
6
1-е изд. 1911 г., Лейпциг. 3-е и 4-е издания будут опубликованы в сентябре этого года.
7
2-е изд. Лейпциг 1920 г. Дюрр.
8
Лейпциг 1919, также издано Дюрром.
9
Руководство к жизни. 2-е изд. Лейпциг 1920 г. Дюрр. Этическая юность» – это комментарий для родителей и учителей.