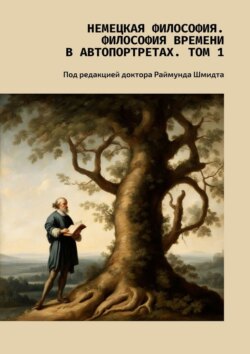Читать книгу Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта - Валерий Алексеевич Карданов, Дарья Андреевна Самсонова, Наталья Сергеевна Кузьмина - Страница 6
Ганс Дрлезох (Кёльн)
I. Развитие моей системы
ОглавлениеВ основе моей философии лежит стремление интеллектуально овладеть биологическими проблемами, поскольку я двадцать лет был зоологом.
Как и многие мои сверстники, я начал с дарвинизма и учения Геккеля, не имея глубоких знаний о реальных биологических фактах, поскольку учился (с 1877 по 1886 год) в гуманистической гимназии, школе ученых Йоханнеум в Гамбурге. То, чего мне не хватало, я быстро восполнил в университете; я изучал зоологию и, конечно, другие естественные науки во Фрайбурге, Мюнхене и, прежде всего, в Йене, а затем (1889) получил докторскую степень под руководством Хеккеля с диссертацией «Тектонические исследования гидроидных полипов», в которой ставил перед собой задачу исследовать регулярность строения стеблей полипов из отдельных особей. Тенденция этой работы была точной, и в этом отношении она уже была несколько гетеродоксальной в джененсианском смысле; конечно, ни мой учитель, ни я не осознавали этого в полной мере. Но вскоре все сложилось иначе: сразу после защиты докторской диссертации я ясно осознал, насколько шаткой была надежность «филогенетических деревьев», да и вообще биологической методологии; длительная поездка в тропики дала мне возможность собраться с мыслями, а затем (в 1890 году) последовал решающий шаг. Еще будучи студентом, я мечтал о «динамической биологии» – побочной ветви геологии, названной так, – как о непременном условии филогенетических исследований; кроме того, после работы с полипами у меня появились несколько фантастические идеи о возможности геометрической маркировки органических типов на основе изучения способов их формирования. Теперь я занялся поиском абсолютно необходимого нового: Я прочитал всех тех биологических авторов, к которым Геккель и его школа относились враждебно, т.е. основные работы Виганда, Гетте, Бера, Хиса, Бертольда и т.д., а также наткнулся на речь В. Рюкса в Инсбруке, которая побудила меня прочитать все публикации этого мыслителя. Я начал с систематического изложения того, что я узнал в маленькой книжке: Die mathematisch-mechanische Betrachtung morphologischer Probleme der Biologie (1891); к сожалению, публикация этой работы также привела к внешнему разрыву с Геккелем. Затем я продолжил свою собственную работу, сначала экспериментально, следуя некоторым работам Рюкса.
Это была экспериментальная проверка известной эмбриогенетической теории Хиса и Вейсмана. Хисс выдвинул «принцип органообразующих зародышевых округов», Вейсман предположил, что в основе развития личности лежит разложение материальной тектоники – зародышевой плазмы, находящейся в ядре яйца, и экспериментальный результат Ру*, казалось, доказывал правоту обоих: Ру выводил половину эмбриона, правую или левую, из первой правой или левой линяющей клетки яйца лягушки, которая выживала одна. Тут-то я и подхватил идею; я повторил эксперимент Ру в несколько измененной форме на зародыше морского ежа, который, как я знал, был очень благоприятным объектом.
Даже первая короткая серия экспериментов, проведенная в Триесте в 1891 году, дала результат, который был столь же определенным, сколь и удивительным: из изолированных спаривающихся клеток двухлинейной стадии был выращен не «половинный», а целый эмбрион вдвое меньшего размера. Это было противоположно результату Roux и представляло большую трудность для его и Вайсманна теорий. С осени 1891 года я продолжал работать в Неаполе (с небольшими перерывами до 1900 года), и здесь мне особенно повезло: мне удалось вырастить целые уменьшенные личинки из зародышей 1/4 и 3/4, а также из зародышей, ядерный или клеточный материал которых был помещен в относительно ненормальные положения, и т. д. Все это привело меня к отказу от теории His-Roux-Weismann и к разработке собственной эмбриогенетической теории.
Но теперь мы должны поговорить о философии. Будучи студентом, я однажды посетил часовую философскую лекцию о свободе воли во Фрайбурге вместе с Рилем. Однако в Йене «хорошие манеры» запрещали молодым ученым-естествоиспытателям посещать философские лекции, и поэтому фрайбургский курс остался единственным. Но потом, когда я только-только защитил докторскую диссертацию, мне попалась работа Либмана «Анализ реальности». Эта работа оказала на меня очень сильное влияние и привела меня, прежде всего, к изучению оригинальных работ Канта и Шопенгауэра, а затем Декарта, Локка и Юма. Таким образом, у меня вскоре появился определенный философский фундамент, усовершенствованный «Критикой» Риля, на котором основывались мои последующие биотеоретические труды, написанные под влиянием экспериментов. В книге: Die Biologie als selbständige Grundwissenschaft» (1893, 2-е изд. 1911) я сознательно ввел понятие телеологического как незаменимого инструмента для работы с органическим; в «Analytische Theorie der organischen Entwicklung» (1894) я дал свою экспериментально подкрепленную эмбриологическую теорию, которая также была телеологически ориентирована.
Моя концепция телеологии была, однако, бессознательно для меня самого, неопределенной в очень существенном пункте, том самом, в котором, по моему мнению, находится кантовская концепция. Я всегда говорил о «целевом», о «телеологическом». Однако я имел в виду отнюдь не «витализм», а то, что я сам позже назвал «статической телеологией» или также «заранее сформированной целесообразностью»; ибо тогда я имел в виду, что констелляция материи, как нечто раз и навсегда данное, является заданной основой целесообразных и «гармоничных» органических процессов, а сами эти процессы относятся к физико-химическому типу.
Только позже, сначала в 1895 году, я понял, что я на самом деле «имел в виду», и понял это только тогда, когда я имел в виду нечто другое, нечто совершенно новое. Внезапно и одним махом я понял, что для некоторых моих экспериментальных результатов на механической основе, в отношении локализации происходящего, не было достаточных оснований. Чему же я на самом деле учил? Машинной теории органики. Внезапно я понял: это работает не так, то есть с помощью машинной теории. Это была первая концепция моего последующего витализма. Я держал свои крайне еретические мысли при себе до 1899 года и записал их в маленькой книжке: Die Maschinentheorie des Lebens (Biolog. Zentralblatt Bd. 16, 1896) в резком фокусе то, что я на самом деле преподавал ранее; это считалось витализмом Э. де Буа-Реймонда. Только теперь я понял, что это был не настоящий витализм, и я должен был сказать об этом, чтобы проложить себе путь в дальнейшем.
В 1899 году появилась первая подлинно виталистическая или динамико-телеологическая работа: Die Lokalisation morphogene-tischer Vorgänge, доказательство виталистических событий. Концепция «гармонически-эквипотенциальной системы» и доказательство ее механической неразрывности занимают центральное место. Я сам собрал богатый новый экспериментальный материал с 1895 года, когда я впервые, как молния, убедился в необходимости витализма; я получил дополнительный материал зимой I901/2 года и время от времени позже. Гармонически-эквипотенциальными системами я называю те совокупности клеток, которые возникают в эмбриологии или при восстановлении нарушенной организации (реституции), для организационной работы которых нет разницы, брать ли из них части или перемещать их по своему усмотрению. Именно здесь концепция «машины» оказывается несостоятельной. Кстати, все это изложено в очень тщательном концептуальном анализе и с использованием ряда терминов, которые впоследствии были натурализованы, таких как «проспективная потенция», «проспективный смысл» и др. значение» и т. д. До сих пор я не нашел причин отказываться от чего-либо существенного в своих объяснениях; совсем недавно (1918—19) я, как мне кажется, существенно углубил их в своих «Логических исследованиях развития I и II».
Статья о локализации была заключением и новым началом. Завершением в той мере, в какой, хотя и не совсем с 1899 года, но с 1902 года и далее биологическая экспериментальная работа перестала быть центром моей деятельности (последний эксперимент я провел в 1909 году: крупные единичные образования из двух яиц), началом в той мере, в какой передо мной внезапно встало почти пугающее количество новых проблем, сначала как в тумане. Это постепенно привело меня к чистой философии.
Первой задачей было перенести учение об «автономии жизненных процессов» из ограниченного морфогенетического поля на всю область биологии, то есть, строго говоря, рассмотреть, где можно найти (косвенные) «доказательства» механической неразрывности органической группы процессов, или, другими словами, где предположение о лежащей в основе «машине» может быть фундаментально наполнено. В этом смысле я прошел через всю физиологию; две работы: Die organischen Regulationen (1901) и Die «Seele» als elementarer Naturfaktor (1903), были плодом этих исследований. Во второй работе центральное место занимает анализ человеческого действия, рассматриваемого исключительно как природный феномен; здесь же я впервые выступаю против так называемого психофизического, в действительности всегда психомеханического параллелизма.
Но требовалось нечто большее, чем просто расширение основ теории автономии: необходимо было доказать, что эта теория возможна в рамках естественных наук. Поэтому необходимо было связать с ней наиболее фундаментальные аспекты всего естествознания, энергетику и механику; необходимо было рассмотреть старую декартовскую проблему тела-души в новой форме. Я уже изучал высшую математику и теоретическую физику в старших классах гимназии, а затем, после защиты докторской диссертации, в Цюрихе и поэтому был в состоянии понять хотя бы основы оригинальных работ по физике и химии, о которых идет речь. В книге «Naturbegriffe und Natururteile» (1904) я суммировал то, что имел сказать о взаимоотношениях между органической и неорганической материей. Эта книга содержит, в качестве основного пункта, подробную критику энергетики и, как наиболее существенный пункт, доказательство того, что так называемый «второй закон» состоит из двух логически совершенно разнородных частей; с другой стороны, она впервые содержит философские объяснения в более узком смысле, а именно некоторые эпистемологические основания и критические замечания о понятии причинности; наконец, конечно, в ней делается попытка решить основной вопрос о том, как энтелехия относится к материи и энергии. Но именно здесь все застряло на полпути; то, что предлагается, не ошибочно, но совершенно неполно; я продвинулся здесь только в 1908 году.
В 1905 году по просьбе одного издателя я написал краткую историю витализма и в то же время представил в краткой и полной форме свою собственную биотеоретическую систему. Для меня было полезно ознакомиться со старой литературой. Работа, озаглавленная «Витализм как история и как доктрина», стала довольно известной и была переведена на 4 иностранных языка (польский, итальянский, русский, английский).
В 1905 году я «решил стать философом», если можно несколько иначе применить к себе слова Р. Вагнера. Это «решение», конечно, не следует понимать как так называемую смену направления, оно могло означать лишь то, что я осознал существование еще одной стороны моей натуры, помимо естественнонаучной, которая до сих пор развивалась лишь фрагментарно и в угоду первой. Но если я хотел «стать философом», то я хотел сделать это полностью, а не дилетантски, и поэтому сначала я вознамерился создать большие, похожие на учебники, представления о естественных науках. Я начал с тщательного и систематического изучения основных учебников, таких как «Логика» Зигварта и Лотце, «Психология» Хёфлера и Вундта, «История философии» Виндельбанда и Убервега-Хайнце. Разумеется, это сопровождалось расширением моих знаний об оригинальных классических работах.
В г. В 1905 году также появились первые заметки по чистой логике и теории категорий, которая позже стала теорией порядка.
Чего я, собственно, хотел, иными словами: почему я должен был «стать философом», читателю, вероятно, уже стало ясно. Была ли вообще логически допустима моя теория автономии жизни? Ведь она противоречила обычным теориям причинности и категорий, особенно неокантианским.
Поэтому витализм нужно было обосновать логически, а это можно было сделать только на основе самой логики.
Если бы не внешние обстоятельства, я бы, наверное, сразу после завершения собственно философских занятий перешел к логическому изданию в более узком смысле. Но я думаю, что это событие, которое само по себе было очень приятным, было благом, потому что оно привело к временной отсрочке и, таким образом, к созреванию моих логических планов. Шотландский университет Абердина избрал меня лектором Гиффорда на 1907—1908 годы. В течение двух лет я должен был прочесть десять основных лекций; они должны были выйти в виде книги; я выбрал своей темой «Науку и философию организма» и потратил 1906—1908 годы на всестороннее изложение всей моей биотеоретической системы. Лишь теперь я подошел к проблеме «Энтелехия и материя» – (насколько вообще можно подойти к ней); теперь, к концу второго тома работы, я также сделал первую, пока еще фрагментарную попытку логического обоснования моего учения, которое я признавал необходимым. В «Гиффордских лекциях» я также впервые увидел и рассмотрел проблемы супраперсонального, возникшие на основе личного витализма, особенно так называемой философии истории. Гиффордские лекции появились в печати в 1908 году; в 1909 году я сам свободно «перевел» их на немецкий язык под названием «Философия органического» (Philosophie des Organischen). Если говорят, что эта работа написана мною наиболее легко и свободно, то это, вероятно, объясняется тем, что сначала я писал ее по-английски и, несмотря на плохое владение английским языком, естественно зависел от максимально возможной простоты выражения; таким образом, недостаток превратился в достоинство.
В 1907/08 годах я впервые стал университетским преподавателем, хотя и за границей и лишь на короткое время. Мне это понравилось, и поэтому некоторые коллеги в Гейдельберге без труда уговорили меня пройти хабилитацию по «Натурфилософии». Все обычные формальности были улажены, и вот (1909) я стал приват-доцентом, сначала на факультете естественных наук и математики, в 1911 году стал доцентом, а в начале 1912 года перешел на философский факультет.
Летом 1909 года я написал рукопись своей «Системы логики»; затем я много читал об этом предмете, улучшил рукопись, наконец, выбросил ее, чтобы написать заново с нуля, и опубликовал работу под названием «Ordnungslehre I912».
Какова цель и чего хочет «Теория порядка», которая в своем подзаголовке называет себя «системой неметафизической части философии»?
Намерением, которое первоначально привело к ее созданию, было логическое обоснование витализма.
Это вполне можно было сделать в русле мысли Канта, и в 1911 году я действительно провел исследование такого рода (уже кратко упоминавшееся во втором томе «Философии органического») и опубликовал его в 16-м томе «Kantstudien» под названием: Die Kategorie «Individualität» im Rahmen der Kategorienlehre Kants. Пересмотрев «Таблицу частей», на которой основана «Таблица категорий» Канта, можно было «вывести» «категорию», которую требует витализм. Но эта дедукция меня не удовлетворяла, потому что кантовское учение о категориях, да и вся методология кантовского философствования не удовлетворяла меня в существенных моментах.
Отсюда вытекала вторая, главная задача моей теории порядка; она больше не должна была служить только витализму. Поэтому она стала самостоятельной. Она рассматривает вопросы: что такое категория вообще? Как я прихожу к категориям?
Да, что на самом деле означает мышление и с чего должно начинаться всякое мышление? Таким образом, я постепенно продвигался к первому (или последнему, как хотите, так и называйте).
О том, как все это было концептуализировано, будет кратко рассказано в систематической части данного исследования. Здесь же необходимо лишь сказать, что в учении о становлении, и особенно в учении о четырех априорно возможных основных формах становления, обоснование витализма также вступило в свои права, но на этот раз по новым собственным путям.
В коротком эссе: Die Logik als Aufgabe» (1913) я еще раз кратко обрисовал то, к чему, собственно, стремилась теория порядка, и при этом разобрался с современной психологией мышления, в основном в ее пользу.
И вот последний на данный момент шаг: теория порядка была сознательно ориентирована на «методологический солипсизм». О том, что это не последнее слово философии, я, однако, уже говорил в ее введении, а также в конце второго тома Гиффордских лекций. Метафизика как учение о «реальном», о «самом по себе», гипотетически и индуктивно возможна как наука. В 1913 году я впервые набросал общие контуры работы, позже опубликованной как «Теория реальности» (1917), которая развивает эту идею. Эта книга содержит множество
В этой книге содержится множество мыслей о телеологии и механизме, этике, проблеме свободы и т. д., часть из которых была опубликована ранее, а часть – впоследствии отдельно в «Логосе», в трудах Гейдельбергской академии и в антологии «Weltanschauung». Учение о порядке и учение о реальности вместе образуют целостную систему философии.
В исследовании «Тело и душа» («Leib und Seele», 2-е изд. 1920), написанном в 1916 году, я считаю, что окончательно опроверг психомеханический параллелизм с помощью новой идеи, а именно путем сравнения «степеней множественности» физического и психического. Статья: Wissen und Denken» (1919) извлекает все так называемое «эпистемологическое» из двух основных работ и обрабатывает его в расширенном виде. Логические исследования развития (1918 и 1919), опубликованные в трудах Гейдельбергской академии, могут показать читателю, что виталистическая проблема для меня также еще не решена; то же самое относится и к эссе: Der Begriff der organischen Form (1919), в «Abhandlungen zur theoretischen Biologie» Шакселя.
Свою следующую задачу я вижу в логическом развитии психологии на основе того, что дано в основных работах, с особым вниманием к понятию «подсознание». Начало работы над этой новой проблемой совпадает с моим назначением на должность полного профессора философии в Кельне.