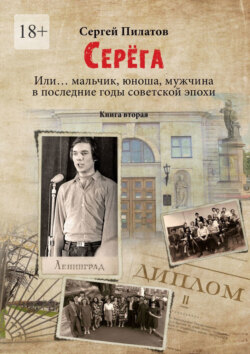Читать книгу Серёга. Или… мальчик, юноша, мужчина в последние годы советской эпохи. Книга вторая - - Страница 5
Часть первая.
В поисках друзей, подруг и авторитетов
Однокурсники и друзья
ОглавлениеБольше всего Серёгу беспокоило знакомство с будущими однокурсниками, то есть с теми, с кем предстояло по несколько часов в день общаться глаза в глаза.
Перед Серёгой стояла сложная и почти невыполнимая задача – всем понравиться. Но печальный опыт взаимодействия с одноклассниками, который подразумевал полное отсутствие взаимопонимания, как и в детской творческой студии при телевидении, не давал Серёге никаких шансов. Он же не вырос ни на один сантиметр и не поправился ни на один килограмм, и усы у него не появились.
Первое собрание группы Серёга помнит только потому, что пытался всех посчитать и поделить. Он обнаружил двадцать девять человек, из которых всего девять девушек, а правильнее сказать – женщин. Это был единственный курс во всём институте, где их было так мало. Почему-то Серёга приуныл. Вспомним, что в институте был библиотечный факультет, где встретить юношу считалось большим событием. Далее юный студент внимательно, но с необходимой степенью осторожности вглядывался в лица тех однокурсников и однокурсниц, с которыми ему предстояло учиться целых четыре года. Чувствовалось, что большая часть из них хотели быть артистами, просто не поступили в театральный институт и пришли в это здание переждать год и поднакопить творческого опыта, благо преподаватели по творческим дисциплинам здесь были высококлассными.
На этом первом собрании была и возможность поближе познакомиться с первыми в жизни Серёги театральными педагогами. Это были те же люди, что принимали вступительный экзамен по творческой специальности. Сейчас они были более расслаблены, чем на экзамене, так как от них уже не требовалось делать выбор, и студенты могли их рассматривать без опаски. Единственную женщину, которая прогоняла Серёгу с каждой консультации, куда он ходил из подросткового любопытства, при этом уже сдав экзамен, знали все в институте, и не только на кафедре режиссуры. Все гордились тем, что Роза Абрамовна Сирота – величайший режиссёр-педагог, в очередной раз поссорившись с Георгием Александровичем Товстоноговым, режиссёром Большого драматического театра, пришла преподавать именно в Институт культуры. Она сидела с очень серьёзным видом, всматриваясь в каждого студента и внимательно вслушиваясь в их рассказы. При этом комментировала выступление каждого студента при поступлении, задавала очень короткие вопросы. Казалось, что она никогда не улыбается.
Улыбался Борис Васильевич Сапегин, который был главным начальником, так как являлся заведующим кафедрой режиссуры. Борис Васильевич был ветераном Великой Отечественной войны и слегка прихрамывал, как поговаривали, из-за ранения. Он был учеником Николая Акимова и Георгия Товстоногова, работал режиссёром в Магнитогорском театре драмы, Костромском драмтеатре, Вологодском драмтеатре, Брянском театре драмы, Челябинском театре драмы. Улыбаясь, Борис Васильевич осторожно посматривал на Розу Абрамовну и излучал огромное счастье оттого, что ему удалось убедить великого педагога сесть рядом с ним, где он мог даже почувствовать себя её начальником. Борис Васильевич много шутил, глядя почти каждому в глаза, по очереди приговаривал:
– Вот уж кого не ожидал здесь увидеть!
– И вас тоже…
– И вас…
Все были в лёгком шоке и только потом поняли, что это была такая шутка.
Также улыбка не сходила с лица подтянутого пятидесятилетнего мужчины, вид которого доказывал, что в СССР ещё сохранилась настоящая русская интеллигенция, хотя внешне он был больше похож на француза. Он всегда спрашивал разрешения, чтобы задать вопрос или что-то прокомментировать, речь его была изысканной, очень правильной, без слов-паразитов и тем более без грубых или ненормативных выражений. Валентин Михайлович Мультатули был ходячей энциклопедией, полиглотом, имел два высших образования – филологическое и режиссёрское, являлся лучшим переводчиком Мольера. Также в институте был известен факт, что он являлся внуком (по материнской линии) Ивана Харитонова – последнего повара императора Николая II, расстрелянного вместе с ним в 1918 году, о чём в советское время говорить было не принято. И, если кто-то с Серёгиного курса, включая самого Серёгу, покинул Институт культуры с некоторым набором изысканных манер, то в этом огромная заслуга Валентина Михайловича.
Четвёртый педагог был самым молодым среди этой четвёрки. Лицо его украшали чёрные усы, он был несколько зажат, редко улыбался, говорил мало – очевидно, авторитеты давили. Именно этому человеку в данной книге будет посвящено больше всего внимания.
Итак, именно эта четвёрка на протяжении всего обучения превращалась в подлинных родителей-преподавателей, самых близких для студентов наставников.
Суть этого первого собрания состояла в том, чтобы не просто представиться самим, но и дать студентам возможность познакомиться друг с другом. Они представляли каждого студента, разбирая вступительные экзамены и ненавязчиво объясняя свой выбор, а затем предлагали студенту представить себя, красиво рассказав какую-то историю, с ним связанную.
С каждым выступлением, пока очередь не дошла до самого Серёги, его охватывала необъяснимая паника. Всего-то четыре ровесника-юноши и две девушки одного с ним года рождения, то есть семнадцати или восемнадцати лет. Остальные все «старые» – кому двадцать, кому двадцать один или двадцать два. Были и несколько «стариков», кому уже исполнилось двадцать восемь лет. Один из этих «стариков» по имени Владимир уже работал режиссёром народного театра в Ленинграде и пришёл только для того, чтобы получить диплом об образовании. Другой «старик» -ленинградец с лицом убийцы, маньяка или большого художника (в зависимости от выражения лица) был тёзкой Серёги, но Серёга обращался к нему только по имени-отчеству – Сергей Дмитриевич. Его усы над толстой верхней губой постоянно подёргивались. Он был очень серьёзен, всё записывал и даже осмеливался задавать вопросы. Но при этом в его облике была очень органичная, почти детская непосредственность, граничащая с непредсказуемостью. Скорее всего, именно за это его и взяли на режиссуру. В начале первого курса Сергей Дмитриевич даже взял молоденького Серёгу под опеку. После поездки на сельхозработы в сентябре он зазывал Серёгу к себе домой и показывал, что такое работа с воображаемыми предметами, как надо надевать на себя воображаемый пиджак, пить воду в отсутствие стаканов и всякие другие упражнения. Серёга, уважая солидных усатых людей, относился к Сергею Дмитриевичу с нескрываемым почтением, что очень радовало взрослого однокурсника. В дальнейшем, Сергей Дмитриевич неоднократно будет поражать однокурсников своей непосредственностью и непредсказуемостью, например, играя роль клоуна, придёт с палкой, в которой мужчины тут же признают палку из мужского туалета, а в этюде, посвящённом блокадной теме, в котором играл вместе с Серёгой, на глазах у изумлённого Серёги, съест взятые из пепельницы окурки… Но это будет позже, а пока Серёга заинтересовался им даже больше, чем немногочисленными женщинами.
Большое число будущих друзей-однокурсников были из других городов СССР и даже одна девушка из Финляндии – дочь финского коммуниста. На первом собрании однокурсники с некоторым удивлением увидели чернокожего жителя Сомали по имени Абдурахман Юсуф Артан. Это было неожиданно! Когда до него дошла очередь, чтобы представиться и рассказать интересную историю и поделиться самым сильным впечатлением из своей жизни, Абдурахман, сверкая белыми зубами, весьма эмоционально, с необычным африканским акцентом поведал, как однажды его чуть было не съели (в прямом смысле!) представители соседнего племени каннибалов. Это была самая интригующая история!..
Борис Васильевич Сапегин, заведующий кафедрой режиссуры и непосредственный руководитель курса, не был расистом. Он просто почему-то не очень любил студентов-иностранцев.
– Смотри, – говорил он чернокожему студенту, – сейчас октябрь, а уже так холодно. А в ноябре снегом всё завалит, ты простудишься и умрёшь, Абдурахмаша. А в Киеве – до февраля тепло! Поезжай в Киев!
Убедил Борис Васильевич Абдурахмана перевестись в Киев. А к Новому году на курсе не осталось ни одного иностранца. Даже дочь финского коммуниста уехала на свою родину.
Среди однокурсников были два человека из Эстонии: девушка Малле Копель, которая говорила с красивым эстонским акцентом, и юноша Коля, который всем доказывал, что знает эстонский язык, но проверить это могла только Малле. Когда новоиспечённые студенты называли города своего детства, Серёга мог подтянуть собственные знания по географии великой России. Такие города, как Тула, Курск, Кингисепп, Серёга, конечно, знал, а вот Камышин, Нарьян-Мар, Бриндакит, Великие Луки были загадкой. Когда очередь дошла до Серёги, Роза Абрамовна Сирота, разбирая вступительные экзамены и формулируя основную Серёгину индивидуальность, сказала:
– Вышел этакий петушок наглый и Пушкина читает, а затем начал нас учить студентов отбирать… – (имея в виду басню Л. Гаврилова).
А Серёге о себе рассказывать было нечего. Ленинград. Школа. ТЮТ. Не будешь же хвастаться знакомством с усатым молдаванином, так и не поступившим в это заведение, или заново читать Пушкина. Не рассказывать же всем о том, как он не стал музыкантом, не стал спортсменом или как он «дрался» с коллегами по творческой студии на телевидении… Не смог Серёга что-то интересное вспомнить из своей жизни. Рассказал какую-то ерунду про зайчика, перебегавшего дорогу, чем публично подтвердил отсутствие у него жизненного опыта. Короче, в первый же день – опозорился.
Под конец этой первой встречи все двадцать девять студентов оказались разобраны по группам между четырьмя наставниками. Серёга до последнего момента самонадеянно думал, что попадёт к Розе Абрамовне Сироте, но… попал в группу к молодому усатому режиссёру-педагогу Геннадию Алексеевичу. Единственным утешением было то, что туда же попала девушка, которая сразу приглянулась Серёге, хотя и была на четыре года его старше. Напомню, что и с девушками-ровесницами у Серёги имелись проблемы. Что тогда говорить о бесперспективности симпатий к почти тургеневского типа взрослой барышне, носившей красивое имя Наталья, одной из самых талантливых актрис на курсе, при этом являвшейся, в отличие от некоторых других способных «барышень-актрис», олицетворением неприступности и строгости. Данное обстоятельство ограждало мальчика Серёгу от постоянной ревности, так как барышня ровно относилась ко всем. Именно это качество и не позволяет мне проводить параллели с трагической любовью пятнадцатилетнего Серёги к ведущим пятнадцатилетним телевизионным актрисам из прошлой жизненной практики.
Жизнь в институте закрутилась такая бурная, что предпринимать какие-то специальные действия, чтобы гармонично влиться в разношёрстный коллектив, не требовалось. Всё происходило само собой. Разница в возрасте между однокурсниками стиралась, и казалось, что все были ровесниками. Не чувствовалось и разницы в уровне профессиональной подготовки. Даже те, кто уже имел опыт работы режиссёром, предпочитали этот опыт не демонстрировать. Всё что угодно могло стираться, тем более когда все на занятиях одеты в трико, кроме одного – таланта и индивидуальности. И для того, чтобы гармонично вписаться в этот коллектив, требовалось быть если не талантливым, то, как минимум, иметь собственное лицо, обладать индивидуальностью или самобытностью. Видимо, у Серёги что-то индивидуальное было, а потому он гармонично вписывался и чувствовал себя весьма комфортно. И очень скоро Серёга понял, как прекрасно учиться на одном из самых взрослых отделений в институте.
Действительно, особенностью обучения на творческом отделении было то, что, кроме лекций и семинаров, огромное количество времени занимали специальные предметы, как-то: режиссура, актёрское мастерство, сценическая речь, музыка, пантомима, сценическое движение, даже фехтование и много-много различного рода актёрских тренингов. И это не было чем-то удивительным, так как и без этих тренингов занятия в некоторые дни начинались в 8.30, а заканчивались в 22.00. Суббота не считалась выходным днём, и именно в этот день были в основном занятия по группам с наставниками, также длившиеся целый день. Серёге такой режим нравился: что в будни, что в выходные утром всё равно не поспишь, когда ночуешь в проходной комнате, и, куда с утра убегать, было без разницы.
Серёге было трудно представить, как может складываться нормальный студенческий коллектив, если одногруппники встречаются только на лекциях и семинарах и, в лучшем случае, на студенческих «корпоративах». Здесь же было всё по-другому. Прибегаешь с раннего утра на самый верхний этаж в аудиторию, переодеваешься в обтягивающее трико (что очевидно не красило щуплого Серёгу), и начинается тренинг по актёрскому мастерству. И в данный момент, вне зависимости от возраста, все начинали мычать, кукарекать, изображать увядающие цветочки, бегать по лужам, зажигать или тушить свечки, чистить зубы и заниматься всякой другой, казалось бы, ерундой.
Преподавал актёрское мастерство обаятельнейший шестидесятишестилетний Лев Владимирович Шостак, известный ленинградский артист, игравший в своё время в знаменитом театре у Николая Акимова. Его все обожали и старались не пропускать ни одного занятия. Чуть позже Лев Владимирович обязал всех сходить в цирк и в зоопарк, чтобы принести из этих мест реальный и актуальный этюд. Серёга принёс из зоопарка образ совы, так как тот не требовал резких движений, а из цирка – образ шпрехшталмейстера (таким сложным немецким термином называют ведущего циркового представления) и дрессировщика собачек. Занятия шли одно за другим. После кукареканья и мычания берёшь рапиру и учишься фехтовать, как заправский мушкетёр, затем тебя, а точнее, твои мышцы, пытаются расслабить на уроках сценического движения, после чего логично и пантомимой заняться. А как потом хочется попеть на уроках музыки с замечательным весёлым педагогом по музыкальному воспитанию Игорем Константиновичем Гороховым!
Крутится жизни, крутится жизни колесо!
Ветер весёлый, ветер весёлый бьёт в лицо!
Волны бросают, волны бросают вверх и вниз!
Не опоздать бы и не отстать бы! То-ро-пись!
Несмотря на огромную загруженность в институте, на развлечения тоже времени хватало. Конечно, были на курсе и такие студенты-ленинградцы, которые находили развлечения в одиночку дома за учебниками и книгами, так как у них были, наверное, свои комнаты. Они казались очень скучными, не курили в знатной курилке, где, в основном, и решались все организационные вопросы, не участвовали в пьянках, которые сегодня назывались бы корпоративами. Серёга же пытался активнее примыкать к группе иногородних, которые по большей части развлекались вместе – либо на улицах, либо в легендарном общежитии на проспекте Смирнова (ныне Ланское шоссе). Здесь проживала наиболее активная и творческая часть курса, не говоря уже о барышне Наталье и её подруге Любе. И понятно, почему Серёга всегда мечтал оказаться там.
Навязываться в качестве дополнительного собутыльника какой-то сложившейся группе весёлых ребят было не очень удобно. Всё-таки они и день и ночь вместе, живут в одной комнате. Стеснялся Серёга. Всё время искал повод, чтобы вместе с задорным Витей-пианистом, Вадиком из Кирова, Николаем из Нарьян-Мара или Володей – солидным курским мужичком – повеселиться. Этим стеснением Серёги иногда пользовался юноша Коля из Таллина.