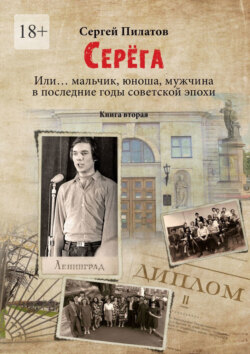Читать книгу Серёга. Или… мальчик, юноша, мужчина в последние годы советской эпохи. Книга вторая - - Страница 7
Часть первая.
В поисках друзей, подруг и авторитетов
Николай
из Нарьян-Мара
ОглавлениеНиколай из Нарьян-Мара был на полтора года старше Серёги, то есть – авторитет. Тем более Нарьян-Мар – город столичный, центр Ненецкого автономного округа и вообще единственный город в этом округе. А то, что находится этот город за Северным полярным кругом (а значит, по мнению Серёги, там постоянно холодно), вызывало ещё больше уважения.
Серёга симпатизировал Николаю не только по причине более зрелого возраста и северной закалки, которую Николай, естественно, должен был получить за полярным кругом. Николай был наглым. По-хорошему, то есть не страдал комплексами при налаживании контактов. Назовём это коммуникабельностью. Серёга тоже был наглым, но не для первого шага. А у Николая был уникальный талант налаживать контакты с лёту с самыми знаменитыми и великими. Забегая немного вперёд, поведаю, как однажды на втором курсе Серёга с Николаем пошли через служебный вход в Академический театр им. Пушкина (ныне Александринский) и вызвали художественного руководителя. К их удивлению через пять минут вышел вечно улыбающийся Игорь Олегович Горбачёв, народный артист СССР, которого знала вся страна, а Серёга в ответ на вопрос Розы Сироты на консультации «Кто лучший исполнитель роли Хлестакова?» называл именно его имя. Серёга опешил, а Николай, как будто простился с Игорем Олеговичем только вчера, попросил мэтра, чтобы двух студентов с режиссёрского курса Института культуры допускали на репетиции новых спектаклей в «одном из лучших театров России» (почти дословная цитата Николая). Николай так растрогал Игоря Олеговича, что он тут же приказал незамедлительно выписать двум студентам пропуска в театр со служебного входа в любое время и предоставить график репетиций. «Конечно, дорогие мои! Посещайте, смотрите!» – чуть не обнял друзей народный артист. Кстати, при встрече с ними в театре он всегда обращался к ним именно так «дорогие мои».
Опекал юных наглецов и народный артист СССР Василий Васильевич Меркурьев – легенда советского кино. Николай вспоминает, как Василий Васильевич, завидев двух юных созданий, ласково брал их за плечи и своим хорошо узнаваемым голосом говорил: «Николя, Серёга! Пойдёмте в буфет! Там сегодня котлеты гатчинские!» Проходя по запутанным переходам театра с низкими сводчатыми потолками, под многочисленными лестницами, можно было встретить сидящего на красной бархатной скамейке Юрия Андреевича Толубеева, настоящую чёрную глыбу в костюме, который украшала золотая Звезда Героя социалистического труда. Он просто сидел и курил, а Василий Васильевич постоянно его подкалывал едкими замечаниями. В ответ на что невозмутимый Юрий Андреевич непревзойдённым басом говорил: «Дурак ты, Вася…» Буфет Пушкинского театра, куда в первый раз привёл Николая и Серёгу Василий Васильевич, конечно, был одним из любимых мест наглых студентов.
Сейчас уже не выяснить, кто был инициатором этой смелой авантюры, но Николай и Серёга получили огромный заряд практического опыта, полезной информации и, что немаловажно, испытали величайшее удовольствие. Им удалось побывать на читке пьесы «Иванов» по А. Чехову, в которой участвовал сам Игорь Олегович Горбачёв, а также легенда и звезда театра им. А. С. Пушкина Галина Карелина в роли Анны Петровны. Ставил спектакль сорокалетний режиссёр Арсений Сагальчик. В театре он был чуть больше трёх лет, и чувствовалось, что он испытывает откровенную неловкость от присутствия в небольшом зале двух посторонних персонажей, но возразить Горбачёву он не решался. Два посторонних персонажа понимали неловкость Арсения Овсеевича. Мэтры и легенды, участвовавшие в читке, относились к молодому режиссёру, скажем мягко, несколько снисходительно, много отвлекались на посторонние разговоры, а когда режиссёр совершенно справедливо призывал их к работе, просто не замечали его призывов, а одна «легенда» даже очень некорректно высказывалась в его адрес. Потому Серёга с Николаем отсидели две читки «Иванова», поднакопили опыта театральных дрязг и по приглашению Игоря Олеговича пошли на заключительные прогоны спектакля, где он выступал режиссёром, «Пока бьётся сердце» – про благородную работу врачей. А после премьеры этого спектакля посещали генеральные репетиции нашумевшего спектакля «Аэропорт» (по роману А. Хейли), который ставил Александр Музиль.
Стоит ли говорить, что Серёга с Николаем были единственными студентами в группе, а может быть, и во всём институте, которые могли позволить себе присутствовать на читках, репетициях, прогонах в старейшем театре Ленинграда и обедать в актёрском буфете с известными артистами.
Для Серёги это были первые уроки наглого коммуницирования, даром коего Николай обладал в полной мере. Но у Николая было ещё несколько выдающихся способностей. Например, он обладал врождённым удивительным чувством юмора, хорошей памятью и, кроме того, имел уникальную способность подражать голосам известных (а их было немного) телевизионных ведущих, а также артистов. Неплохо у него получались и яркие институтские преподаватели. Серёга тоже любил подражать чужим голосам, получалось у него это значительно хуже, чем у Николая, что Николая подбадривало.
Николая и Серёгу объединяло то, что их очень любили на кафедре сценической речи, которой руководила величайший педагог Зинаида Васильевна Савкова, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор. Позднее, когда Серёга в зрелом возрасте подрабатывал на ленинградском радио, он узнал, что Зинаида Савкова была там легендой, её голос часто звучал в самых ответственных передачах Ленинградского радио, а многие дикторы и журналисты Ленинградского радио и телевидения считают её своим учителем. А ещё Зинаида Савкова была автором революционной методики постановки голоса, с успехом применяемой во многих странах мира, и автором множества книг по риторике и сценической речи.
Любила их и педагог непосредственно по сценической речи Эмма Александровна Петрова, но и Зинаида Савкова была наслышана о щуплом мальчике с явно не сочетающимся с фигурой красивым мужским громким баритоном и юноше, умеющем выговаривать самые непроизносимые слова, типа названий исландских вулканов или фамилий монгольских президентов, их жён или африканских королей. Актёрами они были не ахти какими великими, а вот для эстрадной сцены, как и мечтал Серёга, очень даже годились.
С первых дней Серёга вместе с Николаем был активным участником капустников, приуроченных к тем или иным праздникам. Капустники – неотъемлемая часть обучения в творческом учебном заведении. Они позволяли вне учебной программы, без преподавателей, придумывать что-то очень смешное, чтобы самим себе показывать. Мужская часть готовила поздравления женской части на Восьмое марта, и, соответственно, наоборот – женская часть готовила поздравления к Двадцать третьему февраля. Серёга и Николай входили в инициативную группу, где роли были распределены заранее: Витя-пианист играл, классно импровизируя, на пианино, Коля из Таллина кривлялся, Вадик пел, Николай пародировал всех подряд, а у Серёги основной задачей было сочинение текстов поздравлений. Напомним, что кое-какой опыт у него имелся, но так как самому придумать красивую оду или эпиграмму было сложно, то он либо пародировал какого-либо известного поэта – Есенина, Маяковского, Вознесенского, Рождественского, либо чуть менял тексты известных песен, что, в принципе, то же самое подражание, более или менее удачное. Напомню, что подготовка домашних праздников была главной его творческой семейной специализацией. Более того, в детстве Серёга до дыр изучил книгу известного советского пародиста Александра Архангельского, выучил наизусть почти все его пародии и частенько в поздравлениях менял только имена, выдавая это всё за своё.
Однажды на первом курсе Серёге поручили купить цветы для поздравления с праздником Восьмого марта женской половине однокурсников. Собрали деньги, выдали их Серёге и отправили на рынок. Это был первый случай, когда кто-то Серёгу посылал покупать цветы или когда он покупал цветы по собственной инициативе. Цветов в своей жизни Серёга видел достаточно, особенно много Первого сентября, в связи с профессией мамы, но совершенно не разбирался в них. Знал только названия: гладиолус, роза, мимоза и гвоздика. Потому на рынке розы показались слишком шипованными, пафосных гладиолусов там не было, мимозы выглядели примитивными, а вот гвоздики подходили в самый раз. Тем более они были такие красивые, ярко-синие и голубые. Когда он, стараясь проскочить мимо любых девчонок, донёс до аудитории огромный букет синих гвоздик, его товарищей охватил шок, а затем они громко рассмеялись:
– Это же крашеные гвоздики для возложения на могилах!
Серёге было очень стыдно. Однокурсники в этот день оказались добрыми (видимо, в честь праздника) и не стали устраивать бедному мальчику экзекуцию. Снова собрали немного денег и послали в цветочный магазин (не на рынок) двух более сообразительных товарищей. Из синих крашеных гвоздик на полу выложили цифру восемь и обыграли эти «похороны» в представлении. После этого Серёге серьёзных покупок не доверяли.
Как и положено капустникам в творческих вузах, они были достаточно смелыми, так как предполагалось, что их, кроме самих студентов, никто не увидит. Была надежда и на то, что неожиданно зашедший педагог не станет писать доносы в соответствующие организации.
Так Серёга с Николаем из Нарьян-Мара и сотоварищами придумали на поздравление девушек с Восьмым марта мини-оперу «Преступление и наказание». Либретто было незамысловатым, и суть его состояла в разоблачении пороков капитализма. Его стоит привести целиком.
В первой сцене выходил мальчик, переодетый в девушку, и красиво запевал оперным голосом: «Я – Соня. Проститутка! Капитализм меня сгубил!»
Хор подхватывал: «Долой неграмотность! Долой империализм! Долой пороки из нашего дома!»
Затем выходил ещё один студент: «Я – Мармеладов. Живу я в подвале. Капитализм меня сгубил!»
Хор подхватывал: «Долой неграмотность! Долой империализм! Долой пороки из нашего дома!»
Сквозь этот хор прорывался крик: «Мармеладов, берегись – лошадь едет! Мармеладов, берегись – лошадь едет!»
Ржание лошади, крики. Гаснет свет.
Следующей сценой была встреча Раскольникова и старухи-процентщицы. Она очень напоминала сцену из третьей части кинофильма «Операция Ы и другие приключения Шурика», где Шурик приходит к бабушке, чтобы посидеть с внуком. Раскольников тоже шёпотом на тот же мотив колыбельной пел те же слова:
– Я вам денежку принёс за квартирку за февраль.
– Вот спасибо, хорошо, положите на комод!
Затем Раскольников достаёт серебрянную папиросницу:
– Вот вам папиросница, серебряная!
– Что-то вроде и не серебро.
Музыкальный дуэт прерывается тем, что Раскольников тюкает старуху топориком.
В финале оперы почти все мужчины пели песню из репертуара ВИА «Пламя» – «Строим БАМ», – но с другими словами:
И сквозь туманы,
И сквозь дожди
Соня с Родионом в ссылку пошли.
Трудное дело выпало нам:
Строить путь железный…
А короче – БАМ.
Милая и очень смешная опера получилась.
Но совершенно неожиданно на предпоследнем курсе Серёгу с Николаем вызвали в комитет комсомола. Вместо того, чтобы высказать им заслуженное недовольство подрывом авторитета ведущей комсомольской стройки страны, им предложили написать текст пионерского приветствия (естественно, в стихах) для какого-то Пленума горкома (или обкома) комсомола. Пионерские приветствия и Серёга, и Николай, естественно, видели по телевизору, когда там показывали различные съезды. Задача им понравилась, и они, привлекая к работе и своих друзей-однокурсников, справились с ней в достаточно короткие сроки. Приводить текст целиком нет никакого смысла, но, чтобы понять тональность написанного, достаточно одного четверостишия:
Под ветра шум,
Под шум балтийский,
Счищая снег,
Ломая ветки,
Идёт к нам год —
Год спорта Олимпийский,
Последний год
Десятой пятилетки!
Почему-то пионеры не стали читать это замечательное стихотворение с трибуны какого-то комсомольского пленума.