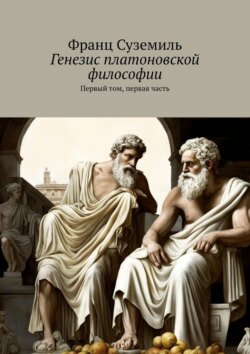Читать книгу Генезис платоновской философии. Первый том, первая часть - - Страница 4
Первая группа платоновских произведений СОКРАТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЭТИЧЕСКИЕ – ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ
Гиппий меньший
ОглавлениеI. Содержание и структура
В кратком вступлении р.363 А.– 364 В. описывается ситуация диалога и мотивируется его исходная точка. Помимо Сократа и Гиппия, в диалоге участвует третий собеседник, Евдик, однако он служит лишь неформальным посредником в развитии диалога и, когда он грозит прерваться на середине, предотвращает это своим посредничеством, так что его вмешательство также внешне подчеркивает границу между двумя частями диалога. В сам диалог он не вмешивается. Кроме того, в использовании этого посредника есть и большая психологическая тонкость: Сократ предотвращает появление вызова со стороны Гиппия.20 Беседа строится таким образом. В неустановленном месте, возможно, в палестре, Гиппий только что произнес длинную речь в софистической манере, а именно о Гомере.
Большая часть слушателей уже сбилась с пути, остался небольшой, избранный круг. Евдик предлагает Сократу рассказать о состоявшейся беседе. Сократ просит разрешить ему задать вопрос софисту. Евдик устраивает исполнение этого желания: Гиппий соглашается, хвастливо заявляя о своей мудрости. И здесь фон молчаливых персонажей оживляет сцену, которая, кстати, проще, чем в последующих диалогах.
Теперь Сократ спрашивает, кого Гиппий считает лучшим, Ахилла или Одиссея, и в каком отношении. Гиппий отвечает, что Ахилл – лучший, Нестор – мудрейший, Одиссей – самый искусный и ловкий из гомеровских героев. Ахилл правдив, а Одиссей лжив и обманчив. Это приводит к общему вопросу о том, отличаются ли друг от друга правдивый и лжец, и выясняется, что ложь всегда предполагает знание вопроса, так что только знающие и искусные (αγαθος) в равной степени способны говорить правду и лгать. Гиппий, давно разуверившийся в непреодолимой силе сократовских вопросов, критикует изощренность Сократа и предлагает им сразиться друг с другом в длительных беседах. Сократ легкомысленно отмахивается от этого предложения, иронично признавая великую мудрость Гиппия, но скорее ставит новый вопрос, почему тот представляет Ахилла исключительно правдивым, ведь он так часто бывает неправдивым. Софист отвечает, что Одиссей намеренно говорит неправду, а Ахилл – ненамеренно. Ответ Сократа, что, согласно предыдущему вопросу, Одиссей лучше, предваряет тему второго раздела. с. 364 B. – 373 A.
Здесь утверждение о том, что тот, кто лжет с умыслом, лучше, сводится к более общему и глубокому вопросу о том, что лучше – отсутствовать и творить зло с умыслом или без него. Сократ использует ряд примеров, чтобы показать, что, по крайней мере, во всех других видах деятельности лучше и искуснее тот, кто сознательно не достигает своей цели, а не тот, кто делает это против своей воли. Добродетель также является либо способностью, либо знанием, либо тем и другим вместе, и в любом случае лучшей следует назвать душу, которая знает и умеет делать как добро, так и зло, а значит, и ту, которая сознательно грешит, «если такая душа действительно существует», – с полным основанием добавляет Сократ. Но ни Гиппиас, ни он сам не могут убедить себя в правильности этого парадокса. Поэтому разговор, очевидно, заканчивается на скептической ноте.
II Основная идея
Именно это обстоятельство, очевидно, заставило Швальбе 21не видеть во всем споре ничего серьезного по форме и содержанию, а лишь обычную карикатуру на софистическую диалектику с обеих сторон с целью высмеять противника и разоблачить ложную мораль софистов. Это опровергается лишь тем, что сам Гиппий отказывается согласиться с отстаиваемым здесь утверждением.
Аст 22находит также только полемическую цель, а именно противопоставление высокомерной мудрости софистов ироничному невежеству Сократа и выставляет его в пустоте и наготе; но поскольку это демонстрируется совершенно сократовским высказыванием, он считает диалог поддельным. Однако было бы справедливо сначала выяснить, нельзя ли обнаружить в диалоге сократовско-платоническое ядро.
Аналогичным образом, Стальбаум23 видит главной целью посрамление высокомерного софистического невежества, которое даже не в состоянии разрешить подобные заблуждения. Но поскольку он считает этот аргумент столь же софистическим, он заключает, что противоположный ему результат также будет истинным, и поэтому он объявляет второстепенной целью опровержение предположения о возможности намеренного греха абсурдностью его следствия, а именно тем, что тот, кто грешит преднамеренно, является лучшим.
Германн 24также ничем не отличается, за исключением того, что он придерживается более позитивного взгляда на первое: Это было доказательством сократовского метода в борьбе с народным невежеством и его рефлексивным отголоском, софистической «мнимой мудростью», даже там, где они, казалось бы, имеют союзника в естественном чувстве, и против извращенного авторитета, который они уступали древним поэтам.
Напротив, вторая группа комментаторов делает главный акцент на реальной стороне произведения и в то же время стремится придать ему для этой цели еще более позитивный смысл.
Сначала Шлейермахер25 слишком неопределенно выражается, что внимание здесь должно быть обращено на различие между теоретическим и практическим (вероятно, имеется в виду сознательное и бессознательное действие), то есть на природу воли и практических способностей и, таким образом, на то, в каком смысле только добродетель может быть названа знанием. Тем не менее, он видит в диалоге, по-видимому, только потому, что он не нашел для него места в его заказе, просто черновик Платона, переработанный учеником.
Целлер26 обнаруживает более определенное намерение опровергнуть обычный взгляд, который ищет нравственность в отдельных поступках самих по себе, а не в лежащей в их основе конституции сознания, который считает возможным делать зло сознательно и намеренно, развивая его последствия и подготавливая тем самым высший взгляд на добродетель как на косвенное познание. В этом последнем повороте кроется прогресс против объяснений, разработанных ранее. Лишь гипотетически верно, что сознательно грешащий человек лучше, чем неосознанно грешащий, поскольку последний носит в себе принцип правоты, а тот еще далек от принципа всякой истинной добродетели. По правде говоря, знающий человек не может совершить настоящего зла, но только такое, которое является ложным по виду и форме, но правильным по сути и по своему моральному содержанию.
При таком рассмотрении исчезает все софистическое в рассуждениях, и даже тот кажущийся круг, по которому Целлер 27раньше заподозрил диалог, поскольку во второй части, по-видимому, уже предполагается, что знающие тождественны добрым, на самом деле не существует; скорее, в эпагогической процедуре используется только общепринятое употребление, согласно которому, например, хороший счетовод называется так же, как и умелый, знающий счетовод. К такому же выводу приходит и Штейнхарт,28 который лишь видит в замечании, что добродетель – это, возможно, и знание, и сила, начало перехода за пределы чисто сократовской этики. Однако, как бы ни стремился Платон обратиться к активному проявлению силы воли, исторический Сократ (Xen. Mem. III, 9, 1—3.) не исключает его и не может этого сделать, потому что в его случае само знание – это не готовое, а активное проявление этической силы, ибо именно в этом основано единство знания и воли.
Но если вся подлинная философия Сократа поглощается в этом этическом знании, то формальная сторона произведения уже не может иметь ничего всеобъемлющего. Напротив, содержание и метод, положение и отрицание, по сути, сливаются воедино. Это этическое знание противостоит вульгарному представлению о добродетели в той же мере, в какой, с другой стороны, оно развивается из него путем индукции как необходимое следствие самого неясного нравственного чувства. И, с другой стороны, только сократический метод может породить такое знание и, наоборот, является в свою очередь необходимым его выражением и продуктом, как это ясно из контраста с манерой софистов, этих фактических выразителей вульгарной ненаучности, и как содержание, так и метод впервые проясняются этим контрастом. С одной стороны, это безудержная хвастливость, p. 363 E. ff., и многословность, которой не хватает объединяющей связи понятия, p. 368 B.-E., и которая поэтому вскоре показывает пустоту своего пышного красноречия, чувствуя себя скованной оковами сократовского способа постановки вопросов, p. 369 B.-D., и жаждет вернуться на более плодотворное поле длинных ораторских выступлений, где от удачи зависит, сможет ли слушатель следовать за ними и обнаружить их слабости, с. 373 A., пока, наконец, вся их мнимая мудрость не растает в ничто, с. 376 C. С другой стороны, та благоразумная скромность и то искреннее стремление к истине, которые, возможно, Платон сначала воплощает под именем «невежества», но в то же время уже здесь описывает с чертами, в которых отражаются его собственные состояния. Ведь в состоянии, беспомощно колеблющемся между противоположностями, подобном состоянию лихорадочного человека, p. 372 D. E. cf. 376 C., можно распознать не классическое спокойствие мастера, а скорее ту бродильную борьбу молодого мыслителя, о которой мы уже говорили.29 Для Сократа незнание – это только сознательное, но в остальном объективно удерживаемое выражение отсутствия актуальной системы; для Платона же к нему добавляется субъективная потребность восполнить этот недостаток, тяга к системе. С другой стороны, осознание метода еще крайне неразвито, что выражается лишь в контрасте между сократовским способом постановки вопросов и длинными речами софистов. Как ни пренебрегал исторический Сократ непрерывной речью или отказывался отвечать на вопросы, уже для его современников было характерно видеть его говорящим в вопросительной манере и даже отвечающим на поставленные ему вопросы встречными вопросами (Xen. Mem. IV, 4, 9 f.). Платон, после того как он так сильно подчеркнул сократовское невежество, должен был также привести этот путь, который был наиболее с ним согласен, p. 372 до н. э. C., должен был решительно выдвинуть его на передний план, а также строго придерживаться его в практическом применении здесь. Конечно, однако, это может относиться только к фактическим фи-лософемам; непрерывное описание сократовского невежества, которое весьма характерно встречается между двумя разделами целого, с. 372 B. – 373 B., касается его фактического состояния ума, которое Сократ никак не мог выудить из другого. Накопление примеров в диалоге уже выдает стремление к максимально полному собранию эмпирии для большей уверенности в индукции. Подлинность устанавливается также внешним свидетельством Аристотеля (Met. V, 29, 1025 a. 6 ff.).
20
Hermann а. а. О. I. 8. 600. Anm. 254.
21
Ocuvres de Platon I. S. 110.
22
Platon’s Lehen und Schriften. Leipzig 1816. 8. S. 464.
23
Platonis opera IV, 2. S. 232 – 235.
24
a. a. O. I. S. 434.
25
Hebers. I, 2, S. 292.
26
Platonische Studien. Tübingen 1839. 8. 8. 152 f.
27
Neuerdings hält er selbst den Dialog für wahrscheinlich echt, Zeitschr. f. d. Alterthumsw. 1851. S. 256.
28
In Hieronymus Müller’s Uebers. 1. Thl. Leipzig 1850. 8. s. 103 f.
29
Anm. 12. Stc inhart я. а. О. I, 8. 100.