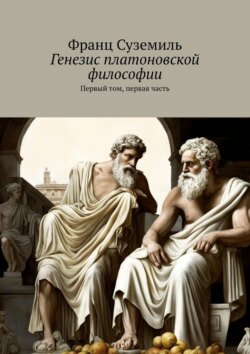Читать книгу Генезис платоновской философии. Первый том, первая часть - - Страница 5
Первая группа платоновских произведений СОКРАТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЭТИЧЕСКИЕ – ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ
Лисид
I. Краткое содержание
ОглавлениеВ «Лисиде» и «Хармиде» представлена самая ранняя форма пересказа беседы Сократа, а именно пересказ одному или нескольким молчаливым собеседникам. Признано, что эта отделка служит для более живого изображения драматического и мимического. И это также проявляется здесь в юношеском изобилии, что несколько контрастирует с логически формальной трактовкой содержания30, хотя Лисид в особенности уже сравнительно богат новыми, еще неразработанными идеями. Структура этого диалога также богаче, чем у других ранних сочинений.
Место действия – недавно построенная палестра. В общем вступлении стр. 203 – 206 Э. Гиппотала сатирик Ктесипп высмеивает за непрерывное «пение и речи «1 своего любовника Лисида, и Сократ также порицает такую процедуру, которая только делает любимого тщеславным и высокомерным и имеет лишь корыстную цель завоевать его для себя таким способом. Пока этот разговор продолжается на открытой площадке, происходит второе, более конкретное вступление p. 206 E. – 207 D. вводит нас в интерьер Палаэстры и в разговор с Лисидом, имеющий целью дать Гиппоталу пример того, как, с другой стороны, адская любовь стремится нравственно воспитать возлюбленного, прежде всего заставляя его почувствовать свою ненужность и невежество и тем самым делая его не тщеславным, а смиренным, см. p. 206 C., 210 E.
Собственно диалог теперь делится на четыре части, в которых в качестве собеседников Сократа попеременно выступают юноши Лисид и Менексен. Там, где речь идет о формальной остроте развития понятий, используется аргументированный, дерзкий, тонкий Менексен; там же, где речь идет об элементарных основах или об обретении конкретного содержания, в разговор втягивается застенчивый, по-детски робкий, но более глубокий и рассудительный Лисид.31
В первой начальной беседе с Лисидом, p. 207 D. – 210 E., Сократ соединяет ранее упомянутую методологическую цель с основой актуальной темы, показывая, что знания и умения приобретаются исключительно через любовь к другим. Дружба и здесь рассматривается вполне по-сократовски, в зависимости от ее полезности. Более строго диалектически, в диалоге с Менексеном, 211 г. н. э.-213 г. н. э., взаимность предстает как необходимая форма. Эта форма затем получает свое содержание, в-третьих (Лисид здесь снова выступает в качестве соавтора), принимая два противоположных положения натурфилософии о притяжении подобного (Эмпедокл), которое, однако, в этических терминах должно быть ограничено добром, поскольку зло – это даже то, что не похоже на себя, и снова о дружбе противоположного (Гераклит). Оба положения неправдивы в своей грубости, последнее потому, что, согласно вышесказанному, дружба возможна только среди благих; первое, с другой стороны, доказывает свою односторонность только с помощью предварительного аргумента, поскольку благо понимается крайне односторонне в абсолютном смысле, как не имеющее нужды, так что благие бесполезны друг для друга и, следовательно, как только что было предположено, не могут быть друзьями. Однако тут же эта ущербная идея вновь отменяется, хотя бы косвенно, так что относительно добрые предстают здесь еще негативно, как «ни добрые, ни злые, которые любят добро из-за присутствия зла, то есть из-за своего несовершенства, p. 213 D. – 218 C. В последнем разделе, p. 218 C. – 223 A., окончательно проводится различие между абсолютным благом как высшим объектом любви, единственной самоцелью (πρωτον φιλον), и относительными благами, которые желаются лишь как средства к нему, и таким образом полностью устраняется прежнее смешение относительно добрых людей с первыми. Точно так же теперь обнаруживается противоречие, когда недостаток, ведущий к желанию блага, ранее описывался как зло. Напротив, основанное на нем желание само по себе не является ни добром, ни злом, то есть положительно относительным добром; оно есть лишь стремление к осуществлению естественных жизненных функций души, тогда как зло – это их нарушение. В этом отношении любовь стремится к тому, что ей принадлежит, и это по меньшей мере подразумевается, более того, является прямым следствием вышесказанного, что необходимо обозначить благо как то, что принадлежит каждому человеку, чтобы избежать всех противоречий, которые вновь возникают при одностороннем толковании этой, а также предыдущих концепций.
Взаимность объясняется направлением на то, что принадлежит, а направление на то, что является благом, объясняет тенденцию к тому, что является как сходным, так и несходным. Ведь эти два качества отвечают не только конечной цели, высшему благу, но и следующему объекту. А именно, совершенствование через дружбу, приближение к идеалу абсолютного блага, заключается в завершении собственного бытия. Однако дополнить можно только то, чего у нас нет; только несхожие натуры могут это дать. В свою очередь, только благо может совершенствовать нас; поэтому их несходство может заключаться только в том, что в них представлены разные стороны высшего блага, оно должно основываться на сущностном равенстве.
Среди персонажей Гиппоталес дает образ неистинной и безнравственной любви, любящей только себя в любимом объекте и не имеющей понятия о взаимном нравственном воспитании и дополнении, Лисий и Менексен дают односторонний пример взаимного притяжения несходных натур, Ктесипп и Менексен родственные натуры32, и только Сократ представляет истинную и всесовершенную, а потому уверенную в себе дружбу. Именно поэтому он считает своим единственным знанием умение распознавать возлюбленных и своих близких, p. 204 C.
30
Hermann а. а. О. I. S. 387. Zeller, Zcitschr. f. Alterth. 1851. 8. 252.
31
Steinhart a. a. O. I. S. 224 ff.
32
Steinhart а. а. О. I. S. 220 f.