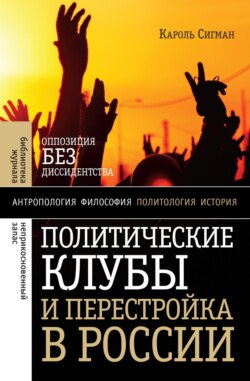Читать книгу Политические клубы и Перестройка в России. Оппозиция без диссидентства - - Страница 14
Первая часть
ИЗ КОГО СОСТОИТ НЕФОРМАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ? ЛОГИКИ И ТЕМПОРАЛЬНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
2. Социальные логики позднего вовлечения (вторая когорта)
Разнородное социальное происхождение предрасположенности к «конформизму»
ОглавлениеСемейная история и сталинские репрессии
Самое разительное отличие между двумя группами состоит в их поколенческой структуре (см. таблицу 1). Если первая когорта принадлежит в основном к послевоенным поколениям, то вторая состоит из оных лишь наполовину, а остальную часть составляют активисты, родившиеся с 1937 по 1941 год, в другой период высокой рождаемости127. Две группы различаются прежде всего по положению семей их участников в политической истории. Для большой части вновь прибывших вся советская история концентрируется всего в двух поколениях. Родители (а не бабушки и дедушки) сделали карьеру в 1920—1940-е годы, в период высокого риска репрессий (чистки 1930-х, понижения в должности после смерти Сталина), тогда как родители активистов центрального ядра первой когорты вступили в профессиональную жизнь уже после войны, в гораздо более стабильный период.
Чистки оказали разный эффект на семейные траектории, и вторая когорта в этом отношении неоднородна. В целом она несколько менее ими затронута, чем первая, однако пострадавшее меньшинство испытало на себе гораздо более жесткий удар, поскольку жертвами были их родители. Отец Г. Водолазова, крестьянского происхождения, являлся одним из основателей комсомола в годы революции. В ходе Гражданской войны он сражался на стороне красных и получил звание «героя». Затем изучал историю и философию в МГУ. Во время коллективизации он поддержал группу Бухарина. В 1930 году его арестовали и приговорили к расстрелу, который был заменен на заключение в лагерях. С 1930 по 1954 год Водолазов-отец был арестован несколько раз и почти весь этот период провел в лагерях или в маргинализированном состоянии (его последний арест пришелся на 1948 год, когда его сыну было десять лет).
Все та же близость к революции и сталинскому периоду обнаруживается и у неформалов второй когорты, рожденных после войны, в семьях, где вследствие чисток и войны дети появляются настолько поздно, что от родителей их отделяет полвека. Так, например, отец Александра Механика (род. в 1947 году) 1901 года рождения. Он был сыном еврейского портного, вступил в партию в 1917 году и участвовал в боях Гражданской войны. В 1920 году он становится секретарем райкома партии в Крыму, а затем учится в Институте красной профессуры в Москве128. В 1927-м участвует в подавлении демонстрации троцкистов, хотя в 1923-м сам был троцкистом. До 1937 года он занимал высокие должности в Московском горкоме партии, а затем был арестован и сослан в Семипалатинск (Казахстан). Вернувшись из ссылки во время войны, Механик сражается на фронте. После демобилизации ему, как бывшему ссыльному, запрещено пребывание в Москве. Он возвращается в Казахстан, в Алма-Ату (где и рождается его сын). В 1947 году он снова арестован и отправлен в лагерь. По возвращении стал ученым-экономистом.
Можно предположить, что родители, пережившие сталинский период и тем более поднявшиеся по социальной лестнице, осуществляя важные политические функции после революции, более или менее сознательно прививали своим отпрыскам привычку к осторожности. Что касается большинства вновь прибывших, чьи семьи не подверглись чисткам, то им свойственна не осторожность, а скорее некоторый конформизм.
Относительная межпоколенческая стабильность
При равных социальных характеристиках две когорты отличаются между собой способами трансформации семейного наследия. Участники второй волны склонны воспроизводить как профессию родителей, так и их политическую позицию.
Социальное происхождение у двух когорт примерно одинаковое. Лидеры клубов обычно происходят из семей с вертикальной социальной мобильностью, хорошо интегрированных в систему. В обоих случаях обнаруживается одинаковая доля семей, занимающих высшие позиции в социальной иерархии или принадлежащих к «среднему классу». Главы семей заняты в одинаковых сферах: армии, промышленности, партии. Однако две эти группы отличаются между собой способами трансформации семейного наследия. Представители второй когорты склонны воспроизводить специализацию своих родителей (полностью или в смежной области), сохраняя, таким образом, структуру семейного наследия (образование и профессию), тогда как участники первой когорты проявляют более сильную горизонтальную мобильность.
Поздно присоединившиеся к движению участники во многом склонны «довольствоваться» наследованием результатов усилий по социальной мобильности, межпоколенческой и даже внутрипоколенческой (переориентация или двойная специализация), уже совершенных их родителями. Самым типичным примером этой двойной, вертикально-горизонтальной, мобильности служат отцы, поступившие на службу в армию во время или после Второй мировой войны. Армия послужила рычагом социального восхождения не только для детей рабочих и крестьян, в ней также служили гражданские специалисты (медики, юристы, физики, инженеры, историки). Она производила профессиональную переквалификацию боевых офицеров (в частности необходимую для политических работников). В большинстве случаев дети военных, принадлежащие ко второй когорте, наследуют специализацию своих отцов, перенося ее в гражданскую сферу. Социальная позиция, таким образом, удерживается с помощью минимальной трансформации профессионального семейного наследия. Василий Липицкий объясняет это:
Мой отец [крестьянского происхождения] учился на историческом факультете Московского университета. Затем война изменила его направление. Воевал, был летчиком. После войны учился в Военной академии. Затем его оставили в аспирантуре. И его специальностью стала военная история, история авиации. Он стал доктором исторических наук, достаточно известным специалистом по раннему периоду нашей военной истории – Первая мировая война, Гражданская война129.
Василий Липицкий (род. в 1947 году) перенял эстафету своего отца в гражданской сфере, став после учебы в МГУ историком КПСС.
Представителям второй волны удается лучше сохранить семейное наследие (уровень в социальной иерархии). Исходя из большей способности их семей передать им средства воспроизводства семейного наследия с наименьшими потерями и пристроить их в самые престижные учреждения, можно сделать вывод, что эти семьи занимают более высокие социальные позиции, чем в первой когорте. Одним словом, они чаще принадлежат к доминирующим фракциям в доминирующих сферах. Достаточно привести пример отцов-военных. Все они – офицеры высокого ранга (что не всегда наблюдается в первой когорте), выпускники военных академий, занимающие посты в командовании и регулярно отправляемые за границу. И кстати, все они служат в авиации, то есть в одном из престижнейших родов войск.
Как мы помним, самыми политизированными семьями ранних неформалов были те, чьи отцовская и материнская линии конфликтовали из-за их расходящихся траекторий. Будущие неформалы, принадлежащие к следующему поколению, часто становятся объектом борьбы между ними; они вынуждены очень рано вырабатывать четкую позицию и начинают искать формы политического активизма вне официальных путей. К этой первичной социализации добавляется эффект горизонтальных перемещений. Например, возможно возникновение межпоколенческого конфликта, проистекающего из противостояния ценностей и образа жизни вследствие разрыва с родительской профессиональной средой130. В следующей же когорте неформалов не проявляется ни один из тех факторов, что привели первых неформалов к раннему вовлечению в активизм: нет ни феномена расходящихся траекторий родителей, ни горизонтальных перемещений. Родительская семья не является местом политического воспитания; в лучшем случае это место, где происходит пассивное наследование позиции родителей (будь она лояльной или критичной в отношении режима). Политическое сознание не кристаллизуется в противостоянии главе семейства. Однако степень «предрасположенности к протестному активизму» может быть различной в зависимости от ситуации.
В некоторых случаях семейная история подталкивает родителей к тому, чтобы удерживать детей подальше от политики. Эту стратегию избегания можно объяснить стигматизацией, перенесенной после революции. Отец Михаила Астафьева был дворянского происхождения и не смог поступить в университет. Он стал специалистом по электронике в военной промышленности, получив среднетехническое образование. Таким образом, становление советского режима обернулось для него социальным нисхождением. Несмотря на то, что – а может, и потому, что – эта деградация не была такой жесткой, как сталинские чистки, ее хватило, чтобы пресечь на корню всякую склонность к радикальной оппозиции. Отец М. Астафьева вжился в новую идентичность, которую ему навязали. Его аполитичность представляется следствием осторожности, которая выработалась у него одновременно как у выходца из стигматизируемой социальной среды и как у человека на скромной технической должности в профессиональной сфере, принесшей ему социальное спокойствие и не способствующей появлению протестных настроений. М. Астафьев объясняет, что сам выработал в себе критичное политическое сознание тем, что с 13 лет регулярно читал «Правду», подвергая все прочитанное дистанцированному осмыслению131. После обучения в МГУ он становится физиком – то есть сыну удалось «наверстать» потерянные отцом социальные позиции. В других случаях поддержка режима принимается с тем большей очевидностью, что семейная история не дает никакой «объективной» причины усомниться в его правоте. Ирина Боганцева объясняет:
Я считала, что система нормальная, хорошая. […] Я с ней не ссорилась, и не потому, что я ее боялась. А просто вот с самого детства как-то у меня не было таких ситуаций, когда вокруг меня были эти конфликты. Так сложилось все мое окружение. Отец мой – военный, мама – учительница музыки. Даже родственники у меня не были репрессированы132.
И наконец, даже в семьях, где политика не вытесняется, «политизация» при этом не подкрепляется противостоянием главе семьи. Дистанцирование по отношению к режиму совершили уже родители; а дети, опять-таки, всего лишь следуют по их стопам. Отец Ильи Ройтмана, сын и внук военных, был офицером в инженерных войсках Бакинского военного округа, затем, уйдя на пенсию в 1969 году, стал заместителем директора московского театра «Современник». И. Ройтман рассказывает:
Круг, в котором были и мои друзья, общение, которое было у моих родителей, это был круг людей, которые были […] близкими к диссидентским кругам. И поэтому всю литературу, которая была запрещена тогда, я имел дома, я ее читал. […] Мой отец меня приучил в детстве слушать «Голос Америки», «Би-би-си»133.
Наряду с этой семейной традицией свободомыслия и принадлежности к артистической среде, развивающейся вне официальных институций, И. Ройтман наследует и другую традицию, противоречащую первой: сразу после окончания школы он идет служить в армию (тогда как те, кто собирались продолжить обучение в вузах, обычно без колебаний использовали возможность отсрочки, которая им таким образом предоставлялась). Иными словами, он в точности воспроизводит отцовскую траекторию, во всех ее противоречиях.
127
Вследствие запрета абортов в 1936 году и государственных мер по повышению рождаемости.
128
Этот институт создан в 1921 году с целью производства «молодой элиты большевистских кадров […] в области политических и общественных наук» (Broué 1980). Из этого института (ликвидированного в 1938 году) вышли некоторые троцкисты и бухаринцы.
129
В. Липицкий, интервью 6.5.1992 г.
130
Как показывает Бурдье (1979: 530), «в случаях [изменения положения, отмеченного горизонтальным перемещением в социальном пространстве,] трансформация способа социального конституирования агентов приводит к появлению отличающихся поколений, чьи конфликты не сводятся к тому, что обычно характеризуют как межпоколенческие конфликты, поскольку в их основе лежит противостояние между ценностями и стилями жизни, связанными с преобладанием в наследии [того или иного капитала]».
131
М. Астафьев, интервью 7.5.1992 г.
132
И. Боганцева, интервью 26.7.1994 г.
133
И. Ройтман, интервью 15.5.1992 г.