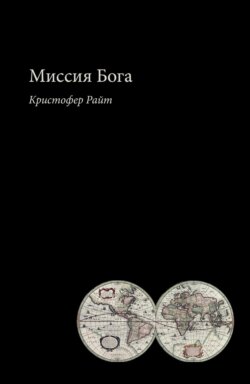Читать книгу Миссия Бога - - Страница 26
Часть 2. Бог и его миссия
4. Живой Бог являет себя в Иисусе Христе
Монотеизм и миссия Библии
ОглавлениеВ третьей и четвертой главах мы исследовали многогранное явление библейского монотеизма. В самом начале я отказался от готового определения монотеизма категориями Просветителей, кои они использовали для классификации религий, и от попытки восстановить предполагаемый эволюционный процесс, в результате которого Израиль должен был выстроить свою раз и навсегда определенную концепцию монотеизма. Вместо этого я постарался ответить на вопрос о том, что имели в виду израильтяне, говоря: «Яхве – Бог, и нет иного, кроме него». Мы изучили, в частности, их живой опыт «познания Бога». Израильтяне претендовали на него в силу событий своей истории и ожидали, что и другие народы, в конечном итоге, все придут к познанию Яхве. Затем мы наблюдали поразительный переход от ветхозаветного монотеизма, сосредоточенного вокруг Яхве, к новозаветному, в центре которого оказывается Иисус Христос. При этом библейский монотеизм не только не утратил основные черты израильского вероучения, но утвердил и дополнил их.
Вопрос, который мы должны задать себе, подводя итоги этих двух глав, заключается в следующем: каким образом миссиональный герменевтический контекст проливает свет на то, что мы называем библейским монотеизмом, помогая нам выразить его внутреннюю динамику и основную значимость? Или, проще говоря, чем объясняется миссиональный характер библейского монотеизма? Ответы могут быть примерно следующие: во-первых, желанием Бога быть познанным; во-вторых, постоянной борьбой, которую библейский монотеизм ведет с противными ему учениями; и, наконец, тем фактом, что библейский монотеизм составляет важную часть поклонения и прославления, которые в этом мире имеют глубоко миссиональную направленность.
В основе библейской миссии лежит желание Бога явить свою божественную сущность
Тема познания Бога была намеренно выбрана мною в качестве лейтмотива третьей и четвертой глав, поскольку ничто иное так не соответствует этой движущей силе библейского монотеизма. Единый живой Бог желает явить себя всему творению. Мир должен знать своего Творца. Народы должны знать своего Правителя, Судью и Спасителя. Это одна из побочных сюжетных линий повествования об исходе в одноименной книге, однако поздние воспоминания об этом удивительном событии выделяют познание великого имени Яхве всеми народами в качестве главной цели исхода (напр., Нав. 2, 10–11; 2 Цар. 7, 23; Пс. 105, 8; Ис. 63, 12; Иер. 32, 20; Дан. 9, 15). «Таким образом, исход проводит парадигматическую связь между личностью Яхве как Бога конкретного народа – Израиля и его вселенского замысла явить себя всем народам земли».[96] В дальнейшем всем великим деяниям Яхве приписывается та же цель: переход через Иордан (Нав. 4, 24), победа Давида над Голиафом (1 Цар. 17, 46), завет Бога с Давидом (2 Цар. 7, 26), ответ Бога на молитву в Соломоновом храме (3 Цар. 8, 41–43.60), избавление Иерусалима от ассирийцев (4 Цар. 19, 19; Ис. 37, 20), возвращение Израиля из плена (Ис. 45, 6; Иер. 33, 9; Иез. 36, 23). Вся история Израиля – череда живых иллюстраций к познанию Бога. Вот почему она передается от поколения к поколению.
Вспомнят, и обратятся к Господу
все концы земли,
и поклонятся пред Тобою
все племена язычников, ибо
Потомство мое будет служить Ему,
и будет называться Господним вовек:
придут и будут возвещать правду Его
людям, которые родятся,
что сотворил Господь (Пс. 21, 28.31–32).
Ричард Бокэм считает это одним из главных миссиональных течений в библейском откровении. «Его цель – поведать народам о Яхве, едином истинном Боге». Предваряя современные возражения против такого восприятия Бога, Бокэм продолжает:
Нас может отталкивать образ Бога, желающего и ищущего своей славы, ведь если бы речь шла о человеке, мы назвали бы его тщеславным и честолюбивым. Но это как раз одна из тех аналогий с человеком, которые как нельзя лучше подходят Богу и никому другому. Познание своего Творца-Бога необходимо человеку. В явлении народам божественной сущности Яхве нет ни капли тщеславия, только откровение истины.[97]
Эти слова подводят нас к первому из трех миссиологических заключений по обсуждаемым вопросам.
Благо всего творения определяется нашим познанием Бога. Хочу еще раз повторить слова Бокэма: «Познание своего Творца-Бога необходимо человеку». Можно добавить: для блага всего творения необходимо, чтобы оно знало и славило Бога как своего Творца. Человеческий грех препятствует ему в исполнении своего главного предназначения, и это одна из причин, по которым все творение с нетерпением ожидает искупления человечества (Рим. 8, 19–21). Но ограничимся пока человеческим фактором: трудно переоценить тот факт, что познание Бога во всей полноте его божественной сущности – высшее благо для всякого существа, созданного по Божьему образу и подобию. Отказ от этого благословения или попытка удержать других от его приобретения лежит в основе всех прочих грехов, утверждает Павел в Рим. 1, 18–32. Напротив, познание Бога в любви и послушании – источник всякого добра и благоденствия (Втор. 4, 39–40). Сама жизнь, во всей ее вечной полноте, есть познание Бога и любовь к нему (ср. Втор. 30, 19–20; Ин. 17, 3). Мы созданы для этого, и ничто иное не являет Божью славу. «Главное предназначение человека, – удивительно емко и в полном соответствии с Писанием провозглашает Вестминстерское исповедание, – прославлять Бога и вечно наслаждаться общением с ним». Эти слова кратко передают главную задачу и благословение истинного познания Бога, а значит, и истинной сути человека. А поскольку цель миссионерского служения – поведать людям о Боге, оно несет благословение всем народам, ибо «Господь благ». Миссионерство – отнюдь не попытка навязать новое религиозное рабство и без того до крайности обремененному человечеству. Оно дает нам возможность разделить с ближними дарующее свободу познание единого истинного Бога, а «в этом познании – наша вечная жизнь».[98]
Благо всего творения определяется познанием библейского Бога человечеством. Это благословение приходит только с познанием живого Бога библейского монотеизма. Последний является необходимым условием успеха библейской миссии, которая несет людям библейское откровение живого Бога во всей полноте его личности, характера, деятельности и спасительного замысла. Мы говорим о своего рода библейской биографии Бога. Личностная и этическая природа библейского монотеизма не оставляет сомнений. Мы уже убедились, что простая вера в единственного Бога, – абстрактный монотеизм – не великое достижение. Ею отнюдь не ограничивался опыт Богопознания в событиях исхода и на Синае. Израилю предстояло не занятие по небесной арифметике, а познание личности и характера того, кто один вправе называться Богом-Яхве (Втор. 4, 32–40). Они узнали его как Бога справедливости, милосердия, святости, истины, чистоты, любви, верности и всевластия. Эти его качества стали темой их повествований, основой законодательства, камертоном для их поклонения, лейтмотивом их пророчеств и источником мудрости. И этот Бог обещал явить себя народам в самой монотеистической проповеди Ветхого Завета в облике Раба Господня, чья преданность идеям справедливости, милосердия, свободы и просвещения обернется для него страданиями и смертью за чужой грех (Ис. 42–53).[99] Все это исполнилось, когда трансцендентная уникальность Бога облеклась плотью и обитала с нами в человечности Иисуса, полной благодати и истины. Единственный вид монотеизма, «полезный» для человечества, – познание этого Бога. Вот почему Бог желает, чтобы мы знали его истинную божественную сущность.
В желании Бога явить себя народам – источник нашей миссии: поведать им о нем. Настойчивое желание Бога быть познанным предваряет и наполняет смыслом все усилия Божьего народа, чья задача – поведать о нем миру. Наша миссия вытекает из миссии самого Бога. В Ветхом Завете ясно говорится, что по замыслу Бога познание его, живого Бога, должно достигнуть всех народов, которые, согласно ветхозаветному свидетельству, с нетерпением ждут этого момента. В Новом Завете мы находим подробное описание самого процесса – апостольского благовестия о Мессии Иисусе, пославшего своих учеников проповедовать народам. Поэтому Павел называл себя «наставником язычников в истинной вере» (1 Тим. 2, 7; 2 Тим. 1, 11, перевод мой). «Цель служения язычникам в Новом Завете – признание ими истинного Бога и поклонение ему (1 Фес. 1, 9; Деян. 17, 23–29; Откр. 14, 7; 15, 4), и только потом их собственное спасение».[100]
Итак, все наши миссиональные усилия, направленные на повествование миру о Боге, должны предприниматься в контексте его собственного желания быть познанным. Мы стремимся к тому, чего хочет сам Бог. Эта мысль вселяет в нас одновременно уверенность и смирение. Она смиряет, напоминая, что все наши попытки оказались бы бесплодны, если бы Бог сам не пожелал открыться миру. Не в нашей власти начать осуществление этой миссии или решить, когда ее можно считать завершенной. Но со смирением приходит и уверенность. Ведь мы знаем, что за нашими слабыми усилиями и далеко не всегда эффективным общением стоит высшая воля живого Бога, который с любовью открывает себя людям, страстно желая даровать прозрение слепым и являя свою славу в сокровищах благовестия, обитающих в глиняных сосудах его посланников (2 Кор. 4, 1–7).
Библейский монотеизм предполагает постоянные христологические конфликты
Одно из самых простых априорных положений эволюционной теории религиозного развития человечества заключается в следующем: насколько бы долгим ни был путь той или иной культуры к высотам монотеизма, сам монотеизм обладает столь очевидной силой убеждения, что ни один народ не захочет вернуться к многобожию. Монотеизм похож на горное плато, с которого не захочет спуститься ни один мыслящий человек или культура. Эволюционный процесс предполагаемого религиозного взросления всегда считался необратимым.
Однако по аргументированному утверждению Бокэма, объяснением гораздо более беспорядочного состояния религиозной истории Израиля, представленной на страницах канонических Писаний, служит тот факт, что библейский монотеизм отнюдь не был той бесспорной аксиомой, которую, однажды познав, невозможно более отрицать. По свидетельству Ветхого Завета, его можно скорее сравнить с полем боя, где никогда не утихают конфликты.[101]
Переходя от Ветхого Завета к Новому, мы немедленно замечаем, что та же борьба сопровождает явление Иисуса Христа. Христоцентричный монотеизм вызывает не меньше сомнений и разногласий, чем исключительное положение Яхве в Израиле. Для мира не стало очевидным, что Иисус – единственный истинный Господь, Бог и Спаситель. Точно так же окружавшие Израиль народы не торопились признать Яхве единственным истинным Богом земли и неба, Творцом вселенной и Правителем всех населявших ее народов. Но ведь именно об этом призван был свидетельствовать Израиль, чью эстафету теперь приняла христианская миссия.
Таково одно из объяснений миссионального характера библейского монотеизма: это истина, о которой мы должны непрестанно свидетельствовать миру. Это уверенность, которая постоянно ставит перед нами апологетическую задачу, – правильно формулировать и аргументировать свое исповедание веры в живого библейского Бога обоих Заветов. По свидетельству Нового Завета, с самых ранних дней христианам приходилось бороться с отрицанием господства Христа вне церкви и с недопониманием различных аспектов личности и свершений Христа внутри нее самой. Сегодня, как и всегда, назвать Иисуса из Назарета единственным истинным Богом, Господом и Спасителем – значит оказаться вовлеченным в бесконечный миссиональный конфликт.
Но что именно означает уникальность Иисуса Христа? Некоторые считают этот термин слишком общим, допускающим неверное толкование и даже намеренное искажение его смысла. Конечно же, Иисус «уникален», с готовностью согласятся сторонники религиозного плюрализма. Каждая религия и ее лидер по-своему уникальны. Все они предлагают свое неповторимое мироощущение и уникальную возможность «спасительного контакта с Высшей божественной реальностью» (выражаясь языком плюралистов). Но в этом смысле Иисус уникален лишь как один из представителей своего «вида» – религиозных лидеров или «посредников в искупительном контакте с божеством». Он не более чем один (уникальный в значении «отличный от других») из множества способов выяснить для себя, кто же такой Бог. Поэтому рассуждения об уникальности Иисуса могут стать «троянским конем плюрализма». Пользуясь этим термином, можно спровоцировать неожиданные и нежелательные богословские идеи в умах тех, кто с радостью воспримет его, но лишь в описанном выше релятивистском понимании.
Тем большую значимость приобретают предпринятые нами в последних двух главах попытки точного определения библейского монотеизма. Мы особенно признательны Бокэму за его пояснения в вопросе уникальности Яхве. В Ветхом Завете Яхве, очевидно, не предстает перед нами в качестве уникального представителя многочисленного сонма богов. В своей, по выражению Бокэма, «трансцендентной уникальности» Яхве стоит sui generis, не зная себе равных, – единственный истинный Бог, Творец вселенной, Правитель, Судья и Спаситель народов. Новый Завет провозглашает то же относительно Иисуса из Назарета, говоря о нем в контексте той же исключительной трансцендентности на основании ветхозаветных свидетельств.
Итак, рассуждая об уникальности Христа с миссиологической точки зрения, мы не сравниваем его с основателями других великих религий. Речь идет не о том, чтобы выстроить их в ряд и по завершении сравнительного анализа прийти к выводу, что Иисус по тем или иным причинам оказался лучше остальных, или, во избежание соперничества, что «Иисус подходит мне лучше других». Наше исследование ведется в вертикальном направлении, прослеживая библейские корни личности, миссии и свершений Иисуса в уникальности Яхве, Святого Израилева. Христоцентричный библейский монотеизм носит глубоко миссиональный характер, поскольку он с равной уверенностью (оба утверждения, в конечном итоге, сводятся к одному) заявляет, что Яхве – Бог в небесах и на земле, и нет иного, кроме него; а Иисус – Господь, и нет иного имени под небесами, которым надлежало бы спастись человеку.[102]
Библейский монотеизм рождает хвалу
Я должен закончить эту главу тем, к чему подводит нас сам библейский монотеизм – доксологией, поклонением и песней хвалы великому Богу во имя Христа.
Книга Псалтирь на древнееврейском называется tĕhillîm, «Хвала». При этом многие ее главы относятся к так называемым псалмам скорби. Хвала в Ветхом Завете не ограничивалась благодарением и весельем, означая, прежде всего, признание реальности единого живого Бога в каждом дне жизни, в том числе и в ее скорбных моментах. Поэтому даже псалмы, пронизанные тревогой и печалью, как правило, завершаются хвалой. Да и в самой книге заметен переход от преобладающих в начале жалоб и прошений к исключительно хвалебным псалмам в заключительной части. В своей сердечной и одновременно весьма познавательной статье Патрик Миллер пишет:
Путешествие по Псалтири неизменно завершается хвалой Богу, звучание которой все нарастает… В этом есть особый богословский смысл, ведь именно в хвале и поклонении, как ни в одном другом человеческом действии, Бог виден во всей полноте и славе. Есть в этом и эсхатологический смысл, ибо заключительной нотой в конце времен будет исповедание и хвала Богу из уст всего творения.[103]
Итак, существует тесная связь между монотеистической динамикой иудейского вероучения и славным богатством израильского поклонения. Израильтяне знают Яхве как единственного истинного Бога и Спасителя, чье величие и верность открывают в душах людей источники хвалы. Поскольку нет иного Бога, кроме Яхве, в поклонении Израиля четко различим мотив универсальности. Она же, в свою очередь, неизменно предполагает: однажды все народы, все Божье творение откликнется на призыв прийти и поклониться живому Богу Израиля. В этом тоже есть оттенок миссиональности, даже в отсутствии четко выраженного миссионерского поручения. Подчеркивая эту мысль, Миллер показывает, что в поклонении Израиля сочетаются богословие и свидетельство, проповедь и ожидание вселенского обращения.
Богословский аспект хвалы в Ветхом Завете находит выражение в благоговейном повествовании о Боге. А призыв к обращению народов в проповеди имеет цель – привлечь как можно большее число людей в круг тех, кто поклоняется Богу. Возможно, не столь очевиден для многих читателей Ветхого Завета тот факт, что хвала Богу представляет собой наиболее значительное и широкое изложение того аспекта ветхозаветного богословия, который связан с обращением всех народов земли. Можно было бы даже говорить о миссионерстве, если бы это не наводило на мысль о необходимости привлечения людей в видимое сообщество Израиля и тем самым не искажало истину. Ведь дело совсем не в этом. И все же ветхозаветное прославление благодати и праведности Бога предвосхищает щедрое богатство новозаветной проповеди евангелия с призывом ко всем обратиться и следовать за Иисусом Христом.[104]
В конечном итоге, сила этой хвалебной проповеди распространяется не только горизонтально, достигая всех без исключения народов земли, но и вертикально, затрагивая все будущие поколения. Даже в отсутствие миссионерства, как способа достижения поставленной цели, широта этой стороны израильского поклонения придает ему откровенно миссиональный характер.
В поклонении Израиля звучит хвала Богу и свидетельство, свидетельство, призывающее все человечество прославить Бога и тем самым признать и поклониться Господу Израиля. Мы наблюдаем политическую и эсхатологическую направленность хвалебных песен Израиля с их настойчивой уверенностью в том, что господство Яхве распространяется на всю вселенную и, в конце концов, привлечет каждого человека к поклонению Богу Израиля. Призыв славить Бога – не просто одна из многочисленных тем Ветхого Завета. Он повсеместно встречается в Псалтири, где «вся земля» (Пс. 32, 8; 65, 1; 95, 1; 97, 1; 99, 1), «земля» (Пс. 96, 1), «острова» (Пс. 96, 1), «все живущие во вселенной» (Пс. 32, 8), «всякая плоть» (Пс. 144, 21) и «народы» (Пс. 46, 2; 65, 8; 66, 4; 148, 11; Втор. 32, 43) призваны непрестанно хвалить и благословлять Господа. У Второисаии такой аспект прославления очевиден (Ис. 45, 22–25). Однако им не ограничивается сила этого свидетельства в Пс. 21, 23–32. За пределами Израиля «поклонятся пред Тобою все племена язычников» (ст. 28). Но и это не исчерпывает бездонные глубины хвалы, ибо и умершие восхвалят Бога (ст. 30) вместе с еще не рожденными (ст. 31–32).[105]
Едва ли стоит добавлять, что и Новый Завет рисует ту же картину человечества и всего творения: славящих Бога в Иисусе Христе. Не будет преувеличением сказать, что в Европе церковь родилась из благовестия хвалы, если вспомнить Павла и Силу, воспевавших Бога в Филиппийской темнице (Деян. 16, 25; ср. 1 Пет. 2, 9).
В превосходном вступлении к своей книге «Ликуйте, народы» Джон Пайпер высказывает неожиданную мысль: «Главная цель церкви не миссионерство, а поклонение. Миссионерство существует только там, где нет поклонения».[106]
Прекрасно сказано и, конечно же, совершенно справедливо. Хвала будет главной реальностью нового творения, тогда как божественная миссия искупления всего творения, а значит, и наша собственная историческая миссия завершатся (хотя кто знает, какую миссию уготовил Бог искупленному человечеству в новом творении!). Поэтому миссионерство действительно существует лишь там, где еще не звучит хвала, ибо его задача состоит в убеждении тех, кто еще не славит живого Бога, присоединиться к хвалебному хору.
Но и в библейском смысле хвалу тоже можно считать причиной миссионерского служения. Церковное прославление придает телу Христову силы и решимости для осуществления своей миссии. Более того, служит постоянным и столь необходимым каждому из нас напоминанием о том, что наше служение – лишь послушный отклик и возможность участвовать в первоочередной миссии Бога, подобно тому, как наша хвала – отражение божественной реальности и его великих деяний. Хвала и прославление – образ жизни, приличествующий отношениям между Создателем и его творением. Итак, если наша миссия составляет часть нашего восприятия Творца, то и хвала должна быть неразрывно связана с ним.
В четырнадцатой главе мы вернемся к универсальному характеру и миссиональной значимости многих псалмов. Сейчас достаточно завершить исследование в этой и предшествующей главах следующим наблюдением. Среди содержащихся в Библии многочисленных моделей миссионерского служения (в дополнение к армейским моделям, которыми мы уже склонны злоупотреблять) выделяется образ новой песни, воспеваемой для народов земли. Миссионерство приглашает все народы услышать музыку будущего с Богом, чтобы уже сегодня танцевать ей в такт. Как напоминает нам Пс. 95,
• в новой песне звучат старые слова, ведь она прославляет деяния Божьи, совершенные им для своего народа (Пс. 95, 1–3);
• новая песнь свергает с пьедестала старых богов, чьи прежние поклонники должны теперь прийти с хвалою в Господни дворы (Пс. 95, 4–9);
• новая песнь преображает старый мир в долгожданную праведность и радость Божьего царства (Пс. 95, 10–13).
Монотеизм носит миссиональный характер, потому что пробуждает хвалу во всей вселенной – хвалу единому живому Богу, которого мы познаем в благодати, суде и прежде всего – в Мессии.
Итак, истоки миссиональной природы христианского монотеизма не в империалистическом религиозном угнетении коренных народов или в полувоенном триумфаторстве (хотя в разные эпохи оно нередко оказывалось заражено этим вирусом). Его истоки в ветхозаветных корнях нашей веры и веры древних израильтян в единственного живого и истинного Бога, чья миссия любви легла в основу избрания Израиля и миссионерского служения церкви. Так настойчиво было его желание благословить все народы, что он избрал Авраама. Так сильна была его любовь, что он послал в мир своего единственного Сына. Только этот Бог и никто иной во Христе примирил с собою мир. Этот Бог доверил служение примирения тем, кого Иисус назвал «свидетелями моими… до концов земли». Такова миссионерская природа библейского монотеизма.
96
Bauckham, Bib le and Mission, p. 37.
97
Ibid.
98
Из второй коллекты за мир в «Правиле утренней молитвы», Книга общих молитв.
99
Об этом см., в частности, Millar C. Lind, «Monotheism, Power and Justice: A Study in Isaiah 40–55», Catholic Biblical Quarterly 46 (1984): 432-46.
100
Bauckham, Bib le and Mission, p. 40.
101
Позволю себе еще раз напомнить: под «библейским монотеизмом» я понимаю реальное признание израильтянами трансцендентной уникальности Яхве, а не абстрактные конструкции Просветителей.
102
Более полно я рассматриваю эти аспекты уникальности Иисуса в контексте религиозного плюрализма в следующей работе: Christopher J. H. Wright, The Uniqueness of Jesus (London and Grand Rapids: Monarch, 1997).
103
Patrick D. Miller Jr., «'Enthroned on the Praises of Israel': The Praise of God in Old Testament Theology», Interpretation 39 (1985): 8.
104
Ibid., p. 9.
105
Ibid., p. 13.
106
John Piper, Let the Nations Be Glad! The Supremacy of God in Missions, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 1993), p. 17.