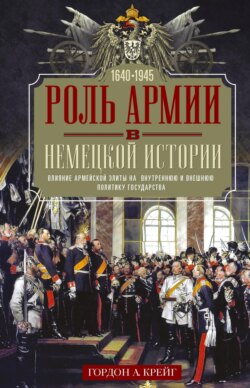Читать книгу Роль армии в немецкой истории. Влияние армейской элиты на внутреннюю и внешнюю политику государства, 1640–1945 гг. - - Страница 3
I. Армия и государство, 1640-1807
Роль армии в создании прусского государства от Великого курфюрста до Фридриха II
ОглавлениеВ своей «Немецкой истории» Франц Шнабель писал, что учреждение прусского государства является величайшим политическим достижением в истории Германии, тем более что благоприятные географические условия, помогшие сформировать другие национальные образования, в случае владений Гогенцоллернов полностью отсутствовали6. Земли, составившие ядро современной Пруссии, в XVII веке были беспорядочно разбросаны по пяти параллельным потокам, протекающим по Северной Германии. Между Равенсбергом и Марком, курфюршеством Бранденбург и Восточной Пруссией не существовало никакого естественного соединения, а в смутных и изменчивых политических условиях той поры не было оснований предполагать, что слабые связи, объединявшие их с династией Гогенцоллернов, могли долго сохраняться. То, что они сохранились, и то, что разрозненные фрагменты территории соединились не только в жизнеспособный политический союз, но также в союз, признанный великой европейской державой, явилось результатом двух факторов: политической воли и прозорливости правивших после 1640 года Гогенцоллернов, а также эффективности созданной ими армии.
Когда Фридрих Вильгельм, впоследствии прозванный Великим курфюрстом, в 1640 году взошел на трон Бранденбурга, он столкнулся с условиями, вполне способными привести в отчаяние. Религиозные войны, опустошавшие германские земли с 1618 года, свели власть курфюрста над своим королевством до минимума. В эпоху войны отец Фридриха Вильгельма совершил роковую ошибку, полагаясь в безопасности на дипломатическую ловкость. Его метания между обдуманным нейтралитетом, вялыми союзами со шведами и, наконец, вынужденной поддержкой дела католиков были столь же недостойными, сколь и неэффективными, и, в конце концов, его ненадежность просто раздражала силы, которые он стремился умилостивить. В результате его правление закончилось тем, что его владения в Рейнской области были окружены голландскими и испанскими армиями, провинция Восточная Пруссия находилась в состоянии открытого недовольства и даже сам Бранденбург, за исключением Берлина и нескольких крепостей, оказался под иностранной оккупацией.
Таким образом, новый правитель унаследовал государство, которое, казалось, вот-вот распадется, однако, признавая серьезность ситуации, он не испугался ее. Тем не менее безжалостный реализм, которым поневоле характеризовалось все его политическое мышление, убедил его в том, что пришло время полностью порвать с политикой прошлого. Он считал, что Гогенцоллерны не смогут защитить свое наследие, продолжая полагаться на дипломатические маневры и переменчивые союзы. «Союзы, – напишет он годы спустя, – конечно, хороши, но собственные силы еще лучше. На них можно положиться с большей безопасностью, и властитель не имеет значения, если у него нет собственных средств и войск»7. Ключ к безопасности лежал в военной силе, и курфюрст намеревался создать надежную военную структуру. С самого начала военная проблема тесно переплеталась со всеми вопросами государственного управления и местной политики. Военная слабость курфюрста в начале царствования во многом вызывалась стремлением жестоковыйных ландтагов отдельных провинций защитить вырванные ими у прежних сюзеренов привилегии. Главной из них был контроль над налогами. Курфюрст зависел от ландтагов Бранденбурга, Клева, Марки и Восточной Пруссии в плане средств, которые он мог платить чиновникам и войскам, и, несмотря на требуемые войной чрезвычайные расходы, ландтаги не желали уступать привилегий, вырванных у прежнего правителя вследствие его неразумной щедрости. Их ассигнования были так скудны, что в 1640 году единственными имевшимися в распоряжении курфюрста войсками были несколько тысяч наемников и перебежчиков из других армий – ландскнехтов низшего пошиба, неспособных к боевым действиям против организованных сил и терроризировавших провинции, которые они призваны были защищать8. Для замены их надежной армией требовалось согласие земельной знати, а учитывая ее прежнее поведение, было сомнительно, чтобы его удалось добиться.
Однако именно эту задачу поставил перед собой курфюрст и, в конце концов, ее решил с революционными политическими последствиями. Он начал с жеста, который не мог не умилостивить ревнивые сословия Бранденбурга, продолжив безжалостно устранять из своих существующих сил все непокорные элементы. В первые годы царствования он избавился от всех нежелательных и непригодных, и всех мятежных полковников, шантажировавших жителей городов-крепостей, арестовали или отправили в ссылку, а самых некомпетентных иностранных наемников уволили. Остался крошечный отряд в 2500 человек, но это было ядро постоянной армии будущего. Помещики, благодарные за освобождение от военной анархии, проявили готовность предоставить средства, необходимые для оснащения этих сил и даже для увеличения их численности, и курфюрст воспользовался этим настроением, чтобы быстро нарастить свою армию в последние годы Тридцатилетней войны. В 1648 году у него под ружьем стояло 8000 человек, и наличие этих войск явилось немаловажным фактором в обеспечении уступок, сделанных Бранденбургу в Вестфальских договорах9.
По окончании войны к ландтагам вернулась подозрительность, характерная для их отношений с правителем в прошлом, и в течение следующих тридцати лет они часто требовали существенного сокращения армии. Однако благодаря сочетанию своевременных уступок, продуманных уверток и скрупулезной экономии курфюрст смог продолжить свою политику военной экспансии без серьезных помех, пока не окреп достаточно, чтобы бросить вызов своим критикам и уничтожить центры их сопротивления. Ключом к его успеху в этом отношении явился знаменитый договор, который он заключил со своим бранденбургским ландтагом в 1653 году. В обмен на субсидию в размере 530 000 талеров, подлежащую выплате в рассрочку в течение шести лет, курфюрст предоставил безграничную власть крупным землевладельцам, самым непримиримым своим противникам. Поместья этих так называемых юнкеров он из феодов, дававшихся «в награду за военные и иные заслуги», преобразовал в аллоды, находившиеся в их полной собственности. Устранив правовые ограничения, связывавшие юнкеров в прошлом, он признавал их единственным сословием, которое вправе приобретать землю, и подтвердил и закрепил привилегии, которые они требовали у его предшественников, наподобие освобождения от налогообложения и права контролировать жизнь своих крестьян. Наконец, он особо признал их власть в местных делах и их право считаться господствующим классом во всех вопросах, касавшимся государства в целом10.
К социальным и политическим последствиям этой договоренности придется вернуться позже. Прямым значительным результатом компромисса 1653 года было то, что он дал курфюрсту желаемую армию. Верно, что средств, предоставленных в 1653 году, хватило для содержания лишь скромного войска, скорее всего не превышавшего 5000 человек, однако это был фундамент, на котором можно было строить, а то, как быстро и эффективно курфюрст умел строить, если ему предоставлялась возможность, он продемонстрировал, когда в 1655 году вспыхнула война между Швецией и Польшей. Указав на присущие этому конфликту явные опасности, Фридрих Вильгельм повелел своим агентам начать набор дополнительных сил, как в Бранденбурге, так и в княжествах Нижнего Рейна, и созвал восточнопрусское ополчение. От протестов бранденбургских ландтагов, не имевших никакого желания выделять средства на защиту иных провинций, кроме собственной, он бесцеремонно отмахнулся и начал вводить различные чрезвычайные налоги для содержания новобранцев11. При такой поддержке его армия быстро росла. К сентябрю 1655 года у него под ружьем стояло восемь тысяч человек, к июню 1656 года – 22 000 человек, а к моменту, когда в 1660 году Оливский мирный договор положил конец боевым действиям, – 27 000.
По мнению Курта Яни12, постоянная армия Пруссии зародилась во время войны 1655–1660 годов. После 1660 года ее размеры сократились, но сокращения никогда не были такими значительными, как прежде13, и курфюрсту и его преемникам больше никогда не приходилось при столкновении государства с чрезвычайной ситуацией создавать военные силы практически с нуля. Между 1660 и 1672 годами курфюрст сумел сохранить от 7000 до 12 000 человек войска. Ради пополнения этих сил он проводил политику назначения на государственные должности ушедших в отставку после 1660 года высших офицеров, а демобилизованным солдатам давал земельные участки в своих королевских владениях, тем самым создавая своего рода обученный резерв, который подлежал призыву во время войны. После 1672 года, когда экспансионистские цели Людовика XIV вовлекли европейские державы в длинную серию войн, армия Фридриха Вильгельма снова начала расти, а благодаря умению курфюрста истребовать значительные субсидии от союзников – более быстрыми, чем прежде, темпами. Курфюрст также больше не был склонен идти на уступки провинциальным ландтагам, сопротивлявшимся быстрому увеличению его войска. Со своими бранденбургскими ландтагами у него после 1653 года особых проблем не возникало – действительно, с того года общего собрания крупных ландтагов больше не существовало. Владения Клев и Марк, а также земли Восточной Пруссии он теперь подчинил себе, угрожая исполнить свои указы военной силой. К 1661 году он принудил свои рейнские провинции признать за ним право набирать и содержать войска в пределах их границ, а к середине 1670-х годов его власть не подвергалась сомнению и в Восточной Пруссии.
Когда в 1688 году курфюрст умер, он оставил армию, численность которой оценивалась примерно в 30 000 человек. Эта армия с 1640 года претерпела радикальные изменения. Старая система наемничества, при которой полковники заключали контракты на поставку правителю полков оговоренной численности, но не допускали его вмешательства в управление и командование своими войсками, в ходе правления Великого курфюрста постепенно видоизменялась. Были сделаны первые шаги к современной системе централизованного управления армией. В 1655 году курфюрст передал барону фон Шпарру общее командование всеми войсками в землях Гогенцоллернов – шаг, который, как минимум, теоретически объединил дотоле не скоординированные провинциальные силы, и под руководством Шпарра возник своего рода генеральный штаб, придававший этой концепции унификации некоторое практическое значение в вопросах командования14. Одновременно деятельность Клауса Эрнста фон Платена, назначенного во время шведской войны генерал-кригскомиссаром с полномочиями общего руководства такими вопросами, как мобилизация, пополнение кавалерии лошадьми, снабжение и расквартирование армии, ее оплата, запасы и склады боеприпасов, взимание налогов внутри страны и контрибуций за границей, также быстро способствовала унификации в армии курфюрста15. В результате этих мер авторитет полковников неминуемо упал. Все чаще курфюрст стремился избегать индивидуальных контрактов (Kapitulationen) с отдельными командирами, постепенно он урезал права полковников назначать младших офицеров и заложил основу системы, в которой все офицеры подчинялись правителю как главнокомандующему армией16. Наконец, он попытался – хотя и с куда меньшим успехом, чем можно себе представить, читая клейстовского «Принца Фридриха Гамбургского», изменить мировоззрение своих офицеров и убедить их считать себя не столько спекулянтами и коммерсантами, сколько слугами государства.
Эти усилия в направлении централизации при всей их незавершенности отразились на повышении эффективности на поле боя. Во время правления Великого курфюрста бранденбургско-прусская армия не только продемонстрировала способность защищать территории своего правящего дома, но и своими победами под Варшавой и Фербеллином завоевала внимание и уважение великих держав Европы, этот факт адекватно доказан рвением, с которым ее помощи искали в последние годы курфюрста. Вследствие обескураживающих перемен дипломатических коалиций того периода более ощутимых преимуществ ему получить не позволили, однако, когда в январе 1701 года его сын короновался как король Пруссии, неспособность ни одной из великих держав оспорить новый титул стала запоздалым признанием возросшего авторитета государства Гогенцоллернов и подтверждением убеждения Великого курфюрста в том, что только военная мощь способна сделать правителя уважаемым.
Урок его преемники не забыли. Сын Великого курфюрста обычно считается слабым правителем, и, разумеется, его любовь к церемониалам и показухе вызывала насмешки подданных и обескураживала распорядителей его доходов. Но этот первый прусский король тем не менее почитал реальность, а также внешние атрибуты власти, он признавал армию оплотом своей власти и постепенно увеличивал ее численность, пока она не достигла уровня 40 000 человек. И когда в 1713 году на престол взошел его сын, выдающийся Фридрих Вильгельм I, рост армии стал первой целью его политики.
Как и Великий курфюрст, Фридрих Вильгельм I считал, что международное положение князя полностью определяется количеством войск, которые он способен содержать. «Я могу лишь посмеяться над негодяями, – сказал он однажды, имея в виду некоторых министров своего отца, – которые говорят, что получат землю и людей для короля пером, однако я говорю, что их можно добиться только мечом, в противном случае ничего не выйдет»17. Позже при любом удобном случае он внушал эту истину своему сыну. «Фриц, помяни мои слова, – сказал он в 1724 году, – всегда держи большую боеспособную армию, у тебя не будет лучшего друга, и без этого друга тебе не выжить… Поверь мне, тебе нет смысла думать о воображаемом, сосредоточься на реальном. Имей деньги и хорошую армию, они обеспечат правителю славу и безопасность»18.
Действуя в согласии со своими собственными принципами, Фридрих Вильгельм с самого начала царствования направил всю свою энергию на задачу увеличения численности и боеспособности армии и одновременно на ее освобождение от той зависимости от иностранных субсидий, которая в периоды предыдущих правлений вовлекала Гогенцоллернов в войны не всегда отвечающие их интересам. Проводя политику самой жесткой экономии, при которой прусское государство ежегодно тратило на армию в четыре-пять раз больше, чем на все другие статьи расходов, Фридрих Вильгельм увеличил размер своих вооруженных сил с 40 000 до 83 000 человек, тем самым сделав прусскую армию четвертой по величине в Европе, хотя государство занимало только десятое место по территории и тринадцатое по населению19.
Этот значительный рост сопровождался коренными изменениями в структуре и личном составе армии и ее командования. Самым большим источником беспокойства короля в первые годы правления был личный состав. Фантастическая суровость прусской дисциплины способствовала дезертирству. Каждый год этого правления число беглецов из армии составляло не меньше 400 человек, а общее число дезертиров между 1713 и 1740 годами равнялось 30 216 человекам. Более существенными источниками истощения были возраст и болезни, ежегодно приводившие к увольнению 20 процентов боеспособного состава. Вскоре король понял, что не может надеяться возместить эти потери, полагаясь на добровольцев. Поэтому в ранние годы он все чаще прибегал к насильственной вербовке подданных и рекрутскому набору – а также рекрутскому набору, временами неотличимому от похищения людей, – в соседних государствах. Однако результаты этого едва ли оказывались удовлетворительными. Мало того что король был постоянно вовлечен в споры с другими правителями, которые возмущались нарушением их прав, он и в своих собственных землях столкнулся с растущим общественным негодованием и – что, вероятно, сильнее тревожило его бережливую натуру – с увеличением эмиграции, которая оказала пагубное влияние на экономику государства20.
Фридрих Вильгельм I стремился преодолеть эти трудности, сделав службу в постоянной армии юридически обязательной для всех своих подданных. Обязанность защищать страну в чрезвычайных ситуациях посредством службы в местных ополчениях была принята еще со времен Тридцатилетней войны и получила юридическую силу в соответствии с постановлением 1701 года. Однако система ополчения никогда не применялась регулярно, временные формирования как резерв для постоянной армии были неэффективны, а зачисление в ополчение слишком часто служило предлогом для уклонения от службы в регулярных войсках. По этой причине Фридрих Вильгельм в первый год своего правления упразднил существующие организации ополчения и одновременно постановил, что любой, кто покинет королевство, чтобы избежать службы в регулярной армии, будет считаться дезертиром. По внутреннему смыслу этот декрет устанавливал принцип всеобщей воинской повинности21.
В течение следующих двадцати лет другие распоряжения упорядочили процедуру рекрутчины, кульминацией стали указы 1732–1733 годов, установившие основные черты того, что получило название прусской кантональной системы. Каждому полку в армии назначался определенный призывной округ или кантон, все юноши округа зачислялись в полковой рекрутский список, а когда квоты не удавалось заполнить посредством добровольного зачисления, нехватка компенсировалась за счет подходящих кандидатов в списках.
Хотя все последующие приказы о кантонах подтверждали всеобщую воинскую повинность и хотя эта повинность стала общепринятой в обычном праве, ни Фридрих Вильгельм I, ни его преемники не пытались сделать что-либо близкое к всеобщему призыву прусских подданных. На практике делались либеральные исключения в интересах торговли, промышленности и государственной службы, вся высшая прослойка общества, включая наиболее зажиточных ремесленников и рабочих на предприятиях, представляющих интерес для государства, от повинности освобождалась, а бремя это легло почти исключительно на батраков и менее зажиточных крестьян22. Более того, даже этим призывникам предоставлялись весьма щедрые отпуска. В целях охраны интересов крупных землевладельцев крестьян-призывников каждую весну после двухмесячной строевой подготовки освобождали от действительной службы, и, таким образом, в мирное время армия в полном составе существовала только в апреле и мае23.
Даже при таком ограниченном применении кантональная система была заметным нововведением. Это обеспечило армии то, что фактически представляло собой большой обученный резерв, который можно было быстро мобилизовать в случае необходимости. Это также произвело важное изменение в самом характере военного строительства, поскольку, несмотря на большое количество иностранных наемников на службе, армия теперь, по крайней мере во время войны, должна была быть преимущественно национальной по составу. Наконец – и это не менее важно – общепринятая конвенция о всеобщей воинской обязанности послужила необходимой основой для полной реорганизации прусской армии, воплотившейся в жизнь в наполеоновский период24.
Столь же важной, как и кантональная система, была успешная попытка короля убедить пойти на службу в армию свою знать. В гордых и свирепых баронах своих походов он узнавал воинские доблести, в которых нуждалось государство, и ясно понимал, что эти сельские лорды были естественными вождями крестьянских юношей, подлежащих теперь военной службе. Одной лишь муштрой и дисциплиной людей в армию не сплотить. Как писал Хинтце, фундамент должен быть подготовлен «устойчивыми идеями и концепциями, наследуемыми и культивируемыми и подтвержденными традицией»25. Чтобы интегрировать сельские массы в свое войско, Фридрих Вильгельм полагался на своих юнкеров, чья служба в офицерском корпусе эффективно внедряла в армию отношения между офицером и солдатом, подобные традиционным отношениям в сельском обществе.
Примирение аристократии с короной началось при Великом курфюрсте, путь к нему открыл компромисс 1653 года. Тем не менее, несмотря на личный престиж курфюрста и преимущества, которые он желал предложить, поступившие к нему на службу дворяне продолжали сопротивляться, в особенности в Восточной Пруссии, и Фридрих Вильгельм I решил это сопротивление преодолеть по причинам как политического, так и военного порядка.
«Я разрушу власть юнкеров, – сказал он однажды, – и утвержу самодержавие как незыблемую опору»26. В начале своего правления он запретил дворянам поступать на дипломатическую службу. В то же время он приказал составить списки всех молодых дворян в возрасте от 12 до 18 лет и на их основании лично отобрал тех, кого следовало принять в кадетский корпус в Берлине, служивший воротами к офицерскому званию. Какое-то время эта практика встречала ожесточенное сопротивление, в особенности в Восточной Пруссии, где кое-кто из незадачливых кандидатов пытался доказать, что они не принадлежали к прусской знати и, следовательно, непригодны для службы, в то время как другие искали спасения в бегстве. Но король не терпел подобных уверток и не гнушался посылать полицейских агентов или войсковые отряды, чтобы схватить предполагаемых офицеров и группами доставить их в Берлин.
К 1724 году во владениях Гогенцоллернов практически не было дворянской семьи, у которой сын не состоял бы в офицерском корпусе, а к 1740 году свою личную битву король выиграл. Скорее всего, не столько в результате готовности применить силу, сколько солидных преимуществ, которые он давал своей знати. Сыновьям семей, за душой у которых иногда гордости в наличии было больше, чем денежных средств, он предлагал образование, уровень жизни выше, чем тот, на который они могли бы рассчитывать в противном случае, возможность подняться до высоких военных и политических постов и непревзойденное социальное положение в государстве. Им предлагались и менее осязаемые, но, разумеется, не менее привлекательные преимущества связи с королем в почетном призвании на условиях полного социального равенства. В новом офицерском корпусе Фридрих Вильгельм носил такой же мундир, как и его капитаны и лейтенанты, за единственным исключением генералов ни один офицер не надевал знаки различия воинских званий, а правитель и его дворяне составляли закрытое общество, регулируемое законами профессиональной компетентности и феодальной чести. Неудивительно, что дворянство находило эту атмосферу близкой по духу и начинало считать службу, на которую пошло с неохотой, своей естественной профессией27.
В то время как система кантонов и мобилизация дворянства для военных целей дали его армии национальную основу, которой у нее не было раньше, Фридрих Вильгельм продолжал следовать курсу, столь проницательно намеченному Великим курфюрстом, и продвигал единообразие и централизацию своих вооруженных сил. Форма и оружие были тщательно прописаны королем и его советниками. В 1714 году сам Фридрих Вильгельм написал самый первый всеобъемлющий пехотный устав, когда-либо изданный для армии, набор инструкций, который отныне регулировал каждый этап жизни солдата в гарнизоне и на поле боя. Изложенные в нем приемы обращения с оружием и тактические перестроения, а также бесконечная муштра, с которой они прививались войскам, придали пехоте Фридриха Вильгельма дотоле неведомые континентальным армиям гибкость и верность в маневрах и одновременно придали огню быстроту и точность, прославившие прусские армии во всей Европе при преемнике Фридриха Вильгельма28.
Несмотря на всю важность, которую Фридрих Вильгельм придавал обладанию армией, применял он ее очень неохотно и тщательно избегал авантюр, способных поставить под угрозу безопасность любимых гренадеров. Не то что его сын. Еще до восшествия на престол принц, вошедший в историю как Фридрих Великий, раздражался бездеятельностью Пруссии и стыдился того, что, несмотря на ее силу, страну считают простой пешкой на европейской шахматной доске29. В своих самых ранних работах он ясно дал понять, что образ Пруссии (la figure de la Prusse) необходимо исправить, если Пруссия хочет «стоять на собственных ногах и прославить имя своего короля»30. В своем нынешнем состоянии Пруссия все еще оставалась гермафродитом, более курфюршеством, нежели королевством31, ее обширные провинции выказывали открытое приглашение для иностранной агрессии, требовалась консолидация, однако произвести ее возможно только за счет новых приобретений, а новые приобретения непременно повлекут за собой применение силы. Если это так, то Пруссия должна воспользоваться первой же представившейся возможностью, и Фридрих нашел ее в восшествии в 1740 году на австрийский престол Марии Терезии, проигнорировав юридические возражения своих министров или сомнения своих военных советников. Как другой великий воин прошлого, он вполне мог бы сказать:
Или судьба его слишком страшит,
Или о доблести он стал забывать,
Дабы отважиться выхватить меч
И победить или все потерять.
В 1740 году, бросая войска через границы Силезии и положив начало опустошительному конфликту, Фридрих рисковал ни больше ни меньше, как полным разрушением своего государства. Тем не менее, завоевав Силезию и доказав свою способность ее удержать, он разрушил старое германское установление и поднял Пруссию до положения фактического равноправия с Австрией.
Войны Фридриха Великого завершили созидательную работу Великого курфюрста и Фридриха Вильгельма I, одновременно испытав усовершенствованное оружие и достигнув цели, для которой оно ковалось. «Двенадцать кампаний эпохи Фридриха, – пишет Трейчке, – навсегда запечатлелись в воинственном духе прусского народа и прусской армии, даже сегодня северный немец, зайди речь о войне, невольно прибегает к выражениям тех героических дней и, как Фридрих, рассказывает о „блестящих кампаниях“ и „молниеносных атаках“»32. Армия, столь методично взращенная Великим курфюрстом и Фридрихом Вильгельмом I, показала себя и одновременно стяжала дух и создала традицию, призванную поддерживать ее во всех переменах грядущего столетия33. В огне Семилетней войны примирение между королем и его знатью окончательно завершилось, и офицерский корпус стал воплощением духа преданности короне и государству, а простой пехотинец обрел сознание своих возможностей, которые, переданные преемникам, сделают прусские войска лучшими в Европе. Наконец, достижения армии увенчали успехом процесс, начатый в 1640 году, произвели коренное изменение в европейском балансе сил и, вне всяких сомнений, закрепили за Пруссией статус великой державы.