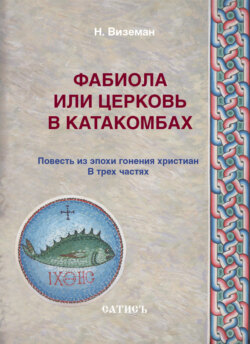Читать книгу Фабиола или Церковь в катакомбах. Повесть из эпохи гонения христиан - - Страница 5
Часть первая
Мир
III
Самопожертвование
ОглавлениеДень уже клонился к вечеру. Во время этого разговора незаметно вошла немолодая женщина, она зажгла мраморные светильники, свечи в бронзовых подсвечниках и так же тихо удалилась. Яркий свет от ламп осветил лица матери и сына, все еще находившихся под впечатлением рассказанного; матрона Люцина запечатлела на челе сына горячий поцелуй, в котором заключалось не одно простое чувство материнской любви, но и ее радость и торжество. Конечно, она радовалась не тому, что воспитала сына в такой строгой дисциплине, а тому, что он, подвергшись тяжкому испытанию, перенес его с такой богатырской силой и стойкостью, редкими в таких молодых летах; чувство это можно было назвать высшим чувством матери, представлявшей свое сокровище на удивление римлянам. Да, эта женщина-христианка могла бы похвастаться этим сокровищем, обогатившим церковь, но в эту минуту ей овладела более глубокая мысль, которую она лелеяла в своем сердце многие годы, – мысль, внушенная ей свыше и снизошедшая в самых горячих молитвах матери. Дело в том, что многие благочестивые родители посвящали своих сыновей святому служению и постоянно молились о том, чтобы Господь помог им воспитать своих детей беспорочными Левитами; они следили за их юношескими склонностями и с самоотвержением приносили их в жертву Богу, которому они посвящали их с колыбели. А если этот сын был единственным ребенком, как Самуил был единственным сыном Анны, то приношение в жертву Богу того, что было дорого для сердца матери, действительно можно назвать великим подвигом… Что можно сказать после этого о святых матерях детей-мучеников, о тех женах в древности: Фелицате, Симфорозе или известной матери Маккавеев, которые воспитывали своих детей не для единого возведения их в сан священников, но и для принесения в жертву Богу!
Такие именно мысли овладевали сердцем Люцины в ту самую минуту, когда она с закрытыми глазами возносила свои молитвы к Богу и просила Его о поддержке. Она чувствовала себя способной на самопожертвование и лишение того, что ей было дорого на этом свете; она давно предвидела опасность и желала пожертвовать своим сыном… Но, прежде всего она была человек и любящая мать, которой было не легко решиться на такой подвиг без боли в сердце…
А что происходило в сердце юноши, который так же молчал и призадумался в данную минуту, как и его мать? Не думал ли он о блистательном будущем? Не видел ли он в своем воображении того колоссального храма базилики, который спустя 1500 лет, начал посещаться христианскими археологами и благочестивыми паломниками? Не видел ли он и тех врат, которые теперь называют именем этого святого юноши[6]; не чувствовал ли он, что в недалеком будущем станут сооружать святыни на берегах Темзы, посвященные его имени, – святыни, которые даже после святотатственного уничтожения их, сделаются излюбленным местом усыпальниц правоверных христиан[7]? Нет, он не подозревал о том серебряном ковчеге, весящем 287 фунтов и поставленном на порфирной урне папой Григорием I, в которой должен был храниться его прах; он не думал, что его имя будет записано на страницах деяний мучеников. Нет, он был только невинным ребенком, считающим себя обязанным быть послушным Богу и Его Евангелию. Он чувствовал себя совершенно счастливым, потому что в этот день исполнил свою чрезвычайно трудную обязанность. Он не гордился этим; не удивлялся тому чувству, которое овладело им, иначе победа эта не могла бы считаться полной.
После некоторого молчания он поднял свои глаза на свет, заливавший всю комнату, и встретился с взглядом матери, обращенном к нему с такой любовью, какой он до настоящего времени не замечал. Ее взор казался необыкновенно вдохновенным; лицо похоже было на лицо пророчицы, а глаза – на те, какие он привык представлять себе у ангела.
В виду этого, молодой человек, молча, встал перед матерью на колени; он видел того духа, который парил над нею и охранял ее от всякого зла; видел в ней то неземное существо, которое руководило его добродетелью… Но вот, Люцина прервала тягостное молчание и серьезно сказала:
– Наконец, настало то время, мое дитя, которое служило предметом усиленных молитв и горячих желаний твоей матери. Я давно замечала в тебе зародыш христианской добродетели и благодарила за нее Бога. Я видела твои труды, благочестие, любовь к Богу и людям; смотрела с радостью на твою живую веру, равнодушие к внешнему виду, благородное чувство к бедным; я с беспокойством ожидала того момента, который бы решительно указал мне на твое желание идти по следам твоей матери и быть достойным наследником славы твоего отца-мученика, и эта минута, слава Богу, сегодня настала.
– Что же я сделал достойного, моя дорогая мама, что у тебя явилось такое высокое мнение обо мне? – спросил Панкратий.
– Послушай, мой сын, сегодня, когда заканчивается твое воспитание, мне кажется, что Господь хотел просветить тебя тем святым учением, которое стоит выше всяких школьных наук и доказать этим, что ты перестал быть ребенком; поэтому, не должен ли ты, мое дорогое дитя, имея такие способности, думать, говорить и делать так, как это делают истинные служители Церкви?
– Что ты хочешь этим сказать, дорогая мать?
– То, что ты сказал мне сегодня о своем сочинении, доказывает, насколько твое сердце было преисполнено благородных и высоких чувств; ты чрезвычайно откровенно высказал, что умереть за веру считаешь своею святою обязанностью. Если бы у тебя не было веры и отваги…
– Действительно, я сильно верую и много чувствую, – прервал ее юноша, – и поэтому заключаю, что никакое счастье на земле не может быть выше этого.
– Да, дитя мое, – сказала мать, – ты прав, но я бы не помирилась на одних твоих словах, если бы ты не доказал того, что ты умеешь отважно и терпеливо переносить не только боль сердца, но и обиду, – что гораздо труднее для человека, в жилах которого течет кровь патриция, – обиду, заключающуюся в оскорбительной пощечине и презрительных взглядах твоих сотоварищей. Более… ты оказался настолько сильным, чтобы простить и молиться за своего врага. Сегодня, с тяжелым крестом на плечах, ты проторил себе такую тропинку, на которой, сделав еще несколько шагов, ты водрузишь этот крест на вершине своего величия. Ты оказался достойным сыном мученика Квинтиниана, но желаешь ли ты идти далее по его следам?
– Ах, дорогая мама! – прервал ее юноша замирающим голосом, – могу ли я быть его достойным сыном, не подражая ему! Хотя я не имел счастья знать своего отца, но разве его память не дорога мне? Разве его слава не льстит моему самолюбию? Когда церковь каждый год празднует память Квинтиниана, разве душа моя не возвышается и сердце не восхваляет его? О, мать моя, как я всегда молюсь ему, чтобы он испросил мне у Бога не славы, не почестей, не богатства и земных радостей, но того, что он проповедовал и ценил выше всего, то есть, чтобы то, что он оставил мне в наследство, было употреблено мною с пользой для самого себя и для других самым благородным образом.
– Что ты под этим подразумеваешь, мой сын?
– Кровь его, – отвечал юноша, – которая течет в моих жилах. Наверно, он желает, чтобы эта кровь, как ровно и та, что текла в его жилах, была пролита из любви к нашему Спасителю и свидетельствовала о моей вере во Всемогущего Бога.
– Довольно, довольно, мой сын! – воскликнула мать, задрожав и бледнея. – Теперь сними с шеи эту эмблему детства, – прибавила она, – и я возложу на тебя более достойную.
Панкратий снял с шеи золотую буллу.
– Ты получил в наследие от отца благородное имя, высокое положение в свете и немало богатства, словом, все блага нынешнего света, но из всего этого наследства у меня есть сокровище, которое я сохраняла до настоящей минуты… Эта драгоценность дороже злата и всех других сокровищ, я всегда скрывала ее перед тобой. Но теперь я радуюсь, что, наконец, кончилось мое долгое ожидание. С этими словами она сняла с шеи золотую цепь, и в первый раз ее сын увидел маленький мешочек, богато вышитый драгоценными каменьями, который Люцина развязала и вынула из него губку, пропитанную кровью.
– Это кровь твоего отца, Панкратий, – сказала она подавленным голосом, и на ее глаза навернулись слезы, – я сама собрала ее со смертельной раны его, когда стояла подле него переодетой и видела его умирающим за веру Христову.
При этом римская матрона начала осматривать дорогую реликвию и, горячо поцеловав ее, между тем, как обильные слезы потекли на засохшую губку и размочили кровь, которая заблистала пурпуром на ней, словно только что вытекла из тела мученика. Благочестивая женщина приложила губку к дрожащим устам сына для поцелуя. Панкратий с благоговением приложился к ней устами, которые окрасились кровью; в этом прикосновении, быть может, он почувствовал дух отца, витавший над ним и нисходивший в глубину его сердца, преисполненного благоговением; ему казалось, что оно готово было выпрыгнуть наружу. В эту тяжелую минуту воспоминаний, отец, мать и сын как бы соединились для новой жизни. Люциана спрятала драгоценную реликвию обратно в мешочек и, повесив на грудь сына сказала:
– Пусть эта драгоценность увлажнится в будущем святою росою мученичества, но не слезами слабой женщины…
Однако, Господь судил иначе: будущий воин Христа и будущий мученик освящен кровью отца, смешанной со слезами матери.
6
Церковь и триумфальные ворота Святого Панкратия в Риме.
7
Древняя церковь Святого Панкратия в Лондоне, где хоронили христиан, пока у них не было собственного кладбища.