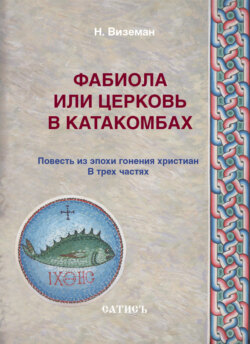Читать книгу Фабиола или Церковь в катакомбах. Повесть из эпохи гонения христиан - - Страница 8
Часть первая
Мир
VI
Пир
ОглавлениеМолодые девушки застали гостей собравшимися в нижней зале. Это был не пир, а обыкновенный обед в богатом доме, приготовленный для множества друзей и приятелей; ввиду этого мы скажем только, что убранство стола было так же прекрасно, как и самые кушанья. Лучше обратим наше внимание на тот факт, который так хорошо характеризует нашу повесть.
Когда обе девушки вошли в экзедру (столовую), Фабий, приветствуя свою дочь, воскликнул:
– Отчего ты, дитя мое, пришла так поздно и почему не надела своих драгоценностей? Ты сегодня одета словно какая-нибудь простушка.
Фабиола пришла в замешательство и не знала, что отвечать. Ей было стыдно своей слабости по отношению к Сире, а тем более того, что ее заметила Агнесса, в виду чего она захотела подражать ей и пошла в простом платье. Но Агнесса выручила ее из неловкого положения и, зарумянившись, сказала:
– Я виновата в том, что она пришла сюда так поздно и в таком наряде. Мы заговорились и, вследствие этого, она осталась в том же платье, в каком я ее застала, чтобы ничем не отличаться от меня.
– Ты, дорогая Агнесса, – сказал Фабий, – обладаешь тем даром, который вызывает всепрощение, и чтобы ты ни делала, все тебе сходит с рук. Но я должен тебе заметить, что такая простота была сносна, пока ты была ребенком, но теперь, в твоих летах, когда ты почти невеста[11], ты должна наряжаться и постараться снискать расположение приличного молодого человека. Например, прекрасное ожерелье, каких у тебя немало, нисколько не уменьшило бы твоей красоты. Напротив, оно увеличило бы ее. Но ты меня не слушаешь? Можно сказать, что ты уже думаешь о ком-нибудь и имеешь в виду…
Во время этого продолжительного наставления Агнесса казалась призадумавшейся, как это часто с нею случалось. Ее очаровательные глаза, как выражалась Фабиола, были устремлены с улыбкой на невидимый предмет; не смотря на это, она слушала Фабия, не прерывая его, а когда тот закончил, она ответила:
– Да! Вы правы. Я обручена уже с моим возлюбленным, который наградил меня неисчислимыми дарами.
– Неужели? – спросил Фабий, – какими же дарами?
– Какими? – переспросила Агнесса, бросив на него взгляд, полный горячей любви и искренней простоты. —
«Мой возлюбленный украсил мои руки и шею дорогими каменьями, а уши драгоценным жемчугом».
– Вот как! Кто бы это мог быть? Ты должна как-нибудь прийти ко мне и рассказать мне свою тайну. Это наверно твоя первая любовь?.. Желаю, чтобы она продолжалась нескончаемые годы и сделала тебя счастливее…
Худ. Л. Альма-Тадема. «Интерьер дома Гая Марция»
– На веки, – прибавила Агнесса, обращаясь к Фабиоле, которая, выйдя на минуту, возвращалась в столовую.
К счастью Фабиола не слыхала этого разговора; она была бы очень опечалена тем, что Агнесса, ее приятельница, утаила перед нею, важную в ее глазах тайну, но когда Агнесса сказала ей несколько слов, она удалилась и занялась гостями. Одним из этих гостей был тяжелый и грубый римский софист или ученый по имени Кальпурний; другой – Прокл, большой любитель роскоши, часто гостивший в доме Фабия; что касается двух остальных, то они заслуживают большего внимания.
Первый был, по видимому, приятель Фабиолы и Агнессы, он был трибуном и старшим офицером преторианской стражи и, хотя ему было не более тридцати лет, однако он успел приобрести себе громкую славу, был удостоен милостей императора Диоклетиана на востоке и Максимиана Геркулия в Риме. Офицер это был очень красив, но просто одет и хоть много говорил, но видимо избегал светского разговора. Словом, это был образец благородного человека с прекрасным сердцем, возвышенными мыслями. Мужественный. Без всякой гордости и высокомерия. Полную противоположность представлял собой последний, о котором уже вспоминала Фабиола, как о новом явлении в этом обществе. Это был некто Фульвий. Он был молод и почти женоподобен, одет очень изысканно, каждый палец его руки был украшен перстнем и вся его одежда блестела золотом и дорогими каменьями. Он не любил говорить; из этого можно было заметить, что он был чрезвычайно вежливый иностранец. Будучи, по видимому, благодушным, он в самый короткий промежуток времени успел расположить к себе все высшее общество. Всему этому он был обязан тому обстоятельству, что его видели всегда вращающимся при дворе, а отчасти и своей наружности: Фульвий был недурен собой. Он прибыл в Рим в обществе пожилого человека, с виду очень привязанного к нему, но был ли этот человек его слугой или другом, никто не знал. Они разговаривали между собой на иностранном языке; грубые черты, огненные глаза и отталкивающие манеры невольника приводили в трепет подчиненных ему рабов. Когда Фульвий занял помещение в доме, называемом «инсуля» (остров), т. е. в меблированных комнатах, он окружил себя невольниками более, чем нужно для холостого человека. Во всей его домашней обстановке было заметно скорее мотовство, чем роскошь; но в отживающих и развращенных кружках языческого мира загадочность всей обстановки и история его жизни вскоре были позабыты в виду тех доказательств богатства, которыми скрашивалась его ветреная натура. В минуту забытья, его угрюмый взгляд из-под насупленных бровей и искривление верхней губы вызывали недоверие и наводили на мысль, что под этой маской скрывается опасный человек.
Вскоре гости заняли свои места у стола, а так как женщины во время обеда сидели, а мужчины полулежали на мягких подушках, то Фабиола и Агнесса сели рядом, а два молодых человека, только что описанные нами, заняли места напротив дам. Фабий и два старших приятеля заняли места посередине стола, изображавшего из себя род греческой сигмы*), если так можно выразиться при описании сидевших и полулежавших на подушках гостей, то есть, три части овала были заняты гостями, а одна оставалась открытой для прислуги, которая подавала кушанья. Нужно заметить, что скатерть, этот предмет, бывший неизвестным еще во времена Горация, уже вошел в употребление. Когда в первые минуты ужина голод был утолен, разговор оживился.
– Что слышно сегодня в банях? – спросил Кальпурний, – мне не хватает времени самому собирать сведения.
– Очень любопытные новости, – ответил Прокл, – я почти убежден, что уже пришел приказ от божественного Диоклетиана об окончании его больших терм в течение трех лет.
– Не может быть! – воскликнул Фабий, – я недавно осматривал работы, проходя сады Саллюстия и заметил, что с прошлого года строение продвинулось очень мало. Еще большая часть самых кропотливых работ, как например, обтесывание мрамора и колонн, остались недоконченными.
Император Диоклетиан
– Правда, – прервал его Фульвий, – но мне известно, что император разослал повеления прислать сюда всех ссыльных рудокопов из Испании и Сардинии и даже из Херсонеса для работы в термах, и я уверен, что если пришлют тысячи две-три христиан для этой работы, то бани скоро будут окончены.
– А почему христиане сделают скорее, чем другие преступники? – спросила с любопытством Фабиола.
– Право, – отвечал Фульвий с иронической улыбкой, – я не могу объяснить вам этой причины, но так должно быть. Я убежден, что среди пятидесяти наших преступников не найдется более одного христианина.
– Неужели! – воскликнули все хором, – почему?
– Обыкновенно, наши преступники, – отвечал Фульвий, – не любят трудиться и их каждую минуту нужно подгонять, а как только надсмотрщик отвернется от них, они перестают работать. При том, наши преступники обыкновенно не воспитаны и не совершенны, сварливы и слабы, между тем, как христиане, осужденные на каторжные работы считают себя всегда счастливыми и весело исполняют свое дело. Я видел в Азии молодых патрициев, осужденных на эти работы; руки их, никогда до этого не поднимавшие топора и слабые плечи, не носившие тяжестей, исполняли тяжелые работы, и они были, как мне казалось, так счастливы и веселы, как у себя в доме. Не смотря на это, смотрители не жалеют и для них ни розог, ни палок и это понятно, так как воля божественного императора, чтобы их жизнь была самая тяжелая, должна быть исполнена, но они никогда не жалуются и считают это справедливостью.
– Не могу согласиться, чтобы такая справедливость нравилась кому-нибудь, – сказала Фабиола, – но странно! Какой это должен быть удивительный народ! Мне очень хотелось бы знать, откуда проистекает это побуждение или причина такой глупости и неестественного бесчувствия христиан.
– Кальпурний, без сомнения, объяснит нам это, – сказал Прокл шутя, – потому что он философ и может говорить по целым часам о каком-нибудь предмете, начиная от Альп и кончая антиподами.
Кальпурний, задетый за живое и, чувствуя себя в центре внимания, серьезно отозвался:
– Христиане, – начал он, – принадлежат к чужестранной секте, которую основал несколько веков тому назад известный халдейский учитель. Учение его было перенесено в Рим во время Веспасиана двумя братьями, по имени Петр и Павел. Некоторые ученые доказывают, что эти братья-близнецы назывались евреями – Моисеем и Аароном, младший из них купил у брата право первородства за козленка, кожа которого была ему нужна на перчатки. Я не ручаюсь за достоверность того, что записано в мистических книгах жидов, но там сказано, что один из этих братьев, видя, что жертвы, приносимые братом, предвещали ему счастливую будущность, убил его, как наш Ромул Рема, с тою разницей, что для этого убийства он употребил ослиную челюсть, за что царь Мардохай Македонский, по просьбе своей сестры Юдифи, велел повесить его на виселице в 50 футов вышины. И так Петр и Павел, как я сказал, пришли в Рим; Петр был признан невольником у Понтийского Пилата и по приказанию своего господина был распят на кресте в Яникуле. Их ученики, которых у них было немало, приняли этот крест за символ своей веры и теперь молятся ему. В виду этого они считают за величайшее счастье страдать и переносить насмешки и даже позорную смерть, как лучший способ уподобиться своему учителю. Они говорят, что соединятся с ним в каком-то месте за облаками.
Такое извращенное понятие христианства все слушали с большим удовольствием, за исключением двух лиц: молодого воина, который обратился к Агнессе с выражением жалости на лице и как бы спрашивая ее, должен ли он отвечать этому глупому человеку или только смеяться над ним и его словами. Агнесса поняла это и, приложив палец к губам, умоляющим взглядом просила его молчать.
– Из всего этого видно, – отозвался Прокл, – что термы скоро будут окончены и, что вследствие этого нам, в недалеком будущем, предстоит много удовольствий и потех. Не слыхали ли вы, Фульвий, придет ли божественный Диоклетиан на открытие этих бань?
– Несомненно. В честь этого открытия будут устроены чрезвычайные забавы и общественные игры, и нам не придется долго ждать этих удовольствий. Говорят, что в Нумидию послан приказ о доставлении в Рим львов и леопардов перед началом зимы…
При этом он быстро повернулся к соседу и, смерив его проницательным взглядом, прибавил:
– Такому храброму воину, как ты, Севастиан, должны нравиться благородные игры в амфитеатре, в особенности, если они имеют целью уничтожить врагов великого императора и республики.
Воин приподнялся на подушке и, обратившись к соседу, спокойно и серьезно ответил:
– Я не заслуживал бы той похвалы, которую ты посылаешь по моему адресу, Фульвий, если бы мог равнодушно смотреть на борьбу, если ее можно так назвать, между зверем и безоружным ребенком или женщиной. Таковы ведь игры, которые ты называешь благородными. Я охотно подниму свою руку на защиту императора или республики, но с такой же охотой поднял бы ее на льва, бросающегося по воле императора на невинных, безоружных и беззащитных.
Фульвий хотел встать, но Севастиан, положив свою сильную руку на плечо негодяя, продолжил:
– Послушай, я не первый из римлян и не благороднейший из смертных, чтобы не понимать вещей в том виде, как ты говоришь. Вспомни слова Цицерона: «Признаться, это прекрасные игры, но какое удовольствие они могут представлять для образованного, при виде слабого человека, растерзанного ужасной бестией или прекрасного зверя, пронзенного стрелой!» Он прав и я не стыжусь согласиться с этой мыслью самого лучшего из римских мудрецов.
– В таком случае, можно подумать, что мы никогда не увидим тебя в амфитеатре, Севастиан, – спросил Фульвий вежливо, но в то же время иронически.
– Если ты увидишь меня там, – отвечал воин, – то только среди беззащитных, но не между людьми, которые хуже всякого кровожадного зверя.
– Севастиан прав, – воскликнула Фабиола, хлопая в ладоши, – но, господа, я заканчиваю ваше препирательство этим рукоплесканием. Я никогда не слыхала, чтоб Севастиан говорил не по вдохновению сердца и мысли.
Фульвий закусил губу и все молча встали из-за стола.
11
Римлянки вообще выходили замуж от двенадцати лет.