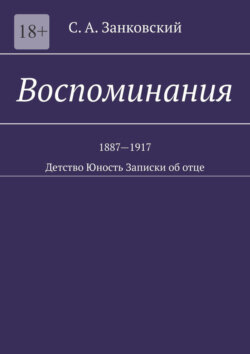Читать книгу Воспоминания. Детство. Юность. Записки об отце - - Страница 5
С. А. Занковский
Воспоминания с рождения до революции
Начало ученья
ОглавлениеКак-то осенью 1885 года мы с отцом были в гостях у К. Ф. Гартмана в его флигеле, во дворе Лютеранской церкви Святого Михаила в Гороховом переулке, где он занимал должность органиста. Отец уважал Гартмана: тот был старик веселый, решительный и отлично играл на органе.
В тот раз мы сидели у К.Ф. на крылечке и смотрели на ребят, проходивших в бывшее тут же реальное училище, известное под названием училища Св. Михаила. Мы с Николаем были тогда еще совсем цыплята, в коротких штанишках и в курточках с белыми воротничками, а у меня еще были длинные белокурые волосы в кудрях.
Вот мы смотрели на ребят в форме реалистов в картузах с кокардами и с ранцами за спиной, и таким это казалось далеким. Вдруг отец, по-видимому, принявшей какое-то решение, неожиданно спросил нас: «Хотите поступить в реалисты?» Карл Федорович эту мысль поддержал и обещал оказать содействие, которое, как я понимаю, было вовсе ненужным, так как не принять нас в первый приготовительный класс не было никаких оснований. Опять, как и в вопросе о вегетарианстве, что мы могли ответить отцу? Но перспектива надеть форму привлекала.
Через пару дней мы с Николаем уже сидели за партами в первом приготовительном классе, оба в формах, я, как был, с длинными волосами, за что меня тут же прозвали «Лизкой».
Когда я поступал в школу, мне было семь лет и восемь месяцев, я говорил по-немецки, по-русски мог читать и, вероятно, немного писать. В первом приготовительном классе преподавали русский устный и письменный, немного арифметики и Закон Божий – все это на русском зыке. Только географии в первом классе преподавалось на немецком языке.
Русский язык преподавал некто Вертоградский – мужчина лет сорока пяти, с бородой. Он учил по своему учебнику и начинал с долбежки правил грамматики.
Впоследствии мне привелось прочитать этот учебник Вертоградского, и в предисловии я прочел его умное высказывание: «Чтобы выучить правила грамматики, надо потребовать от ученика умение обобщать известные явления языка».
От маленьких учеников этого требовать было нельзя, и поэтому Вертоградский в противоречие со своей установкой сводил все к зубрежке правил, которых я не понимал и запоминал плохо. Способ оценки работ учеников был простой: диктант без ошибок – 5 диктант с одной ошибкой – 4, с двумя – 3, с тремя – 2 с четырьмя – кол. Дальше идти уже было некуда, и у меня не было надежды выйти куда-нибудь выше единицы.
Как шли арифметика и Закон Божий я не помню, но никаких шансов перейти во второй приготовительный класс у меня не оказалось, и я остался бы на второй год, если бы не пришла на помощь судьба.
В 1895 году умер царь Александр III. Москва погрузилась в траур. Около Красных Ворот стояли большие усеченные пирамиды, затянутые черной материей с серебряным глазетом и царскими вензелями. На престол взошел Николай Второй и весной 1896 года должен был короноваться в Москве. Вот в связи с этим национальным торжеством мы были освобождены от переводных экзаменов и я оказался во втором приготовительном классе, хотя заслуги моей в этом не было никакой.
Лето 1896 года мы жили на даче в Измайлове – тогда говорили «в зверинце». Дачу помню смутно. Осталось в памяти, что мы с тетками Хильмой и Наташей ели картошку, печеную в кожуре – это называлось «в мундире» и тетки учили нас экономить сливочное масло, что, наверно, исходило из добрых традиций немецких семей. Я тогда же проникся уважением к сливочному маслу и клал на картофелины совсем маленькие кусочки.
Купаться ходили на пруд в купальню. Там раз я видел, как двое мальчиков лет по восьми в форме какого-то училища упали в воду и были уже под водой, но их тут же вытащили из воды «молодец», очевидно, отпущенный с ними. Рожа у него была растерянная. Он чувствовал себя героем и в то же время соображал, что от хозяев ему будет головомойка за то, что не доглядел.
На даче мы жили, вероятно, до половины сентября, и добираться оттуда до школы было чистое мучение. Мы вставали в шесть часов, ехали до Семеновской заставы на извозчике за двадцать копеек, там садились на конку или на линейку, ехали до Немецкой улице, заходили домой, на кухне потихоньку от отца пили чай с маслом и колбасой и шли в школу.
В школу на большую перемену приходил булочник с большой корзиной, где были слойки, пряники и главное, жареные пирожки по 5 копеек штука. Я их обожал, но денег никогда у нас не было и о пирожках можно было только мечтать. В этом тоже была особенность нашего дома: несмотря на царившее в нем обилие, наличные деньги ценилась как-то преувеличенно и истратить десять – двадцать копеек помимо денег, ассигнованных на хозяйство, почиталась недопустимым.
С хождением в школу была связана еще одна неприятность. Недалеко от училища Святого Михаила находилась одна из городских начальных школ, в которой учились ребята до пятнадцати лет. Между нашим училищем и этой школы существовала давняя вражда «реалистов» и «городских».
Наши шестиклассники могли «всыпать» любому городскому, так как были старше их, но те, как меня взыскательные, были воинственнее наших. Кроме того, их подталкивала классовая ненависть, поэтому они били наших «в шею» и «по морде», что было неприятно и даже страшно, особенно последнее.
Когда ко мне вплотную подходили «городские» и недвусмысленно угрожали, душа уходила в пятки; а когда мне раз дали «по морде» так, что я даже не успел опомниться, было совсем плохо.
Дома у нас это положение недооценивали. Я иногда заходил в магазин и мне давали «молодца» в провожатые, но это только туда. Назад же надо было идти одному. Иногда мы шли из школы группой, но это не спасало и, если навстречу попадалась группа городских, мне опять было не по себе.
В школе было плохо. Теперь я понимаю, что четыре с половиной года, проведенные в этой школе, были зря потраченным временем. Я ничего не делал, а если немного зубрил, то совершенно не понимал того, что запоминал механически. Во втором классе началась немецкая грамматика и это было еще хуже русской. Немец – плотный старик с большой седой бородой и оловянными глазами, входил в класс, садился за стол, протирал очки, раскрывал журнал и, обведя глазами класс, говорил: «Сюда прийти» и называл фамилию тех, кого вызывал. Вызванные человека три – четыре шли к нему, становились в ряд и начиналось: презенс, перфект, плюсквамперфект, футурум 1 и так далее. Я мог запомнить, как изменяется глагол при спряжении, но было совершенно непонятно, когда и какое время употреблять.
Потом пошла география, что было совсем плохо. Преподавал географию высокий, худой, с козлиной бородой инспектор по прозвищу «селедка». Занятия он свел к зубрежке тоненького учебника, в котором были перечислены названия всех немецких государств, княжеств больших и малых с названием их городов, указанием числа жителей, что они производят, на какую сумму и так далее.
Все эти сведения почему-то считались для нас необходимыми. Мы их зубрили, и я лично зубрил цифры без малейшего представления о том, что эти цифры действительно выражают что-то существующее, а не просто так написаны в книжке. Толку от зубрежки никакого для меня не было, и я в этой науке не преуспевал. В таком же положении были многие, но некоторым удавалось как-то держаться на поверхности, то есть идти на «тройках», а мне это не удавалось, и я тонул безнадежно.
Будучи на уроках в большинстве праздными, мы развлекались как могли: главным образом перестреливались бумажками из маленьких рогаток или перебрасывались разными предметами, что под руку попадется. Наша сторона всегда оказывалась в невыгодном положении: Мы сидели у стены, и в нас можно было бросать чем угодно, так что иногда мы были вынуждены лезть под парту. Другая же сторона сидела вдоль окон, так что бросать в них нужно было с выбором, иначе можно было разбить стекло, что грозило большими неприятностями. Поэтому приходилось бросать в них мягкими предметами, например, жеваной бумагой, что снижало темпы.
Вот в таких условиях я во втором приготовительном классе остался на второй год, затем был переведен в первый класс и там тоже остался на второй год. Это был уже 1899 год, мне исполнилось двенадцать лет, и я явно отставал. Николай во втором приготовительном сидел один год, но в первом классе остался на второй год, так что по учебе он был старше меня на один год. Оценивая сейчас мое положение в то время, я полагаю, что в неуспеваемости были виноваты не мы с Николаем. Дело было в том, что за нашим учением никто в доме не следил, никто не интересовался нашими успехами, домашними заданиями. Отцу было некогда, у него были свои заботы, неприятности и масса дел. Бонны тоже ничего не делали в этом направлении, да по уровню своих знаний и не могли ничего делать. Мачеха вообще в счет не шла по молодости лет, да и образования у нее никакого не было.
Если бы нам в то время взяли опытного репетитора, и он провел бы с нами работу, которую не делали педагоги в школе, мы наверно учились бы не хуже других.