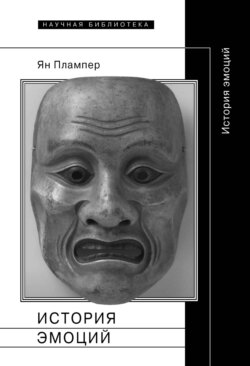Читать книгу История эмоций - - Страница 11
ГЛАВА I
ИСТОРИЯ ИСТОРИИ ЭМОЦИЙ
3. История эмоций во времена Февра и после него
ОглавлениеВ 1939 году в Швейцарии вышла незамеченная Февром книга молодого и на тот момент малоизвестного специалиста по исторической социологии Норберта Элиаса (1897–1990) под названием «О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования»183. Он начал писать ее в 1933 году, после эмиграции из Германии, сначала в Париже, а затем в Лондоне, но известность она получила только в 1960–1970‐е годы, после того как была переиздана на немецком, а главное – после того как вышла в переводе на английский184. Сегодня это классика социологии, мимо которой не проходит ни один историк или литературовед. Элиас разрабатывает теорию высокого уровня для описания эпохи европейского модерна, начинающейся около 1600 года и включающей в себя, помимо всего прочего, сложный, но в конечном счете линейный процесс нарастания контроля над аффектами185. Современный человек – это тот, кому противно, когда сосед по столу чавкает, кому стыдно за родственника, плюющего на пол в квартире, и кто испытывает неловкость, увидев на людях голого человека. В прежние эпохи было иначе: вилок практически не знали, «по правую сторону – кружка и чистый нож, по левую – хлеб. Таков столовый прибор»186. Люди Средневековья не считали зазорным сморкаться за столом в ладонь, брать еду рукой с общего блюда или бросать обглоданные кости на пол; осуждались только использование скатерти в качестве носового платка, прикосновение к ушам, носу или глазам во время приема пищи, а также складывание объедков в общую миску187. У людей домодерной эпохи отсутствовало супер-эго, не существовала та «незримая стена аффектов, что сегодня отделяет друг от друга тела людей», а эмоции проявлялись «более непосредственно, чем в любую последующую эпоху»188.
Центральная метафора Элиаса – «аффективная организация»189. Он исходил из того, что она всегда должна быть сбалансированной, то есть что некое чувство, пропадающее в одном месте, должно вновь появиться в другом. На эмоции, которые средневековый человек мог свободно выражать, в процессе перехода к современной эпохе были, как считал Элиас, наложены социальные табу. Эти табу были интериоризованы, и внешнее принуждение превратилось в самопринуждение. Это привело к психическим деформациям, которые в лучшем случае компенсировал спорт – предохранительный клапан, через который можно выражать эмоции в брутальной, нефильтрованной форме, – а в худшем случае результатом становились «навязчивые действия и прочие психические отклонения»190. В то время как сегодня профессиональные историки опасливо избегают заимствований из психоанализа, здесь влияние Фрейда очевидно191. Непреходящая заслуга Элиаса в том, что он терминологически застолбил будущее научное поле для истории эмоций: именно им введены понятия для описания эмоциональной действительности, расшатывавшие эссенциалистское представление о чувствах («состояние аффектов», «моделирование аффектов», «структура аффектов», «аффективная жизнь»)192, а также понятия, которые языковыми средствами отражают процессуальный характер и конструирование эмоций («строение общества и структура аффектов», «регулирование аффектов», «моделирование аффектов»)193.
Для того времени, когда писалась книга Элиаса, его концепция эмоций была необычайно открытой. Например, он писал:
[…] возникает общий вопрос о границах трансформируемости душевного аппарата. Несомненно, он наделен собственными законами, которые можно назвать «естественными». В рамках этих законов формируется исторический процесс, ими задаются пространство, его действия и границы194.
Или:
Образование чувств постыдного и неприятного, смещение порога чувствительности – в обоих случаях мы имеем дело и с природным, и с историческим феноменами одновременно. Эти формы ощущений представляют собой проявления человеческой природы, возникающие под воздействием определенных социальных форм и, в свою очередь, оказывающие обратное влияние на социоисторический процесс. […] Пока речь идет о психических функциях людей, природные и исторические процессы с необходимостью взаимодействуют, находясь в неразрывном единстве195.
Концепция эмоций у Элиаса включала в себя элементы эссенциализма и социального конструктивизма. Она предвосхитила синтетические концепции 1990‐х годов, такие как концепция Уильяма Редди, согласно которым формирование эмоций культурно и исторически обусловлено, но вместе с тем у них имеется универсальная телесная основа.
Параллели между Элиасом и Февром многочисленны: оба исходили из исторической изменчивости чувств; оба выступали за психологизацию истории; понятие эмоции у обоих интерсубъективно; оба полагали, что при изучении истории эмоций следует обращать внимание и на изображение чувств в живописи; и оба прекрасно ощущали, насколько тонок слой контроля над эмоциями и как быстро – в муссолиниевской и гитлеровской Европе – из-под слоя ratio могла вырваться emotio196.
Однако предложенная Элиасом прогрессивная, интерсубъективная концепция эмоций как продукта взаимодействия между неизменной природой человека и изменяемой окружающей средой не нашла подражателей и не произвела никакого эффекта, когда он представил ее общественности. Современники и потомки Элиаса пользовались внеисторическими, универсалистскими концепциями эмоций. Так, в конце 1970‐х годов Жан Делюмо (*1923) в своем многотомном труде о страхе в Средние века и в раннее Новое время перечислял те страхи, которые свирепствовали в Европе тогда, но по сути это были страх его собственной эпохи, потому что он в конечном счете не признавал эмоции переменными величинами, зависящими от времени и культуры197.
Иначе действовал историк Теодор Зелдин (*1933), британец российского происхождения. Его четырехтомная история Франции с 1848 по 1945 год вращается вокруг «шести страстей: честолюбия, любви, ярости, гордости, вкуса и страха»198. Давайте задержимся на первой эмоции и посмотрим, что Зелдин под ней понимал.
Изучение честолюбия – надежды и зависти, желания и разочарования, самоутверждения, жадности и подражания – позволяет нам как бы под микроскопом наблюдать классовую борьбу – то зло, на которое возлагают вину за столь многие социальные потрясения199.
Речь, таким образом, должна была идти об истории экономики и трудовых отношений – истории, написанной под совершенно новым углом зрения. Хотя Зелдин утверждал, что будет рассматривать через линзу истории эмоций не только приватную сферу (семью и т. п.), но и общественную жизнь (политику и т. п.), на самом деле первая в книге перевешивает. Бóльшая часть работы посвящена эмоциональным последствиям поисков человеком смысла в век индивидуализма, когда прежний фундамент общества – религия и социальные микроинституты, такие как семья и деревня, – утратили значительную долю своей интегративной силы. Точнее, речь идет об изобретении медицинского языка для описания – и создания – заболеваний индивидуализма, еще точнее – о психиатрии и психоанализе вообще и о страхе и истерии в частности200.
Зелдин, как и Элиас, опередил свое время201. То, что он стал заниматься эмоциями, объяснялось его недоверием к господствовавшей в 1970‐е годы социальной истории, которой нужны были закономерности, строгая причинность, количественный анализ и большие структуры. Если искать биографические причины такой дальновидности Зелдина, то они могут быть найдены в опыте катастроф, которыми богата история российских евреев в первой половине ХХ века. Этот опыт показал Зелдину (как Февру – опыт наблюдения фашизма и нацизма), что ratio сильнее, чем emotio. Поэтому методологическое кредо Зелдина гласило: человеческое «поведение запутано и непонятно». И это он провозгласил в 1973 году, за пятнадцать с лишним лет до того, как в тех антипозитивистских кругах историков, которые интересовались вопросами теории, стал утверждаться постструктуралистский взгляд на индивидуум как на многослойную, амбивалентную, эластичную сущность202. Кроме того, Зелдин говорил, что человеческая деятельность необычайно многообразна и «каждое действие двигалось по своей оси, было погружено в свои заботы и отграничено своими линиями». Этот подход напоминает подход социологов, таких как Пьер Бурдьё и Никлас Луман, а рецепция их идей в исторической науке в то время еще практически не началась203. В отличие от своих коллег-марксистов или сторонников теории модернизации, которые исходили из примата экономики, а все остальные сферы общественной жизни (религию, науку, спорт и т. д.) считали зависящими от нее, Бурдьё говорил, что каждое «поле» – или, выражаясь языком Лумана, каждая «система» и ее «подсистемы» – функционирует в соответствии с собственной логикой и в собственном темпе204. И наконец, Зелдин одним из первых стал рассматривать самих историков как субъектов, чья деятельность тоже определяется эмоциями и чье отношение к предмету исследования эмоционально нагружено; более того, они выбирают себе предмет на основе эмоциональных установок. Так, по мнению Зелдина, Жан Делюмо
принялся за свое исследование, потому что хотел понять тот ужас, который он ощутил в возрасте десяти лет после внезапной смерти своего друга; ужас такой интенсивности, что он три месяца не ходил в школу. […] Поэтому его историю страха вполне можно рассматривать в качестве рефлексии по поводу его собственного опыта, которая привела к масштабной рефлексии по поводу опыта других205.
Независимо от Зелдина, Февра или Элиаса в 1970‐е годы стала развиваться новая «психоистория», видными представителями которой были Питер Гэй (1923–2015), Ллойд Демоз (*1931) и Питер Лоуенберг (*1933). Их подходы к психологизирующему историописанию различны, но всех их объединил рано проявившийся интерес к эмоциям206. Уте Фреверт (*1954) пишет о пятитомном труде Гэя «Буржуазный опыт: от Виктории к Фрейду»:
Если Гэй пишет историю ХIХ века как историю влечений и форм их выражения, то он подводит под нее не только интимный шепот буржуазной пары в постели, но и страсть Теодора Рузвельта к охоте, и построенную на рассчитанном риске дипломатию предвоенной поры207.
Всеобщая критика в адрес психоистории касалась и того, как в ней толковались чувства: эмоции антиисторически втискивались в психоаналитические или психологические категории, которые на самом деле зависят и от времени, и от места. Так возникали концепции, подобные объяснению, данному Эриком Эриксоном лютеровскому учению об оправдании «одной верой»:
Представляется убедительной интерпретация, согласно которой Мартин рано был вырван из фазы доверия, «от материнской юбки», ревнивым и тщеславным отцом, который пытался слишком рано сделать его человеком независимым от женщин, здравомыслящим и надежным в работе. Гансу это удалось, но тем самым он породил в мальчике […] глубокую тоску по детскому доверию. Его богословское решение – духовный возврат к вере, существующей до всякого сомнения, в сочетании с подчинением в политической сфере тем, кто по необходимости держит в руках меч мирского закона, – как кажется, полностью отвечают его личной потребности в компромиссе208.
При таком взгляде «вполне логично», как писал Демоз, что Сталин «как руководитель страны […] вызвал гибель миллионов своих соотечественников» вследствие «страшных побоев», перенесенных в детстве от отца-алкоголика209, а «бархатные революции» конца 1980‐х в Восточной Европе оказываются результатом «возросшей ранее любви к детям»210. Таким образом, история эмоций, которую писали в рамках психоистории, была полна анахронизмов. Однако психоанализ вполне можно осмысленно использовать в истории чувств там, где сами исторические субъекты говорят на его языке. Так, например, о западногерманских левоальтернативных жилищных коммунах 1970–1980‐х годов просто нельзя было бы писать с позиций истории эмоций, не используя психоаналитический категориальный аппарат описания чувств211.
С конца 1980‐х годов историей семьи как историей эмоций занимались – без теоретических заимствований из психологии и психоанализа – германские и американские историки раннего Нового времени (Ханс Медик, Дэвид Уоррен Сэбиан, Луиза Тилли), британские специалисты по исторической демографии (кембриджская школа Джека Гуди) и французские этнологи. Институциональными базами этой мультидисциплинарной группы был гёттингенский Институт истории Общества им. Макса Планка и парижский Дом наук о человеке. В содержательном плане группа ставила себе задачу сломать разделявшееся многими в общественных науках дихотомичное представление, будто отношения между матерью и ребенком свободны от интересов, то есть чисто аффективны, а отношения между мужчинами в семье, наоборот, строятся на интересах, то есть свободны от аффектов. Цель была в том, чтобы снова концептуально объединить чувство и целерациональность212. Не существует «никакой простой связи между констелляцией семейных ролей и эмоциональным их наполнением», а это значит, писала Эстер Гуди, что отношения между матерью и ребенком, равно как и между отцом и ребенком, априори не являются ни свободными от интересов, ни эмоционально холодными213. Эта группа гёттингенских и парижских исследователей поставила под сомнение и нарратив Эдуарда Шортера и других авторов, полагавших, что в XVIII веке нарастала эмоциональность супружеских отношений: ведь и в предшествующие эпохи «если нам встречаются молодые мужчины, которые отказываются от изрядного приданого ради того, чтобы жениться на даме своего сердца, то мы знаем, что перед нами – романтическая любовь»214, то есть отношения в парах и в семьях до начала Нового времени никоим образом не были чисто целерациональными.
Примерно по той же траектории, что и эти дискуссии в Гёттингене и Париже, продвигалась разработка темы эмоций в гендерной истории, подъем которой начался в 1970‐е годы215. Ее тоже категорически не устраивал тезис Шортера, согласно которому рост числа внебрачных родов в период с 1750 по 1850 год указывал на то, что женщины вступали в связи, основывавшиеся не на прагматических соображениях, а на любви, и потому Новое время следует рассматривать как эпоху прогрессирующей романтизации отношений между мужчинами и женщинами216. Гизела Бок (*1942) и Барбара Дуден (*1942) возразили на это, что в рамках такой «романтизации» женская работа по дому была самым гнусным образом реинтерпретирована как не-работа, и тем самым было закреплено подчиненное положение женщин в современном браке:
В традиционном институте брака и семьи жена отдавала во власть мужа свою способность к физическому труду и свою сексуальность на всю жизнь или на все время их брака. Считалось, что она все делает из любви, и вознаграждалась ее деятельность тоже любовью, хотя факты говорят совершенно о другом: на брачном рынке не только любовь отдавалась в обмен на любовь, но и любовная работа в обмен на жизнеобеспечение217.
Как видим, в ранней гендерной истории (которая тогда была в первую очередь женской историей и так себя и называла) на первом плане стояла тема инструментализации чувств в целях поддержания старых и создания новых видов гендерного неравенства. Критиковалась в гендерной истории и эссенциалистская концепция «естественной» материнской любви как якобы биологически обусловленного чувства218.
Под влиянием лингвистического поворота в 1980–1990‐е годы категория «пола» была принципиально поставлена в гендерной истории под вопрос. Все больше и больше обнаруживалось свидетельств того, что якобы бесспорные телесные различия между мужчинами и женщинами на самом деле – исторические конструкты. Гендерная история разделилась на историю тела, историю сексуальности, историю мужчин и множество других областей. Но при этом эмоции никогда не оказывались в центре внимания как самостоятельный предмет исследования219. Как и в случае с историей семьи в раннее Новое время, изучавшейся в Гёттингене и Париже, чувства все время оставались на периферии, что заставило Эдит Заурер (1942–2011) в 1997 году заявить: «Пора, наконец, сделать историю любви отправной точкой для написания истории гендерных отношений»220. И тем не менее невозможно переоценить тот вклад, который женское движение 1970‐х годов внесло в повышение статуса эмоций, стереотипно считавшихся женскими, и превращение их, в частности, в объект исследования экспериментальной психологии.
В середине 1980‐х годов история эмоций совершила большой рывок вперед, связанный с именем Питера Стернса (*1936), основателя и редактора влиятельного Journal of Social History, и Кэрол Зисовиц Стернс (*1943), историка и психиатра. В привлекшей большое внимание статье в American Historical Review Стернсы предложили четко отделять индивидуальный эмоциональный опыт человека от эмоциональных норм и изучать в первую очередь именно их. Для этой области исследований они придумали название «эмоционология» (emotionology). Определяли они это понятие как
установки или стандарты, которые общество или поддающаяся определению группа в обществе поддерживает относительно базовых эмоций и подобающих способов их выражения; то, как институты отражают и поощряют эти установки в поведении людей221.
Итак, историкам следовало сосредоточить свое внимание на правилах, которыми регулировалось выражение чувств в обществе или в составляющих его социальных группах. Важное значение уделялось при этом таким институтам, как детский сад, школа и армия, а также брак и семья. В них воспитывали в юношестве почтение к старшим, солдат во время срочной службы учили скрывать страх, в семье родители своим примером демонстрировали детям идеал супружеских отношений, базирующихся на романтической любви. Конечно, эмоциональные стандарты не были жесткими и статичными – они подвержены историческим изменениям. Так, благодаря антиавторитарному воспитанию, распространившемуся в 1960‐е годы, почтение к старшим превратилось в любовь между равными; в ходе реформы армии США во время войны во Вьетнаме пропагандировалось более открытое признание солдатского страха (пусть даже с той целью, чтобы потом лучше с ним бороться); выяснилось, что романтическая любовь – исторически весьма недавний конструкт, возникший после Великой французской революции.
Стернсы рассматривали эмоции и эмоционологию как два раздельных аналитических комплекса, между которыми они устанавливали взаимосвязи. В эмоциональной экономике исторических субъектов отношения между эмоциями и эмоционологией являются предметом непрерывного заключения и перезаключения договоренностей. Если в один исторический момент вспышки ярости во время семейных скандалов были социально приемлемыми, а в более поздний уже нет, то люди продолжают испытывать чувство ярости, но в новой исторической констелляции это порождает у них чувство вины, доступное для изучения историками благодаря, например, дневникам222. Это подводит нас к проблеме источников – она перед историей эмоций стоит особенно остро, и Стернсы это подчеркивали. В своей первой статье 1985 года они упоминали эго-документы (дневники и автобиографии), произведения художественной литературы, а также классические для социальной истории источники – свидетельства акций протеста (забастовок, демонстраций, революций), – из которых, по мнению авторов, нужно, с должной осторожностью, пытаться извлечь информацию о чувствах. Позже Стернсы основное внимание сконцентрировали на сборниках советов по этикету223. С самого начала они, будучи социальными историками, отдавали себе отчет в том, что исследователю очень трудно получить доступ к эмоциям представителей низших слоев населения, особенно неграмотных224. Когда впоследствии они сосредоточились на сборниках советов, их часто стали обвинять в том, что они забыли об этой проблеме и переоценили социальный охват своих источников. Барбара Розенвейн отмечала, например, что почерпнутые из таких книг данные о нормах, касающихся гнева, зависти или страха, не репрезентативны для общества в целом, они относятся только к определенной части среднего слоя225.
Питер и Кэрол Стернсы рассматривали историю эмоций как расширение истории общества. Сегодня это может показаться удивительным, ведь в начале XXI века многие скорее отнесли бы ее к новой культурной истории или, может быть, сочли бы ее частью истории дискурсов, истории тела или гендерной истории. Но тогда, в конце 1970‐х и в 1980‐е годы, Стернсы ориентировались, с одной стороны, на исследования Хёйзинги, Февра, Элиаса, Делюмо и Зелдина, а с другой стороны – на то, как с 1960‐х годов англо-американская и французская социальная история разветвлялась на историю семьи, историю сексуальности, гендерную историю и т. д. Именно в этих отраслях – у историков раннего Нового времени, работавших в Гёттингене и Париже, у гендерных историков, – обсуждались в то время любовь, страх, гнев и зависть. К тому же Джон Демос (*1937) тогда именно с позиций истории общества описал отношения между ранними поселенцами в Новом Свете – пилигримами в Плимуте в XVII веке, – у которых поощрение любви между супругами представляло собой, на его взгляд, попытку снизить разрушительный для общества эффект семейных ссор, а Абрам де Сваан (*1942) показал, что количественный спад протестных акций трудящихся в западном мире во второй половине ХХ века мог быть связан со стратегической политикой в сфере управления персоналом: он утверждал, что на предприятиях стали назначать мастерами людей, которые были более покладистыми и позитивно настроенными по отношению к работодателям; за счет этого было «оптимизировано» управление эмоциями работников и протест подавлялся в зародыше226. Вместе с тем Стернсы дистанцировались от новых левых социальных историков 1960‐х годов, таких как Чарльз Тилли и Джордж Рюде, которые – дистанцируясь, в свою очередь, от Лебона – утверждали, что толпа во время бунтов и других коллективных форм социального протеста состоит из рациональных субъектов, которые действуют целенаправленно, руководствуясь собственными интересами, а не хаотично, непредсказуемо, временами даже вопреки своим интересам227. В отличие от этих авторов, заявленной целью Стернсов было вновь обратить внимание историков на бурные чувства, которые были задействованы в коллективных акциях протеста прошлого228.
После программной статьи 1985 года Стернсы за последующие два десятилетия опубликовали впечатляющую серию монографий, посвященных ярости и контролю над эмоциями в истории США, зависти, страху, а также «спокойствию» (coolness) как эмоциональному стилю американцев в ХХ веке229. По мнению этих исследователей, важнейшей цезурой в истории эмоциональных норм стало начало Нового времени (ок. 1600). В связи с этим медиевист Барбара Розенвейн впоследствии обвинила их в том, что они просто некритически переняли «большой нарратив» Элиаса: не разбирая его, они просто начали свои изыскания после того водораздела, который постулировали Хёйзинга, Февр и Элиас230.
Стернсы пользовались влиянием в академическом мире; с 1993 года Питер Стернс издавал вместе с Джэн Льюис книжную серию «The History of Emotions Series», что было уже зачатком институционализации, однако утвердиться в качестве самостоятельной дисциплины история эмоций тогда не смогла – во всяком случае, в той мере, в какой утвердились в конце 1980‐х и в 1990‐е годы гендерная история, история тела, постколониальная история и др.231
Литература по истории эмоций, которая выходила, отражала изменение теоретической парадигмы. Если в германской исторической науке в середине 1990‐х годов с запозданием начался лингвистический поворот, то в США наметилось изменение, которое имело гораздо более значительные последствия для всей науки в целом: на лидирующие позиции стали выходить науки о жизни. Ниже, особенно в главе III, мы более подробно рассмотрим этот тектонический сдвиг, пока же следует лишь сказать, что с эпистемологической точки зрения триумфальное шествие наук о жизни обещало реанимировать те сферы, которые понесли сокрушительный «побочный ущерб» в результате лингвистического поворота: объективность, эмпиризм, универсализм (то есть независимость от хода истории и от культурных границ), серьезноcть в изложении. Кончались времена, когда процветали плавающие знаки и меняющиеся значения, текучие идентичности и постмодернистское «все дозволено» (anything goes), языковые игры и ирония. В американской исторической науке – включая ту, которая занималась чувствами, – эта перемена стала заметна очень скоро. Историки все больше стали пользоваться формулами и выводами наук о жизни. Подкреплялась эта тенденция еще и тем, что эмоции – в отличие от, скажем, социального неравенства или политической культуры – являются одним из главных предметов исследования в этих науках.
В начале 1990‐х годов Уильям М. Редди (*1947), американский историк, антрополог и специалист по Франции, первым стал использовать данные, почерпнутые из наук о жизни – прежде всего из когнитивной психологии, – в своих исследованиях, посвященных эмоциям. В результате он выпустил ряд программных статей, таких как «Против конструктивизма: историческая этнография эмоций» (1997), и фундаментальный теоретический труд «Навигация чувств» (2001)232. В этой книге, которая подробно будет представлена в главе IV, Редди, сводя воедино социально-конструктивистские подходы из антропологии эмоций и универсалистские из когнитивной психологии, предложил синтетическую теорию истории эмоций, а затем приложил ее к истории Франции XVIII века и к истории террора во время Великой французской революции.
183
В Школе «Анналов» не только Февр искал научные подходы к изучению эмоций. Марк Блок (1886–1944) в «Королях-чудотворцах» (1924) назвал приписывавшуюся средневековым королям чудесную способность исцелять болезни источником того «верноподданнического чувства», которое испытывали люди к своим монархам. Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. Предисл. Ж. Ле Гоффа. Науч. ред. и послесл. А. Я. Гуревича. М., 1998. С. 85. В «Апологии истории» – методологическом завещании, написанном незадолго до того, как он был убит гестаповцами, – Блок указал на значение чувств: «Какой историк религии захочет ограничиться перелистыванием теологических трактатов или сборников гимнов? Он хорошо знает: об умерших верованиях и чувствах нарисованные и скульптурные изображения на стенах святилищ, расположение и убранство гробниц скажут ему, пожалуй, не меньше, чем многие сочинения». – Блок М. Апология истории / Пер. Е. М. Лысенко. Примеч. А. Я. Гуревича. М., 1973. С. 39.
184
См. Elias N. Über den Prozeß der Zivilisation: Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bde. Bern, 1939; англ. изд.: Idem. The Civilizing Process. N. Y., 1978; рус. изд.: Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; СПб., 2001.
185
На словах Элиас, правда, тоже заверял читателей в том, что «процесс цивилизации протекает далеко не прямолинейно» и что «на пути цивилизации есть множество разнонаправленных движений, сдвигов то в одну, то в другую сторону». – Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1. С. 260. Петер Лудес тоже утверждает, что процесс цивилизации не мыслился как линейный: Ludes P. Drei moderne soziologische Theorien: Zur Entwicklung des Orientierungsmittels Alternativen. Göttingen, 1989. S. 152, 354. Anm. 12. Тезис о цивилизации как о процессе много критиковали – см., например Duerr H.-P. Der Mythos vom Zivilisationsprozes. 4 Bdе. Frankfurt a. M., 1988, 1990, 1993, 1997. Обобщающие обзоры этой дискуссии см. в Schwerhoff G. Zivilisationsprozeß und Geschichtswissenschaft: Norbert Elias’ Forschungsparadigma in historischer Sicht // Historische Zeitschrift. 1998. № 266. S. 561–605; Hinz M. Der Zivilisationsprozess: Mythos oder Realität? Wissenschaftssoziologische Untersuchungen zur Elias-Duerr-Kontroverse. Opladen, 2002; Paul A. T. Die Gewalt der Scham: Elias, Duerr und das Problem der Historizität menschlicher Gefühle // Mittelweg. 2007. № 36. S. 77–99.
186
Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1. С. 114–115.
187
См. там же. Т. 1. С. 124–125.
188
См. там же. Т. 1. С. 190.
189
Или «экономика аффектов» – Там же. Т. 1. С. 87.
190
Там же. Т. 2. С. 250. О месте влечения «внутри» человека см. там же. Т. 1. С. 40; о превращении табу в самопринуждение см. Там же. Т. 1. С. 280; о спорте как предохранительном клапане см. там же. Т. 1. С. 282. Ср. также о «неврозах»: «Быть может, „неврозы“ существовали всегда, но то, что сегодня наблюдается в качестве „неврозов“, представляет собой определенную, исторически возникшую форму душевных конфликтов, которая требует психогенетического и социогенетического объяснения». Там же. Т. 1. С. 222.
191
Еще о психоанализе и эмоциях у Элиаса см. в Rosenwein B. H. Thinking Historically about Medieval Emotions // History Compass. 2010. № 8. P. 829.
192
См. Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1. С. 288 («состояние аффектов»), 254 («нагруженность чувствами»), 87 («моделирование аффектов»), 87 («аффективная жизнь»).
193
См. Там же. Т. 1. С. 281 (связь между строением общества и структурой аффектов), 249 («социальное регулирование аффектов»), 87 («моделирование аффекта»).
194
Там же. Т. 1. С. 232.
195
Там же. Т. 1. С. 232–233. О такой эмоции, как страх: «Конечно, ощущение страха, как и ощущение наслаждения, есть неизменный атрибут человеческой природы. Но и сила, и структура таящихся или воспламеняющихся страхов никогда не зависят только от природы человека. По крайней мере, в обществах с известным уровнем функциональной дифференциации они менее зависят от природного окружения, чем от исторических факторов и структуры отношений с другими людьми. Они определяются социальной структурой и меняются вместе с ней». Там же. Т. 2. С. 322.
196
О повороте к психологии см. там же. Т. 1. С. 284; о смещении порога стыдливости см. там же. Т. 1. С. 293–295; о намечавшемся у национал-социалистов откате на домодерную эмоциональную ступень цивилизации см. там же. Т. 2. С. 324–325.
197
Делюмо пользуется схемой «стимул – реакция», восходящей к экспериментальной психологии 1970‐х годов. Историческое изучение страха в его понимании – это не исследование эмоции, подверженной изменению, а анализ исторически изменчивых субъектов и объектов страха: «Кто и перед чем испытывал страх?» См. Delumeau J. La peur en Occident (XIVe–XVIIIe siècles): une cité assiégée. P., 1978.
198
Zeldin Th. France, 1848–1945. Vol. 1: Ambition and Love. Oxford, 1979. P. vii. Процитированный пассаж содержится в предисловии ко второму изданию книги, в первом он отсутствует: см. Zeldin Th. France, 1848–1945. Vol. 1: Ambition, Love and Politics. Oxford, 1973. Ср. также весьма поучительные размышления самого Зелдина о его многотомном труде: Zeldin Th. Personal History and the History of Emotions // Journal of Social History. 1982. № 15. P. 339–347; а также Zeldin Th. An Intimate History of Humanity. N. Y., 1994.
199
Zeldin Th. France, 1848–1945. Vol. 1: Ambition and Love. P. vii.
200
См. Zeldin Th. France, 1848–1945. Vol. 2: Intellect, Taste and Anxiety. Oxford, 1977. Ch. III (Worry, Boredom and Hysteria). Ср. также Ch. 2 (Individualism and the Emotions), где Зелдин прослеживает историю поисков смысла – и связанные с этим эмоциональные страдания – у писателей от романтизма до Флобера и Пруста.
201
Зелдин был не совсем одинок: его аспирантка Джудит Девлин в конце 1970‐х годов занялась изучением суеверий, еще сохранявшихся в народной культуре Франции XIX столетия, и в связи с ними затрагивала также тему эмоций. См. Devlin J. The Superstitious Mind: French Peasants and the Supernatural in the Nineteenth Century. New Haven, 1987.
202
Zeldin Th. France, 1848–1945. Vol. 1: Ambition and Love. P. vii.
203
Zeldin Th. France, 1848–1945. Vol. 2: Politics and Anger. P. ix.
204
См., например, Bourdieu P. La distinction. Critique sociale du jugement. P., 1979 [отрывки см. в рус. изд.: Бурдьё П. Различение: социальная критика суждения / Пер. с фр. О. И. Кирчик // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В. В. Радаев; пер. М. С. Добряковой и др. М., 2004]; Luhmann N. Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M., 2006 (рус. реферат: Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории // Западная теоретическая социология 80‐х годов. Реферативный сборник. М., 1989. С. 41–64). Замечательный анализ параллелизма между концепциями «поля» у Бурдьё и «системы» или «подсистемы» у Лумана встречается нам в таком неожиданном месте, как Steinmetz G. German Exceptionalism and the Origins of Nazism: The Career of a Concept // Kershaw I., Lewin M. (Ed.) Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison. Cambridge, 1997. P. 269–271.
205
Zeldin Th. Personal History and the History of Emotions. P. 345.
206
См., например, описание детских страхов как следствия недостатка родительской любви и спеленывания детей в deMause L. The Evolution of Childhood // Idem (Ed.) The History of Childhood. N. Y., 1974. P. 49–50. См. также: Gay P. The Bourgeois Experience: Victoria to Freud. 5 vols. N. Y., 1984–1998; Loewenberg P. Emotion und Subjektivität: Desiderata der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft aus psychoanalytischer Perspektive // Nolte, Hettling, Kuhlemann, Schmuhl: Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte. S. 58–78. О домодерном периоде: Roper L. Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe. L., 1994; Роупер пишет о преимуществах использования психоаналитических категорий при написании истории эмоций: «На мой взгляд, психоаналитические теории наиболее полезны, потому что они позволяют видеть связь эмоций с внутренними состояниями и конфликтами. Психоаналитические идеи могут помочь нам задуматься о причинах конкретных эмоций, а также о бессознательных и сознательных процессах, которые имеют место в наших отношениях с другими людьми. […] Основных проблем, с которыми связано любое использование психоаналитических идей, две. Во-первых, психоанализ гораздо лучше подходит для объяснения индивидов, чем групп, а историки, как правило, хотят понять коллективное поведение. Вторая опасность в том, что если мы не будем тщательнейшим образом историзировать использование психоанализа, он может в конце концов привести к редукционизму: все виды различных исторических процессов можно свести к эдипову комплексу и агрессии или к незавершенной дифференциации эго от матери. Когда психоанализ начинает делать наши объяснения такими плоскими, что они становятся предсказуемыми и слишком легко накладываются на материал, тогда они перестают делать субъективность людей прошлого действительно захватывающей – а это единственный смысл использования таких теорий». Forum: History of Emotions (with Alon Confino, Ute Frevert, Uffa Jensen, Lyndal Roper, Daniela Saxer) // German History. 2010. № 28. P. 71.
207
Frevert U. Angst vor Gefühlen? S. 97.
208
Erikson E. H. Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History. N. Y., 1958. P. 255–256.
209
deMause L. The Gentle Revolution: Childhood Origins of Soviet and East European Democratic Movements // Journal of Psychohistory. 1990. № 17/4. URL: http://www.kidhistory.org/gentle.html (последнее обращение 11.02.2014).
210
Ibid.
211
См. Reichardt S. Authentizität und Gemeinschaft – Linksalternatives Leben in den siebziger und frühen achtziger Jahren. Berlin, 2014, а также Idem. «Wärme» als Modus sozialen Verhaltens? Vorüberlegungen zu einer Kulturgeschichte des linksalternativen Milieus vom Ende der sechziger bis Anfang der achtziger Jahre // Vorgänge. 2005. № 44. S. 175–187; Idem. Authentizität und Gemeinschaftsbindung: Politik und Lebensstil im linksalternativen Milieu vom Ende der 1960er bis zum Anfang der 1980er Jahre // Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. 2008. № 21. S. 118–130.
212
См. Medick H., Sabean D. W. Introduction // Medick H., Sabean D. W. (Ed.) Interest and Emotion: Essays on the Study of Family and Kinship. Cambridge, 1984. Р. 1–8, здесь p. 4. Более двадцати лет спустя вышел сборник, в котором рассматривается уже не только семья, а домохозяйство в целом: Broomhall S. (Ed.) Emotions in the Household, 1200–1900. Basingstoke, 2008.
213
Goody E. Parental Strategies: Calculation of Sentiment? Fostering Practice among West Africans // Medick H., Sabean D. (Ed.) Interest and Emotion. P. 266–277, здесь p. 277.
214
Shorter E. The Making of the Modern Family. N. Y., 1975. P. 17.
215
В качестве введения в гендерную историю эмоций, прежде всего любви: Bauer I., Hämmerle C., Hauch G. Liebe widerständig erforschen: eine Einleitung // Idem (Hg.). Liebe und Widerstand: Ambivalenzen historischer Geschlechterbeziehungen. Wien, 2005. S. 9–35.
216
См. Shorter E. The Making of the Modern Family. P. 80–83, 148–161. Ср. также параграф об «аффективных отношениях» между членами семей в Stone L. The Family, Sex and Marriage in England, 1500–1800. N. Y., 1977. P. 102–119.
217
Bock G./Duden B. Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit: Zur Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus // Gruppe Berliner Dozentinnen; Berliner Sommeruniversität für Frauen (Hg.) Frauen und Wissenschaft: Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen, Juli 1976. Berlin, 1977. S. 121. Тезис Шортера критиковали уже ранние феминистки. Так, Симона де Бовуар (1908–1986) писала в 1949 году: «Слово „любовь“ имеет не один и тот же смысл для мужчин и женщин, что является источником возникающих между ними недоразумений. Байрон совершенно верно заметил, что в жизни мужчины любовь представляет собой лишь одно из занятий, тогда как для женщины она и есть жизнь». Женщина, «поскольку она в любом случае обречена на зависимость, то вместо того, чтобы подчиняться тиранам – родителям, мужу, покровителю, – она предпочитает служить божеству (любви). Она добровольно и с таким жаром желает своего рабства, что оно кажется ей выражением ее свободы. Она стремится преодолеть свою „ситуацию“ второстепенного объекта, полностью вживаясь в нее; своей плотью, чувствами и поступками она торжественно превозносит возлюбленного, видит в нем высшую ценность и реальность, простирается перед ним ниц. Любовь становится для нее религией». Подлинная любовь возможна только между двумя равными, автономными индивидами: «Подлинная любовь должна была бы быть основана на взаимном признании двух свобод. Каждый из любящих чувствовал бы себя в этом случае и самим собой и другим». – де Бовуар С. Второй пол / Пер. с фр., общ. ред. и вступ. ст. С. Г. Айвазовой; коммент. М. В. Аристовой. В 2 т. М.; СПб., 1997. С. 722, 723, 747.
218
См., например, Badinter E. Mother Love: Myth and Reality: Motherhood in Modern History. N. Y., 1981; Schütze Y. Die gute Mutter: Zur Geschichte des normativen Musters «Mutterliebe». Bielefeld, 1986.
219
Эмоциям в гендерной истории отведено маргинальное место: показательно, что в таком известном введении в гендерную историю, как Opitz-Belakhal C. Geschlechtergeschichte (Frankfurt a. M., 2010), о чувствах лишь вскользь упомянуто – например, в самом конце резюме IV тома «Истории частной жизни»: Histoire de la vie privée / Ariès Ph., Duby G. (Ed.). 5 tomes. Т. IV: De la Révolution à la Grande Guerre; P., 1987.
220
Saurer E. Liebe, Geschlechterbeziehungen und Feminismus // L’Homme. 1997. № 8. S. 20.
221
Stearns P. N., Stearns C. Z. Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards // American Historical Review. 1985. № 90. P. 813.
222
Пример взят из: Ibid. P. 825.
223
См., например, Stearns C. Z., Stearns P. N. Anger: The Struggle for Emotional Control in America’s History. Chicago, 1986.
224
См. Stearns P. N., Stearns C. Z. Emotionology. P. 830.
225
См. Rosenwein B. Worrying about Emotions in History. P. 824–825.
226
См. Stearns P. N., Stearns C. Z. Emotionology. P. 818 (Демос). P. 832 (Де Сваан).
227
См., например, Rudé G. F. E. The Crowd in History, 1730–1848: A Study of Popular Disturbances in France and England, 1730–1848. N. Y., 1964 [сокр. рус. изд.: Рюде Д. Народные низы в истории, 1730–1848 / Пер. с англ. Е. И. Бухаровой, А. О. Зелениной. М., 1984]; Tilly C., Tilly L., Tilly R. H. The Rebellious Century, 1830–1930. Cambridge, Mass., 1975; Tilly C. From Mobilization to Revolution, Reading MA, 1978.
228
См. Stearns P. N., Stearns C. Z. Emotionology. P. 816–817.
229
См. Stearns C. Z., Stearns P. N. Anger; Stearns P. N. Jealousy: The Evolution of an Emotion in American History. N. Y., 1989; Idem. American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style. N. Y., 1994; Idem, Lewis J. (Ed.) An Emotional History of the United States. N. Y., 1998; Stearns P. N. American Fear: The Causes and Consequences of High Anxiety. L., 2006.
230
См. Rosenwein B. Worrying about Emotions in History. P. 826.
231
Следует упомянуть также конференцию «The Historicity of Emotions» (1998), возникшую на основе шестимесячного семинара в Institute for Advanced Studies при Еврейском университете в Иерусалиме. В конференции принимали участие выдающиеся историки, такие как Натали Земон Дэвис и Энтони Графтон. Организаторами были Майкл Хейд и Йосеф Каплан. – Сообщение по электронной почте от Михали Альтбауэр-Рудник, 10.06.2007.
232
См. Reddy W. M. Against Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions // Current Anthropology. 1997. № 38. P. 327–351; Idem. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge, 2001.