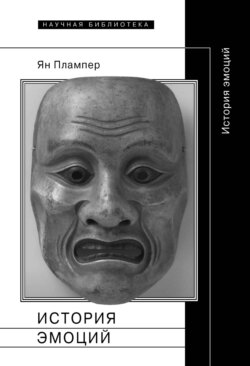Читать книгу История эмоций - - Страница 4
ВВЕДЕНИЕ
Что такое эмоция?
Оглавление«Что такое эмоция?» – так называлась знаменитая статья американского психолога Уильяма Джеймса (1842–1910), опубликованная в 1884 году26. Джеймс дал ответ на свой вопрос – мы к нему еще вернемся, – но уже то, что и вопрос, и ответ были предложены именно психологом, говорит о многом. Это подводит нас к первоочередному вопросу: а кто на самом деле определяет, что такое эмоции? Ведь в дискурсе об эмоциях не всегда господствующую роль играли одни и те же дисциплины, они сменяли друг друга, а некоторых – скажем, психологии – в прежние века и вовсе не существовало. Применительно к Западу можно в общих чертах сказать, что с античных времен до 1860‐х годов определяющую роль в рефлексии по поводу эмоций играли прежде всего философия и теология, а также риторика, медицина и художественная литература, а после 1860‐х годов – экспериментальная психология и, в частности, в последние двадцать лет – экспериментальная психология, особенно ее нейронаучное направление27.
Однако такая обобщенная формулировка, конечно, требует дифференциации. Во-первых, то, что можно было бы назвать метаисторией эмоций, – кто, когда и насколько авторитетно мог говорить о чувствах и в каких отношениях эти говорящие состояли друг с другом в тот или иной период, – пребывает в зачаточном состоянии и написано только для определенных периодов. Сколько-нибудь надежное знание у нас есть только по Древней Греции, по колониальной Америке XVIII века и по Великобритании XIX века28. От этой книги тоже не следует ждать «тотальной» историографии метаистории эмоций – такой, которая связала бы существующие несколько островков знания в один архипелаг и заполнила бы океаны между ними; тут могут быть даны только предложения по поводу того, на что следовало бы обратить внимание при написании такой histoire totale.
Во-вторых, такая схема – сначала 2500 лет западной философской и богословской мысли, а потом на смену им приходят 150 лет психологических исследований – проблематична, поскольку для многих людей в мире рефлексия незападных культур по поводу чувств имела и имеет не меньшее значение. Более того, процессы трансфера между «западной» рефлексией по поводу эмоций и «незападной» были – до того как психология около 150 лет назад сделалась основным поставщиком понятий, используемых в этой рефлексии, – настолько разнообразными и разнонаправленными, что на самом деле даже невозможно всерьез использовать слова «западный» и «незападный» как аналитические категории29.
Есть еще один первоочередной вопрос, который мы не сможем обойти. Имеем ли мы в виду одно и то же, когда говорим об «эмоции» в нейронауке образца 2001 года, представленной Герхардом Ротом, и об «эмоции» в экспериментальной эволюционной психологии образца 1979 года, представленной Клаусом Шерером? Об «эмоции» в исторической науке образца 2000 года, представленной Уте Фреверт, и об английской emotion в нейронауке образца 1998 года, представленной Яаком Панксеппом? Когда мы говорим о Gefühl у физиолога и психолога Вильгельма Вундта в 1863 году и о Gemüthsbewegung в немецкой энциклопедии Брокгауза 1928 года? О французских les affects у философов Жиля Делёза и Феликса Гваттари, писавших в 1980 году, об индонезийском perasaan hati в середине 1980‐х годов, английском affect у философа Брайана Массуми, писавшего в 2002 году, и об итальянских emozioni у криминолога Чезаре Ломброзо, писавшего в 1876 году?30 Одним словом: имеется ли достаточное единство значения всех этих слов, которое позволяло бы нам все эти очень разные обозначения, взятые из разных полей, эпох и культур, разбирать как одно понятие «эмоции»?
На первый взгляд это не так. Даже в одной ограниченной области, такой как англоязычная экспериментальная психология, было насчитано 92 различных определения эмоции за период 1872–1980 годов31. Трудность определения эмоции часто рассматривается в качестве ее основной характеристики: например, один американский кардиолог в 1931 году называет эмоции «чем-то текучим и летучим, что приходит и уходит, словно ветер, неизвестно как»; а полстолетия спустя два психолога констатируют: «Что такое эмоция, знает каждый – пока его не попросят дать определение»32.
Тем не менее есть три соображения в пользу того, чтобы все упомянутое рассматривать как одну и ту же «эмоцию». Во-первых, многие понятия этимологически связаны между собой. Если мы проследим происхождение слов emotion и Gemüthsbewegung (движение души), то придем к латинскому глаголу movere (двигать). Проследить и показать все эти этимологические линии во многих языках – задача для крупного проекта по созданию всеобщей истории понятий, описывающих чувства, и осуществить его можно было бы только при участии множества исследователей. Кстати, даже культуры, в которых понятия эмоции нет и в помине, часто заимствуют слово emotion – например, тибетская. Приезжающие в Тибет люди так часто спрашивали местных жителей, почему у них нет слова для эмоций, что те создали неологизм – tshor myong33.
Во-вторых, при сравнениях и попытках перевода можно обнаружить сходства и различия. На самом деле такие попытки в высшей степени продуктивны, из них в большой мере и состоит терминоведение.
И наконец, в-третьих, наука без метапонятий – номиналистическая наука – была бы царством полной контингентности. Это само по себе не страшно, но поскольку существует на рынке спрос на антиноминалистическую науку, в том числе историю эмоций, эта наука будет производиться.
Я решил использовать слово «эмоции» как метапонятие. В качестве его синонима я использую слово «чувство». Вместе с тем я не хочу уклоняться от выполнения задачи по историзации, поэтому стараюсь четко обозначать специфичное использование каждого из этих двух терминов всякий раз, когда они встречаются в языке источника. Иначе обстоит дело со словом «аффект»: в последнее время под влиянием нейронаук оно все больше принимает значение чисто телесного, довербального, бессознательного эмоционального переживания и в этой книге не будет применяться как метапонятие. Если бы я использовал слово «аффект» в таком качестве, мне во многих местах пришлось бы пускаться в многословную полемику против этого доминирующего сегодня словоупотребления и за учет элементов оценки, вербализации и сознания.
Но вернемся к нашему исходному вопросу: что такое эмоция? Сегодня психология в облике нейронауки в большой мере господствует над публичным и трансдисциплинарным научным дискурсом об эмоции. Но при этом она, как правило, страдает коллективной амнезией в том, что касается истории ее собственных, психологических идей (не говоря уже о философских), касающихся темы эмоций, хотя в последнее время в самой нейронауке стали все чаще раздаваться голоса, которые свидетельствуют, что философия «всей своей историей предвосхищала естественно-научные исследования»34. То, что ждет читателя ниже, – это написанный крупными мазками набросок истории философской рефлексии по поводу эмоций на протяжении двух с половиной тысячелетий. При этом часто будет идти речь и о рецепции этой рефлексии, в том числе и в современной психологии, включая «молчаливую» рецепцию, то есть такую, при которой философские связи не осознавались. Если в конце у читателя сложится хотя бы приблизительное представление о богатстве и сложности философии эмоций, значит эти страницы выполнят одну из своих задач.
Одно из первых дошедших до нас – и вместе с тем одно из самых живучих и влиятельных определений эмоций дал Аристотель (384–322 гг. до н. э.)35. Он описал греческое понятие pathos (во множественном числе – pathê) следующим образом:
Страсти – все то, под влиянием чего люди изменяют свои решения, с чем сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, как, например, гнев, сострадание, страх и все этим подобные и противоположные им [чувства]36.
Это цитата из «Риторики», из того пассажа в ней, где речь идет о том, как эмоции замутняют способность творящих правосудие людей к вынесению здравого суждения. Целевой группой данного текста были все те, кому по роду их деятельности в политике или в суде нужно было эмоционально влиять на других посредством ораторского искусства. Аристотель дал им своего рода инструкцию. Во второй части цитаты указывается на качество эмоций – они могут быть как приятными, так и неприятными, и это относится ко всем перечисленным далее эмоциям, равно как и ко всем прочим. То есть Аристотель делил эмоции не просто на положительные и отрицательные, как это часто делают сегодня: для него каждая эмоция обладала качеством в зависимости от того, как она воспринималась – положительно или отрицательно, – и у каждой эмоции в этом самом раннем из всех каталогов аффектов, за которым последовало множество других, была противоположность.
Этот пассаж интерпретируют по-разному: некоторые считают, что он нетипичен для Аристотеля и значение его ограничивается прагматическим контекстом ораторского искусства; другие считают, что он типичен не только для аристотелевских представлений об эмоциях, но и вообще для тех, что были распространены в полисах Древней Греции в классическую эпоху (ок. 500 – 336/323 до н. э.): согласно им, «эмоции понимались как реакции, но не на события, а на действия или на ситуации, которые были результатом действий и имели последствия для собственного относительного престижа человека или для относительного престижа других»37. Одни видели в Аристотелевом перечне страстей уже те самые базовые эмоции, о которых писал психолог Пол Экман в конце ХХ века, другие же считали, что изложенная Аристотелем концепция эмоций и сделанный им акцент на оценочной составляющей – это предшественники когнитивной экспериментальной психологии оценки (appraisal), существовавшей тогда же, когда концепция Экмана, но противоположной ей. Третьи же полагали, что перечень Стагирита отсылает нас к сегодняшней социальной психологии, подчеркивающей межличностные, коммуникативные функции эмоций38. Как видим, даже на очень древние рассуждения об эмоциях с удовольствием проецируются фундаментальные разногласия науки новейшего времени. Но мы остановимся на Аристотеле и одной эмоции – гневе (оrgē). В «Риторике» говорится:
Пусть гнев будет определен как соединенное с чувством неудовольствия стремление к тому, что представляется наказанием за то, что представляется пренебрежением или к нам самим, или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следовало. Если таково понятие гнева, то человек гневающийся всегда гневается непременно на какого-нибудь определенного человека, например на Клеона, а не на человека [вообще], и [гневается] за то, что этот человек сделал или намеревался сделать что-нибудь самому [гневающемуся] или кому-нибудь из его близких; и с гневом всегда бывает связано некоторое удовольствие, вследствие надежды наказать, так как приятно думать, что достигнешь того, к чему стремишься. Никто не стремится к тому, что ему представляется невозможным, и гневающийся человек стремится к тому, что для него возможно. Поэтому хорошо сказано о гневе: «Он в зарождении сладостней тихо струящегося меда, / Скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает!» Некоторого рода удовольствие получается от этого и, кроме того, [оно является еще и] потому, что человек мысленно живет в мщении; являющееся в этом случае представление доставляет удовольствие, как и представления, являющиеся во сне39.
Соответственно, гнев невозможно отнести исключительно к положительным или исключительно к отрицательным эмоциям. Хотя он и несет боль, вместе с тем он заключает в себе и ожидание «сладкой» мести. Кроме того, концепция гнева у Аристотеля включала в себя также временнóе измерение: гнев проходит, тогда как ненависть бесконечна во времени. И наконец, определенную роль в гневе играет воображение: месть сладка, и сладостная месть – это месть воображаемая; здесь ожидание расцветает в царстве фантазии.
Вообще, Аристотель связал pathē с миром фантазии и тем самым подготовил почву для дальнейших размышлений об эстетике и чувствах: отличается ли мое сочувствие ближнему, который упал с велосипеда и к которому я спешу на помощь, от моего сочувствия литературному герою Оливеру Твисту, и если да, то как? Можно ли эмоциональные реакции на «настоящие» стимулы из окружающей среды приравнять к эмоциональным реакциям на культурные продукты, такие как романы, фильмы или компьютерные игры? И как обстоит дело с моей боязнью пауков, которая у меня в голове начинает функционировать самостоятельно и неконтролируемо, превращая меня в пленника в комнате без окон? Аристотель считал, что чувства, не связанные с действительностью, то есть чистые продукты фантазии – слабее, нежели чувства, имеющие отношение к реальному миру40.
Только в философии Платона (424/423–348/347 до н. э.) и его ученика Аристотеля чувства (pathē) стали рассматриваться как состояния, источник которых в самом человеке. Так было не всегда: «Литературные персонажи Гомера еще считали, что практически беззащитны и бессильны перед властью чувств», и досократики тоже определяли эмоции как нечто приходящее извне, а не порожденное внутри человека. Параллели с описанными выше воинами маори, чей страх приписывался атуа, здесь очевидны41. Возможно, именно в силу длинной тени, отбрасываемой древнегреческими теориями эмоций, многие метафоры, которые мы сегодня используем, говоря о наших чувствах, созвучны представлению об эмоциях как о чем-то внешнем: на нас «нападает ярость», нас «охватывает радость», а если мы влюбимся, то к нам «нагрянет любовь»42. Но это не значит, что древнегреческие философы одобрили бы схемы «стимул – реакция», подобные улицам с односторонним движением, не оставляя пространства для оценки и вынесения суждения. Напротив, Аристотель определял страх как «некоторого рода неприятное ощущение или смущение, возникающее из представления о предстоящем зле, которое может погубить нас или причинить нам неприятность», и рассматривал эту – иногда телесную – реакцию на воображаемые будущие невзгоды не как автоматическую: он считал, что убеждения, мнения и верования способны прервать протекание эмоции43. То есть мой страх перед увиденной в лесу ядовитой змеей Аристотель объяснил бы тем воображаемым злом, которое угрожает мне, если она меня укусит, но всегда признавал бы за мной возможность либо вовсе не запускать эмоциональную программу «страх» – потому, например, что я стал большим любителем змей с тех пор, как в шесть лет побывал в террариуме в Бостонском зоопарке, – либо эту программу остановить, потому что я в сорок лет, пройдя курс поведенческой терапии, научился справляться с боязнью змей.
Кроме того, эмоции, как их понимал Аристотель, благодаря присущей им оценочной составляющей можно изменять, причем не только у себя, но и у других людей, особенно младшего возраста. Молодежи, считал философ, необходима школа чувств, чтобы она могла заучить правильные суждения и превратить их в привычку44.
Стоики в своем определении эмоций шли за Аристотелем до той точки, где он говорил об оценке45. Но как только заходила речь о воспитании молодежи, пути их расходились: согласно пантеистическому воззрению стоиков, следовало видеть более широкий контекст и ничтожность эмоций. Цель, считали они, в том, чтобы достигнуть состояния отсутствия эмоций, или душевного покоя – апатии (apatheia), а затем и атараксии (аtaraxeia)46. Любовь и брак настолько незначительны в масштабах всей пантеистической конструкции, что их следует избегать. Эта форма контролирования эмоций вызвала долгое эхо: от римского императора Марка Аврелия (121–180 н. э.), который в «Посланиях к самому себе» тоже говорил об атарактическом идеале и особенно политикам рекомендовал покой, до американского философа Марты Нуссбаум, которая называет себя «неостоиком» и в своем понимании эмоций на первое место ставит собственное благополучие человека – и потому акцентирует стоическое спокойствие духа, – но при этом видит в эмоции всегда также и оценочное суждение (appraisal)47.
Во II веке н. э. один греческий врач, находившийся под влиянием Платона, высказал мысли об эмоциях, оказавшие влияние на многие поколения арабских и европейских врачей вплоть до итальянского Возрождения: Гален (ок. 130 – ок. 200) создал учение о темпераментах, в котором он связал каждую из четырех жидкостей – кровь, слизь, желтую желчь и черную желчь – с двумя типичными качествами48. Избыток какого-нибудь одного из этих соков, считал Гален, приводил к тому, что в темпераменте человека проявлялись те или иные свойства.
Терапевтический потенциал Гален усматривал не в химических веществах или воздействии на тело, а в нравственном воспитании и умеренности. Учение Галена о четырех соках и особенно связанная с ним гуморальная патология (деление людей на холериков, сангвиников, меланхоликов и флегматиков) – то есть описание экстремальных, излишних эмоций, – в модифицированной форме встречаются еще у Канта и у некоторых психологов конца XIX и начала ХХ века49.
Ил. 2. Учение Галена о четырех жидкостях и соответствующих им эмоциональных типах
Фундаментальное значение для большей части рефлексии по поводу чувств со времен Платона имела идея о трех составных частях души. У Платона душа состояла из разумной (logistikon), волевой (thymoeides) и вожделеющей (epithymetikon) частей. Это предположение было поколеблено уже Аристотелем и стоиками, но более всего – в поздней Античности Аврелием Августином (354–430), на которого оказали влияние трактаты об эмоциях, написанные раннехристианскими монахами50. Августин создал иерархическую, ступенчатую модель души, в которой низшая ступень была чисто вегетативной и телесной, а наивысшая, седьмая – ступень лицезрения Бога или божественного просветления51. Две верхние ступени были зарезервированы за мужчинами. Кроме того, аристотелианскую и стоическую модель деления эмоционального процесса на две части, в которой первое движение (primus motus) было скорее телесным шагом, а вторым шагом была когнитивно-моральная оценка, Августин заменил единой категорией эмоций (motus), подчиненной воле:
Разница состоит в том, какова воля человека: если она превратна, то будут превратны и эти движения; если же она добра, то и движения будут не только не предосудительны, но и похвальны. Ибо воля присуща всем им; более того, все они суть не что иное, как воля. Ведь что такое страстное желание и радость, как не воля, сочувствующая тому, чего мы хотим? И что такое страх и печаль, как не та же воля, не сочувствующая тому, чего мы не хотим?52
Однако вследствие первородного греха воля, как правило, ведет человека в неверном направлении. Только тот, кто принял Божью благодать и ориентирует свою волю по Богу как по фиксированной точке, может сделать свои чувства положительными. Идеи Августина коренным образом противоречили взглядам классических греческих философов, потому что, в отличие от стоиков, в чьей пантеистической концепции божественное присутствовало в Земле и в природе, у Августина божественное располагалось вне досягаемости, в сфере трансцендентности, а эмоции были направлены на жизнь после смерти; все земное, включая человеческое тело, рассматривалось как грязное и преходящее53. В отличие от Аристотеля, в чьей мысленной вселенной эмоциональные и когнитивные аспекты были неразрывны, у Августина уже намечалось деление на эмоции и разум, которое любят приписывать Декарту54. Кроме того, если у стоиков идеалом была эмоциональная невозмутимость в жизни, то Августин приветствовал эмоции в жизни – до тех пор, пока они были подчинены воле и направлены на Божественное55.
Средневековая рефлексия по поводу эмоций изучена хуже, чем античная, а кроме того, она почти не оказала влияния на последующие эпохи. Поэтому и схоластика, особенно Фома Аквинский (1225–1274), рассматривается обычно в качестве приложения к Аристотелю и Августину56. Что-то действительно новое, как всегда пишут, появляется только у Рене Декарта (1596–1650). Декарт считается не только самым влиятельным философом Нового времени, но и основателем всех дуализмов – в первую очередь, разумеется, дуализма души и тела, но и оппозиции «разум vs. чувство»57. В этом смысле часто истолковывали и его формулу «Я мыслю, следовательно, я существую». Так, например, нейробиолог Антонио Дамасио усматривает в этом высказывании «ошибку Декарта» (таково название его бестселлера 1994 года):
Если понимать это утверждение буквально, то оно прямо противоположно тому, как я понимаю (на мой взгляд, правильно) источники разума и отношение между разумом и телом: тут утверждается, что мышление и осознавание мышления суть истинные субстраты бытия. А так как мы знаем, что Декарт представлял себе мышление как деятельность совершенно отдельную от тела, то это утверждение провозглашает отделение разума, «думающей вещи» (res cogitans), от недумающего тела – того, у которого имеются размер и механические части (res extensa). […] Вот в чем ошибка Декарта: пропасть, отделяющая тело от разума, пропасть между поддающимся измерению, имеющим пространственные размеры, механически функционирующим, бесконечно делимым веществом тела, с одной стороны, и неподдающимся измерению, не имеющим пространственных размеров, неосязаемым, неделимым веществом разума; предположение, что и рассуждение, и моральное суждение, и страдания, которые происходят от физической боли или эмоционального потрясения, могут существовать отдельно от тела, а конкретно – отделение наиболее тонких и сложных операций разума от структуры и функционирования биологического организма58.
Недавно на это было выдвинуто возражение: Декарт – и в этом он принципиально отличался от христианских философов, таких как Августин и Фома Аквинский, – рационализировал Бога, то есть заявил, что Он есть высшее воплощение разума, а тем самым как бы вложил разум и в эмоции. Так, например, его концепция страха предполагала такую инстанцию, как воля, – например, когда контроль страха понимался не как подавление страсти, а как победа одной страсти над другой: «полезные мысли, нацеленные на то, чтобы разжечь одну страсть (например, мужество), которая противодействует другой (например, страху)»59.
Однако подобные ревизионистские концепции не должны заслонять от нашего взора то, что было у Декарта новым, неслыханным, – скажем, когда он в «Страстях души» заявил, что собирается исследовать эмоции «не как оратор и не как моральный философ, а как физик» (en physicien) и отделить их от души, чтобы изучить их, подобно всем живым организмам (за исключением человеческой души), как механизмы60. Он приводил такой пример: когда палец другого человека приближается к нашему глазу, даже если наш разум знает, что это палец друга, наше тело реагирует механизмами страха и защиты – мы моргаем. Наш разум оказывается в этой ситуации бесполезным, потому что «машина нашего тела устроена так, что движение этой руки к нашим глазам вызывает другое движение в нашем мозгу, который направляет духи в мышцы, заставляющие веки закрываться»61.
Именно на Декартову теорию опирался придворный живописец короля Людовика XIV Шарль Лебрён, создавший анатомические зарисовки эмоций и тем самым впервые связавший чувства с репрезентированными техническими средствами (то есть нарисованными, сфотографированными, сгенерированными на компьютере) лицами (и мозгами). Влияние созданной Лебрёном графической классификации выражений лица при различных эмоциях было огромным62 и сохранялось до XIX века, хотя уже при его жизни появились критики, отмечавшие, что идеальнотипические лица в своей статичности не отражали ни процессуального характера эмоций, ни их смешанности. О том, что эмоцию нельзя представлять себе в чистом виде, часто говорили, между прочим, противники теорий базовых эмоций в конце ХХ века63.
Как альтернативу Декарту, считающемуся дуалистом, часто представляют Баруха Спинозу (1632–1677). В последние годы наблюдается грандиозный спинозианский ренессанс в телесно-ориентированных общественных науках, литературоведении и искусствоведении (о них подробнее пойдет речь ниже и в главе III). Эта конъюнктура заметна даже по заглавиям научно-популярных книг Дамазио от критической работы «Ошибка Декарта: эмоции, разум и человеческий мозг» до апологетической «В поисках Спинозы: радость, печаль и чувствующий мозг»64. Можно было бы утверждать, что Спиноза сегодня так хорошо согласуется с нейронауками благодаря неаккуратности и многозначности своих мыслей, а можно объяснить возродившийся интерес к нему тем, что он отказался от дуализмов (его часто называют монистом, поскольку он верил в единую божественную субстанцию) и потому рассматривал чувства и душу как аспекты одной и той же единой реальности. Сочетание естественно-научной, геометрической рефлексии с рефлексией по поводу эмоций в его главном труде – «Этике, доказанной в геометрическом порядке» (1677) – делает его особенно привлекательным для литературоведов, интересующихся нейронаукой, и нейрологов, интересующихся литературой.
Спиноза считал, что разум, а значит и чувства, – часть природы. Следовательно, они подчиняются ее всеобщим законам и, как и все остальное, включая Бога, могут быть изображены «точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах»65. Кроме того, он делил чувства на «действия» и «страсти»: причина первых – внутри нас самих, а причины вторых находятся вне нас, однако при этом внутренняя и внешняя сферы не различаются категориально: и та и другая суть природа. Спиноза считал, что существует только три основных чувства: радость, печаль и стоящее выше их чувство вожделения/желания (cupiditas). Из этих (и некоторых других) элементов своей рефлексии по поводу чувств он сложным путем выстраивал законы, имевшие вид афоризмов, например:
Теорема 38. Если кто начал любимый им предмет ненавидеть, так что любовь совершенно уничтожается, то вследствие одинаковой причины он будет питать к нему бóльшую ненависть, чем если бы никогда не любил его, и тем бóльшую, чем больше была его прежняя любовь66.
Подобные теоремы, столь похожие на физические законы, уже в XIX веке нравились физиологам, а потом экспериментальным психологам67. Нынешний бум спинозизма характеризуется прежде всего тем, что подчеркивается его монизм. Литературоведы и социологи ссылаются на него, когда хотят повысить ценность материального – будь то бытовые предметы, деревья или арктические льды. За материей в таких случаях признается наличие чувств и в конечном счете способности к сознательному действию, причем не меньше, чем у человека, а следовательно, материя оказывается в радиусе действия нашей эмпатии, становится достойной защиты, даже нуждающейся в защите, а это делает подобные идеи привлекательными для экологов и ряда других постмарксистских политических проектов68. Литературоведы и социологи ценят в монизме то, что он позволяет рассматривать мыслительные процессы как телесные69.
Кроме того, в нейронауках некоторые ссылаются на монизм Спинозы, потому что он предвосхитил выводы этих дисциплин – например, высказав мысль, что «разум и тело представляют собой параллельные и взаимосвязанные процессы, которые постоянно подражают один другому и подобны двум сторонам одной медали» и что «глубоко внутри этих параллельных феноменов существует механизм репрезентации телесных событий в разуме»70. Спиноза, как утверждают, совместим даже с теорией эволюции и идеей гомеостаза, согласно которой все живое стремится к самосохранению, и более того: его теория добродетели подтверждаетcя нейронаукой: «формирование и совершенствование способности человека к суждению – тяжелый труд, но до определенной степени само устройство нашего мозга предрасполагает нас к тому, чтобы сотрудничать с другими людьми ради обеспечения этой способности»71. В общем, Спиноза – «протобиолог»72.
Хотя Томас Гоббс (1588–1679) никогда не писал отдельных работ об эмоциях, он постоянно касался их в своем творчестве – и в «The Elements of Law, Natural and Politic», и в «Левиафане», и в «О человеке». Даже больше: «Ни один мыслитель его времени не придает им такое значение, как он»73. Естественное состояние людей Гоббс описывал как страшное изживание чувств (passions): «Нет […] ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна»74. Но это состояние таит в себе надежду на то, что изживание чувств и страх ненадолго уравновесят друг друга и сделают возможными рациональные решения. Из этого равновесия, писал Гоббс, возникает общественный договор; только он может вывести человека из естественного состояния.
Гоббс считал все чувства движениями тела, связанными с волей и направленными на внешние объекты. Направлений их движения только два, а именно к объекту (желание/влечение, appetite) или от объекта (отвращение, aversion). Если мы некий объект ни желаем, ни отвергаем, значит мы его презираем и держим наше тело (наше сердце) в середине между двумя движениями. Из этих двух направлений образуется краткий каталог основных («простых», как выражается Гоббс) эмоций, таких как любовь, печаль и радость, а в сочетании с другими факторами – бесконечный каталог других эмоций75. Однако следует отметить, что Гоббса «интересовал главным образом […] не психологический анализ, а разработка такой концепции человеческой природы, которая объясняла бы поступки людей и обеспечивала бы внятную основу для гражданских институтов и политического правления»76.
На идеи теоретиков государства, таких как Гоббс и его оппонент Джон Локк (1632–1704), отреагировали шотландские моральные философы XVIII века, которые придумывали сложные системы чувств и ввели в оборот категорию эмпатии, в наши дни снова активно обсуждаемую. Энтони Эшли-Купер, граф Шефтсбери (1671–1713), который был тесно связан с шотландскими моральными философами, задался – с позиций утилитаризма – вопросом о пользе эмоций. Его концепция чувств была гораздо более реляционной, чем у Гоббса: по его мнению, одна часть эмоций – естественные страсти (natural affections) – направлена в основном на окружающих, в то время как неестественные страсти (unnatural affections) – антиобщественные, нацелены только на собственную выгоду77. Кроме того, Шефтсбери, в отличие от Гоббса, считал, что в человеческой природе «в конечном счете уживаются добродетель и корысть»78. Чувства, по его мнению, априори морально ценны, в том числе и стремление к счастью (pursuit of happiness). Различные чувства в человеке соотносятся друг с другом, «как струны музыкального инструмента», стремящиеся к естественной гармонии79.
Еще на один шаг дальше пошел Фрэнсис Хатчесон (1694–1746), тоже моральный философ, который считал, что эмоции «по природе своей уравновешивают друг друга, как антагонистические мышцы в теле»80. Дэвид Юм (1711–1776), который сам называл себя «языческим» философом, даже возвел страсти, или эмоции (passions), в ранг инстанции, контролирующей разум: «Разум есть и должен быть лишь рабом аффектов»81. Для Юма разум как таковой не обладал никаким «оценочно-репрезентационным содержанием», а потому вполне разумным может быть и убийство82. Безнравственным убийство становится только благодаря вовлечению чувств. Юм подчеркивал:
Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с разумом, если предпочту, чтобы весь мир был разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец. Я не вступлю в противоречие с разумом и в том случае, если решусь безвозвратно погибнуть, чтобы предотвратить малейшую неприятность для какого-нибудь индийца или вообще совершенно незнакомого мне лица. Столь же мало окажусь я в противоречии с разумом и тогда, когда предпочту несомненно меньшее благо большему и буду чувствовать к первому более горячую привязанность, чем ко второму83.
Помимо идеи о страсти как инстанции, управляющей разумом, есть в рефлексии Юма по поводу эмоций вторая линия, которой уделяется сегодня всё больше внимания, а именно – сопереживания (у Юма – sympathy). Согласно концепции Юма, сопереживание – это сложнейший процесс, лишь упрощенно описываемый медицинской метафорой «заражения»: когда мы наблюдаем внешние признаки чувств у кого-нибудь из окружающих (например, слезы, когда человек страдает), мы у себя в уме формируем представление о чувствах этого человека, которое может вступить в связь (association) с нашим представлением о собственных чувствах и за счет этого вызвать новые чувства, способные управлять нашими действиями (например, заставить нас обнять человека, чтобы утешить его)84. Эта область рефлексии Юма – и Адама Смита (1723–1790) – по поводу эмоций отбрасывает длинные тени, достигающие сегодняшнего дня: мы обнаруживаем их у философа Макса Шелера, писавшего в 1920 году о «заражении чувствами», у Джона Майера и Питера Сэловея с их концепцией эмоционального интеллекта (популяризована Дэниелом Гоулманом), в «теории сознания» (Theory of Mind) и в исследовании зеркальных нейронов в нейронауке85.
С наступлением Просвещения декорации на сцене рефлексии по поводу эмоций еще раз поменялись. На трон был возведен разум, и потребовались жертвы – одной из них стало более строгое разделение между разумом и чувством. Соответственно, чувство, определяемое теперь как «не-разумное», одни прославляли, а другие проклинали. Прославляли его прежде всего в так называемую эпоху сентиментализма (ок. 1720 – 1800), когда провозвестником культа эмоциональной аутентичности стал Жан-Жак Руссо (1712–1778). Он полагал, что люди в идеальном состоянии от природы равны и не испорчены дурным влиянием культуры. «Не тот человек больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всего чувствовал жизнь», – писал он в своем романе «Эмиль, или О воспитании» (1762)86. Соответственно, воспитание чувств означало, согласно Руссо, возвращение человека к его первоначальному состоянию, прочь от влияния культуры. Поэтому не удивительно, что Руссо агитировал против чувств в театре, говоря, что они наигранные, а значит – ненастоящие. Кроме того, эмоции, демонстрируемые актерами, опасным образом затрагивают эмоции зрителей: «Разве не известно, что все страсти – сестры, что довольно одной, чтобы пробудить тысячу других?» Обществу грозит перевозбуждение и, в конце концов, даже потеря контроля над собой87.
Из всех мыслителей Просвещения наиболее отчетливо разделение разума и эмоций заметно у Иммануила Канта (1724–1804) – причем, в отличие от Руссо, с однозначно отрицательным знаком. Хотя Кант не выработал цельной теории чувств, он часто касался эмоций в своих произведениях и к концу жизни стал отводить им важную роль «Другого» для разума. Сначала, продолжая линию Юма, Кант писал о моральных чувствах, но с 1790‐х годов встал на решительно антиэмоциональную точку зрения, которая отражает бинарную оппозицию «emotio vs. ratio», актуальную и по сей день. В «Антропологии с прагматической точки зрения» (1798) он разделил эмоции на аффекты и страсти и определил чувства как нечто неподвластное разуму, а потому и не имеющее никакого отношения к морали. Аффекты, согласно классификации Канта, – это нечто внезапное, «чувство […] удовольствия или неудовольствия в настоящем состоянии, не оставляющее в субъекте места для размышления (разумного представления о том, следует ли отдаться этому чувству или противиться ему)»88. Если аффекты могут стать по крайней мере «временным суррогатом разума», то страсти располагаются далеко за пределами области морали, руководствующейся разумом: «Склонность, которую разум субъекта может подавить только с трудом или совсем не может подавить, – это страсть»89. Это означало для Канта лишь одно: «Подчинение аффектам и страстям всегда есть болезнь души, так как и те и другие исключают господство разума»90. Основа внутренней свободы – самоконтроль, а для него нет ничего опаснее чувств91. Короче говоря, «ни один человек […] не желает себе страсти. В самом деле, кто захочет заковать себя в цепи, если он может остаться свободным?»92
Что такое эмоция? Прервем на этом месте обзор ответов выдающихся философов на данный вопрос. Начиная примерно с 1800 года рефлексия по поводу чувств стала осуществляться в нескольких различных дисциплинах – в том числе в двух таких, которые только что были изобретены, – и об этом пойдет речь в последующих главах: об исторической науке – в главе I, об этнологии/антропологии – в главе II, об экспериментальной психологии – в главе III. Разумеется, философия в XIX–ХХ веках не перестала замечать эмоции. Скорее наоборот: Артур Шопенгауэр (1788–1860), Сёрен Кьеркегор (1813–1855), Фридрих Ницше (1844–1900), Мартин Хайдеггер (1889–1976), Жан-Поль Сартр (1905–1980) и многие другие, не говоря уже о бурно развивающейся в последние два десятилетия аналитической философии эмоций, внесли значительный вклад в разработку темы чувств, и об этом неоднократно будет идти речь в следующих главах. Следует также еще раз подчеркнуть, что приведенный обзор носит эскизный характер и что многое в картине еще может измениться при более интенсивном изучении теорий эмоций прошлых веков. К тому же этот эскиз ничего не говорит о том, насколько актуальна была рефлексия по поводу чувств в повседневной жизни своей культуры и эпохи. Например, в антиковедении только начато исследование эмоциональных культур древних греков за пределами теорий Платона и Аристотеля, на основе иных источников – прежде всего надписей на камне и глине, а также папирусов93.
26
James W. What Is an Emotion? // Mind. 1884. № 9. P. 188–205. Отсылки к этому заголовку вновь и вновь встречаются в названиях работ – таких, например, как книга психолога Джерома Кагана: Kagan J. What Is Emotion? History, Measures, and Meanings. New Haven, 2007.
27
Филип Фишер описывает (хотя и без хронологии) те области, в которых шли дискуссии об эмоции: «То, что мы знаем о страстях, и то, как мы о них думаем, с самого начала было сложным продуктом пересекавшихся, а иногда и взаимно затруднявших друг друга трудов в таких областях, как философия, литература – особенно эпос и трагедия, – медицина, этика, риторика, эстетика, юриспруденция и политическая мысль. В наше время ведутся новые работы в эволюционной биологии, психологии, антропологии, а в последнее время в области нейробиологии мозга, а также в теории игр, в экономике и, прежде всего, в философии, и они продолжают сплетать сложную ткань разделяемых, взаимозависимых, иногда перемешивающихся, даже взаиморазрушающих, а иногда помогающих друг другу идей». Fisher P. The Vehement Passions. Princeton, 2002. P. 7.
28
См., например, о Греции: Konstan D. The Emotions of the Ancient Greeks: Studies in Aristotle and Classical Literature. Toronto, 2006; о Северной Америке колониальной эпохи: Eustace N. Passion is the Gale: Emotion, Power, and the Coming of the American Revolution. Chapel Hill, 2008. P. 481–486; о Великобритании в XIX веке: Dixon T. From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological Category. Cambridge, 2003.
29
Об этих процессах трансфера – на примере эмоционального аспекта истерии в греко-персидско-арабско-индийском треугольнике – см. Attewell G. Refiguring Unani Tibb: Plural Healing in Late Colonial India. New Delhi, 2007. P. 225–237; на примере самих эмоций и их локализации в теле в греко-персидско-арабско-индийско-британском четырехугольнике см. Pernau M. The Indian Body and Unani Medicine: Body History as Entangled History // Michaels A., Wulf C. (Ed.) Images of the Body in India. New Delhi, 2011. P. 104–106.
30
См. Roth G. Fühlen, Denken, Handeln: Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Frankfurt a. M., 2001; Scherer K. R. Entwicklung der Emotionen // Hetzer H. (Hg.) Angewandte Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters. Heidelberg, 1979. S. 211–253; Scherer K. R. Nonlinguistic Vocal Indicators of Emotion and Psychopathology // Izard C. E. (Ed.). Emotions in Personality and Psychopathology. N. Y., 1979. P. 495–529; Rosenwein B. H. Worrying about Emotions in History // American Historical Review. 2002. № 107. P. 821–845; Panksepp J. Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. N. Y., 1998; Frevert U. Angst vor Gefühlen? Die Geschichtsmächtigkeit von Emotionen im 20. Jahrhundert // Nolte P., Hettling M., Kuhlemann F.-M., Schmuhl H.-W. (Hg.) Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte. München, 2000. S. 95–111; Darwin Ch. The Expression of the Emotions in Men and Animals. L., 1872; статья Affection // The Encyclopædia Britannica: A Dictionary of Arts, Literature, and General Information. Vol. A to Androphagi. 11th ed. Cambridge, 1910. P. 299–300, здесь p. 300; Wundt W. Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele (1863) цит. по: Wassmann C. Physiological Optics, Cognition and Emotion: A Novel Look at the Early Work of Wilhelm Wundt // Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 2009. № 64. P. 213–249; о «движениях души» (Gemüthsbewegung) цит. по: Frevert U. Gefühle definieren: Begriffe und Debatten aus drei Jahrhunderten // Frevert U. et al. Gefühlswissen: eine lexikalische Spurensuche in der Moderne. Frankfurt a. M., 2011. S. 11; Deleuze G./Guattari F. Mille Plateaux. P., 1980. P. 314; Heider K. G. Landscapes of Emotion: Mapping Three Cultures of Emotion in Indonesia. Cambridge, 1991. P. 41; Massumi B. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham NC, 2002; Lombroso C. L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza. Torino, 1876. P. 651.
31
См. Kleinginna P. R., Kleinginna A. M. A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition // Motivation and emotion. 1981. № 5. P. 345–379.
32
Roberts S. R. Nervous and Mental Influences in Angina Pectoris // The American Heart Journal. 1931. № 7. P. 22–23. Цит. по: Dror O. E. Modernity and the scientific study of emotions, 1880–1950, PhD. diss. Princeton University, 1998. P. 226; Fehr B., Russell J. A. Concept of Emotion Viewed from a Prototype Perspective // Journal of Experimental Psychology: General. 1984. № 113. P. 464.
33
См. Dreyfus G. Is Compassion an Emotion? A Cross-Cultural Exploration of Mental Typologies // Davidson R. J., Harrington A. (Ed.) Visions of Compassion: Western Scientists and Tibetan Buddhists Examine Human Nature. Oxford, 2002. P. 31.
34
Damasio A. R. Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. Orlando FL, 2003. P. 15.
35
Лучшее введение в тему эмоционального мышления от Платона до Августина – Rosenwein B. Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca, 2006. Ch. 1.
36
Аристотель. Риторика. 2.1, 1378a20–23. Общая работа: Krewet M. Die Theorie der Gefühle bei Aristoteles. Heidelberg, 2011.
37
«Нетипично и к тому же ограничивается риторикой»: Fortenbaugh W. W. Aristotle on Emotion. L., 2002. P. 114. «Типично для греческих полисов в целом и для Аристотеля в частности»: Konstan D. The Emotions of the Ancient Greeks. P. 40.
38
Аристотель как предтеча Экмана: Tavris C. A Polite Smile or the Real McCoy? [рецензия на Ekman P. Emotions Revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. N. Y., 2003] // Scientific American. 2003. № 288. P. 87–88. Аристотель как предтеча того подхода в когнитивной психологии, который занимается оценкой (appraisal): Cornelius R. R. The Science of Emotion: Research and Tradition in the Psychology of Emotion. Upper Saddle River NJ., 1996. P. 115; Kagan J. What is Emotion? P. 11–12; Lazarus R. Relational Meaning and Discrete Emotions // Scherer K. R., Schorr A., Johnstone T. (Ed.) Appraisal Processes in Emotion: Theory, Methods, Research. Oxford, 2001. P. 40. Аристотель как предтеча социальной психологии: Konstan D. The Emotions of the Ancient Greeks. P. 31 – автор цитирует социального психолога Агнету Фишер.
39
Аристотель. Риторика. 2.2, 1378a30–b10.
40
См. Knuuttila S. Emotions in Ancient and Medieval Philosophy. Oxford, 2004. P. 37, 40.
41
Demmerling C., Landweer H. R. Philosophie der Gefühle: Von Achtung bis Zorn. Stuttgart, 2007. S. 2. Ср. также по-прежнему актуальную работу Snell B. Die Entdeckung des Geistes: Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen. Hamburg, 1946.
42
Это относится и к другим языкам: «Мы говорим, что нас „парализовал“ страх, „сразила“ любовь, „обуяла“ ревность, „переполнила“ печаль, „ослепила“ ярость». – Solomon R. C. True To Our Feelings: What Our Emotions Are Really Telling Us. N. Y., 2007. P. 190. О метафорике античной философии эмоций см. Zill R. Meßkünstler und Rossebändiger: Zur Funktion von Metaphern und Modellen in philosophischen Affekttheorien. Berlin, 1994.
43
См. Аристотель. Риторика. 2.5, 1382a21–22. Ср. также Knuuttila S. Emotions in Ancient and Medieval Philosophy. P. 35, 37.
44
См. Price A. W. Emotions in Plato and Aristotle // Goldie P. (Ed.) The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion. Oxford, 2010. P. 137–138.
45
Среди стоиков больше всех занимались эмоциями Зенон Китийский (ок. 333/332 – 262/261 до н. э.), Хрисипп (281/276–208/204 до н. э.), Посидоний (135–51 до н. э.), Сенека (ок. 1 – 65 н. э.) и Эпиктет (ок. 50 – ок. 125 н. э.). О стоиках и эмоциях см., в частности, Sorabji R. Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation. Oxford, 2000; Graver M. R. Stoicism and Emotion. Chicago, 2007; Guckes B. (Hg.) Zur Ethik der älteren Stoa. Göttingen, 2004, а также Forschner M. Die stoische Ethik: Über den Zusammenhang von Natur-, Sprach- und Moralphilosophie im altstoischen System. Darmstadt, 1995.
46
Об апатии и атараксии см. Ritter J., Grunder K. (Hg.) Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1. Basel, 1971. S. 429–433, 593.
47
См. Nussbaum M. Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. N. Y., 2001. P. 4–5. Ch. 1. В частностях Нуссбаум идет дальше стоиков – например, она признает способность испытывать эмоции за животными. В общем же она проводит различие между дескриптивной и нормативной стоическими программами: первую она приветствует, вторую отвергает. См. URL: http://www.politicsofwellbeing.com/2009/02/interview-with-martha-nussbaum.html (последнее обращение 16.01.2012).
48
В качестве введения в учение Галена о четырех жидкостях см. Kollesch J., Nickel D. (Hg.) Antike Heilkunst: Ausgewählte Texte. Stuttgart, 1994. S. 25–27.
49
См. Rosenwein B. Emotional Communities in the Early Middle Ages. P. 41; Knuuttila S. Emotions in Ancient and Medieval Philosophy. P. 93–98; Sorabji R. Emotion and Peace of Mind. P. 253–260.
50
О раннехристианских монахах – так называемых «отцах-пустынниках» – и эмоциях см. Rosenwein B. Emotional Communities in the Early Middle Ages. P. 46–50.
51
См. Dixon T. From Passions to Emotions. P. 34.
52
Августин Блаженный. О граде Божьем. 14, 6.
53
См. Rosenwein B. Emotional Communities in the Early Middle Ages. P. 50–51.
54
Об этом см. Solomon R. C. The Passions: Emotions and the Meaning of Life. Indianapolis, 1993. Томас Диксон считает, что Роберт Соломон и другие ошибаются, считая, что разделение «чувства» и «разума» восходит к раннехристианским мыслителям, таким как Августин и Фома Аквинский: на самом деле они, по его мнению, разделяли «страсть» и «разум», и притом как разум, так и страсть вполне могли быть «взволнованными» (motus), но это могло быть только позитивное волнение, такое как любовь. См. Dixon T. From Passions to Emotions. P. 53–54.
55
Трудности, связанные с произвольным контролем эмоций, Августин описывал в автобиографической «Исповеди», которая в большой мере посвящена тому, как он обуздывал собственную похоть (libido). Об этом см. Dixon T. From Passions to Emotions. P. 51–52.
56
Вводные работы о рефлексии по поводу эмоций в Средние века – King P. Emotions in Medieval Thought // Goldie P. (Ed.) The Oxford Handbook of Philosophy of Emotion. Oxford, 2010. P. 167–187; Knuuttila S. Emotions in Ancient and Medieval Philosophy. Ch. 3–4; Nagy P., Boquet D. (Ed.) Le sujet des émotions au Moyen Age. P., 2009, прежде всего часть I. О Фоме Аквинском см. Lombardo N. E. The Logic of Desire: Aquinas on Emotion, Washington, D. C., 2011. О Средневековье и раннем Новом времени от Фомы Аквинского до Декарта и Спинозы см. Perler D. Transformationen der Gefühle: Philosophische Emotionstheorien 1270–1670. Frankfurt a. M., 2011.
57
Никола Мальбранш (1638–1715) радикализировал дуализм тела и души. О его теории эмоций см. Schmaltz T. Malebranche: Neigungen und Leidenschaften // Landweer H. R., Renz U. (Hg.) Klassische Emotionstheorien: Von Platon bis Wittgenstein. Berlin, 2008. S. 331–349.
58
Damasio A. R. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. N. Y., 1994. P. 248–249. Различные критики отмечали, что Дамазио превратил Декарта в мишень для своих нападок, не принимая в расчет того, что писали о нем исследователи, занимавшиеся им профессионально. См., например, Lagerlund H. Introduction: The Mind/Body Problem and Late Medieval Conceptions of the Soul // Idem (Ed.) Forming the Mind: Essays on the Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightenment. Dordrecht, 2007. Р. 15; Kaitaro T. Emotional Pathologies and Reason in French Medical Enlightenment // Ibid. P. 311–325.
59
Brown D. The Rationality of Cartesian Passions // Lagerlund H., Yrjonsuuri M. (Ed.) Emotions and Choice from Boethius to Descartes. Dordrecht, 2002. P. 270. О вкладе Декарта – важном, но не столь оригинальном, как принято считать, – см. Levi A. French Moralists: The Theory of the Passions, 1585 to 1649. Oxford, 1964. О предыстории позитивного отношения к эмоциям, распространившегося в раннее Новое время, см. по-прежнему актуальную работу Dilthey W. Die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts // Idem. Gesammelte Schriften. Bd. II (Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation). Stuttgart, 1960. S. 416–492.
60
Предисловие к «Passions de l’âme», письмо Декарта к издателю от 14 августа 1649 г. // Декарт Р. Сочинения. Т. 1. Казань, 1914. С. XIV.
61
Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 481–572, здесь с. 488. Этот пример цитируется в Gross D. M. The Secret History of Emotion: From Aristotle’s Rhetoric to Modern Brain Science. Chicago, 2006. P. 23.
62
См. Le Brun Сh. Conférence de Monsieur Le Brun sur l’expression générale et particulière. Р., 1698.
63
См. Schmidt A. Gefühle zeigen, Gefühle deuten // Frevert U. et al. Gefühlswissen. S. 67–69. Смешанный характер эмоций подчеркивает сегодня, в частности, Kagan J. What Is Emotion?
64
См. Damasio A. R. Descartes’ Error; Idem. Looking for Spinoza.
65
Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей // Спиноза Б. Избранное. Минск, 1999. С. 313–590, здесь с. 201. О Спинозе вообще см. по-прежнему наиболее полный однотомный свод рефлексии по поводу эмоций, который, правда, ориентирован на представления экспериментальной психологии 1930‐х годов (двое из его авторов – психологи): Gardiner H. N., Metcalf R. C., Beebe-Center J. G. Feeling and Emotion: A History of Theories. Westport CT, 1970 [первое изд. 1937]. P. 192–205. См. также Nadler S. Baruch Spinoza // Zalta E. N. (Ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), URL: http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/spinoza (последнее обращение 17.07.2011).
66
Спиноза Б. Этика. С. 201.
67
См., например, работу физиолога Müller J. P. Handbuch der Physiologie des Menschen. Bd. 2. Koblenz, 1840. S. 543–552.
68
См., например, Bennett J. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham NC, 2010. P. x–xi: «Я стараюсь свидетельствовать о жизненных материальностях, которые протекают через нас и вокруг нас. Хотя движения и действенность стволовых клеток, электричества, продуктов питания, мусора и металлов имеют решающее значение для политической жизни (и жизни человека как таковой), эти действия и силы почти сразу, как только они появляются на публике (а это появление часто начинается с того, что они нарушают планы или ожидания людей), репрезентируются в виде человеческого настроения, деятельности, значения, повестки дня или идеологии. Эта быстрая подмена поддерживает фантазию, будто „мы“ в самом деле отвечаем за все эти „оно“, оказывающиеся – в соответствии с традицией материализма (немеханистического, нетелеологического), на которую я опираюсь, – потенциально мощными агентами. Спиноза для меня в этой книге выступает в качестве пробного камня, хотя сам он был не совсем материалист. Я использую его идею волевых тел, которые стремятся повысить свою деятельную силу путем формирования альянсов с другими телами, и я разделяю его веру в то, что все сделано из одной и той же субстанции. […] Это утверждение, что все состоит из одного материала, этот намек, что в глубине все взаимосвязано и несводимо к простому субстрату, резонирует с экологической чувствительностью, а это тоже очень важно для меня». Выделено в оригинале.
69
См., например, Connolly W. E. Neuropolitics: Thinking, Culture, Speed. Minneapolis, 2002. P. 7–8: «Люди как мыслящие существа, наделенные плотью, вырабатывают два несводимых друг к другу взгляда на себя. Первым об этом сказал Спиноза, который рассматривал мысль и протяженность как два аспекта одной и той же субстанции, а не как два вида материала, из которого состоит Вселенная. Я принимаю модифицированную версию „параллелизма“ Спинозы […] По моему мнению, ни этот тезис, ни те, которые были выдвинуты против него, не были доказаны. Но модифицированный спинозизм может добавить себе очков. Во-первых, он выражает понимание тех, кто утверждает, что человеческая жизнь развивалась из низших форм без божественного вмешательства, причем делает он это, не сводя человеческий опыт к рассказам о нем в третьем лице. Во-вторых, он побуждает теоретиков культуры изучать накапливающиеся доказательства значимых корреляций между наблюдением процессов, протекающих в теле/мозге, и живым опытом мышления. В-третьих, он побуждает нас активно осваиваться с различными техниками (многие из которых уже работают в повседневной жизни), способными стимулировать изменения в мышлении, причем делающими это без перехода к редукционистскому представлению о мысли. В-четвертых, он позволяет нам заняться выяснением того, как само мышление может иногда изменять микрокомпозицию процессов в теле/мозге, когда новая модель мышления встраивается в эти процессы. Ведь, как точно отмечают Джералд Эделмен и Джулио Тонино, два ведущих нейробиолога, „нейроны, которые действуют вместе, существуют вместе“. Версия параллелизма, на которой основано это суждение, побуждает к исследованию неясных, вездесущих связей между техникой и мышлением, не сводящему сам опыт мышления к серии наблюдаемых состояний. Она воздает должное сложности мышления и побуждает нас использовать технику, чтобы стать более вдумчивыми. Техника является частью культуры, а мышление является нейрокультурным». Выделено в оригинале.
70
Damasio A. R. Looking for Spinoza. Р. 217. Перечисление других ученых, работающих в области наук о жизни и ссылающихся на Спинозу: Ibid. P. 300. Note 8.
71
Ibid. P. 173–174.
72
Ibid. P. 14.
73
Gardiner H. N., Metcalf R. C., Beebe-Center J. G. Feeling and Emotion. P. 184.
74
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1991. C. 96.
75
См. об этом прежде всего VI главу «Левиафана» – Там же. С. 37–48. Вообще, необходимо иметь в виду, что размышления Гоббса об эмоциях разбросаны по разным текстам: см. главы 7, 9, 12 «Начал закона, естественного и политического» (1640); «О гражданине» (1642); 6 и 13 главы «Левиафана» (1651); «О теле», глава 25.12–13 (1655), и «О человеке», глава II (1658).
76
Gardiner H. N., Metcalf R. C., Beebe-Center J. G. Feeling and Emotion. P. 188.
77
Кроме того, Шафтсбери впервые открыл «чувство» (feeling) как уникальную и самостоятельную способность души. Он – в отличие от своего учителя Джона Локка – не рассматривал чувства как что-то производное от «ощущений» (sensations) и «размышлений» (reflections), а определял их как ментальный феномен sui generis. Baum A., Renz U. Shaftesbury: Emotionen im Spiegel reflexiver Neigung // Landweer H. R., Renz U. (Hg.) Klassische Emotionstheorien. S. 353.
78
Anthony Ashley-Cooper, third Earl of Shaftesbury. Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times / Ed. by Klein L. E. Cambridge, 1999. P. 167.
79
Gardiner H. N., Metcalf R. C., Beebe-Center J. G. Feeling and Emotion. P. 212.
80
Ibid. Р. 213.
81
Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Сочинения: В 2 т. Научно-исследовательское издание / Пер. с англ. С. И. Церетели, В. В. Васильева, В. С. Швырева. Вступ. статья А. Ф. Грязнова. Примечания И. С. Нарского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. C. 53–656, здесь с. 457.
82
Döring S. A. Allgemeine Einleitung: Philosophie der Gefühle heute // Eadem (Hg.). Philosophie der Gefühle. Frankfurt a. M., 2009. S. 16. О том, что Юм «изображал „языческого“ философа», см. Solomon R. C. True to Our Feelings. P. 100.
83
Юм Д. Трактат о человеческой природе. С. 458.
84
См. Cohon R. Hume’s Moral Philosophy // Zalta E. N. (Ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), URL: http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/hume-moral (последнее обращение 19.07.2011).
85
См. Scheler M. Wesen und Formen der Sympathie. Bern, 1973. S. 25–28; Salovey P., Mayer J. D. Emotional Intelligence // Imagination, Cognition, and Personality. 1990. № 9. P. 185–211; Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. N. Y., 1995. [Рус. изд.: Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. М., 2013.] О «Theory of Mind» и зеркальных нейронах – см. главу III.
86
Rousseau J.-J. Émile ou De l’éducation. P., 1762. Рус. изд.: Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. М., 1807 и др. изд.
87
Jean-Jacques Rousseau, Citoyen de Genève à M. d’Alembert […] sur son article Genève, dans le VIIe volume de l’ENCYCLOPEDIE, et particulièrement sur le projet d’établir un théâtre de comédie en cette ville. Amsterdam, 1758. Рус. изд.: Руссо Ж.-Ж. Письмо д’Аламберу о зрелищах // Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. М., 1961. Т. 1. С. 65–177, цитата – с. 80. Ср. также Blättler S. Rousseau: Die Transformation der Leidenschaften in soziale Gefühle // Landweer H. R., Renz U. (Hg.) Klassische Emotionstheorien. S. 440–441.
88
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 349–587, здесь с. 495.
89
Там же. С. 496. Выделено в оригинале.
90
Там же. Выделено в оригинале.
91
«Для внутренней свободы требуются, однако, две вещи: в каждом данном случае справляться с самим собой (animus sui compos) и владеть собой (imperium in semetipsum), т. е. обуздывать свои аффекты и укрощать свои страсти». Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 4, ч. 2. М., 1965. С. 109–439, здесь с. 343.
92
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 497 и сл.
93
Этим занимается с 2009 года в Оксфорде группа исследователей, изначально возглавлявшаяся антиковедом Ангелосом Ханиотисом (который теперь работает в Принстоне в Institute for Advanced Study), – The Social and Cultural Construction of Emotions: The Greek Paradigm. См. также URL: http://www.raumexperimente.net/programm/100701–5-en (последнее обращение 05.10.2011).