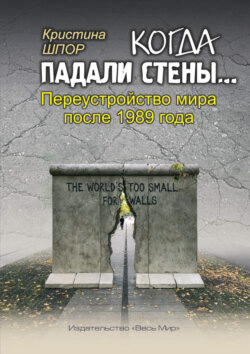Читать книгу Когда падали стены… Переустройство мира после 1989 года - - Страница 5
Глава 2.
Коммунизм опрокинутый: Польша и Венгрия
ОглавлениеНа фото:
1. Польша. Заседание «круглого стола». Варшава, 6 февраля – 5 апреля 1989 г.
2. Празднование 40-летия ГДР. Михаил Горбачев и Эрих Хонеккер. Берлин, 6 октября 1989 г.
3. Алоис Мок и Дьюла Хорн – министры иностранных дел Австрии и Венгрии снимают проволочное заграждение на границе двух стран. 27 июня 1989 г.
4 июня 1989 г. То воскресенье стало не только поворотным пунктом в современной истории Китая, но оказалось вехой для Польши и для всего процесса выхода Восточной Европы из ситуации холодной войны. Многие из наблюдателей провозгласили этот день днем первых свободных и демократических выборов в Польше со времен Второй мировой войны.
Впрочем, это было не совсем так: движение Польши от коммунистической диктатуры началось с манипуляций на выборах. Партия польских коммунистов (Польская объединенная рабочая партия, ПОРП), с 1980 г. втянувшаяся в изнурительную борьбу за власть с профсоюзным движением «Солидарность», уступила требованию проведения выборов в надежде сохранить контроль над процессом реформ. Предполагалось изобрести коммунизм заново, по-польски. Как заметил американский журналист Джон Тальябуэ, генерал Войцех Ярузельский, руководитель партии, хотел «использовать выборы для замены аппаратчиков, противившихся переменам, людьми, настроенными на реформы на ключевых постах, чтобы влить в партию свежую кровь», как это пытался сделать в СССР Горбачев199. Стремление режима к демократии было лишь прикрытием. По результатам выборов полностью формировался состав верхней палаты – сто кресел Сената, но в наиболее важной нижней палате, в Сейме, по результатам выборов замещалось лишь 161 место из 460, т.е. 35%. Все остальные места были зарезервированы за коммунистами (38%) и союзными им партиями (27%). Более того, 35 мест по квоте коммунистов были выделены для выдающихся государственных и партийных деятелей. Эти кандидаты не имели конкурентов, и их имена были внесены в специальный «национальный список». Единственный «выбор», оставленный избирателям, состоял в том, что они могли вычеркивать имена из различных списков как им заблагорассудится. Режим понимал, что отдельные избиратели так и поступят, но не ожидали, что такое явление будем иметь большой масштаб, поэтому кандидатам из «национального списка» было достаточно получить 50% голосов. При таких условиях не было причин полагать, что такой весьма осторожный демократический эксперимент может представлять какую-либо угрозу монополии компартии200.
В действительности то воскресенье раскрыло множеству людей глаза на то, что происходит с «демократией» в их части мира: это был сказ не о выборном пуле, а о пулях. Пресса и телевидение были полны сообщениями о событиях с площади Тяньаньмэнь, произошедших с временной разницей с Варшавой в шесть часов и с Вашингтоном – в двенадцать. Британский журналист и телекомментатор Тимоти Гэртон Эн, находившийся в Польше для освещения выборов, с раннего утра засел в импровизированном офисе только что основанной оппозиционной «Газеты Выборчей» (ее лозунгом стало: «Нет свободы без солидарности»). Он и его польские друзья как загипнотизированные смотрели кадры, показывавшие убитых или раненых китайских протестантов, которых выносили из Запретного города201. Тем утром «Нью-Йорк таймс» вышла с огромным заголовком на первой полосе «ВОЙСКА АТАКУЮТ И СМИНАЮТ ПРОТЕСТЫ В ПЕКИНЕ; ТЫСЯЧИ ОКАЗЫВАЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ, МНОЖЕСТВО УБИТЫХ». В нижней части этой же полосы было размещено небольшое объявление под названием «Выборы в Польше»: «Кое-кто говорит, что через четыре года оппозиция придет к власти»202.
На самом деле до перемен в Польше оставались часы. Несмотря на то что официальные результаты должны были появиться лишь через несколько дней, к вечеру стало ясно, что оппозиция завоюет почти все места в Сенате. Более того, заполняя бюллетени по выборам депутатов Сейма, миллионы избирателей отказали в доверии правительству, вычеркнув множество имен в официальном списке и, таким образом, десятки ключевых функционеров, включая премьер-министра, министра внутренних дел, не смогли набрать 50% голосов. Это был поразительный результат: «Солидарность» превзошла коммунистов. Победа не только была пощечиной партии, но и стала подрывом основ эффективной деятельности правительства. Режим потерял контроль над процессом нового переосмысления коммунизма. Народ брал верх.
Однако общий настрой в Польше тем солнечным вечером совсем не был таким уж буйно радостным. Население испытывало тревогу. Лидер «Солидарности» Лех Валенса выразил озабоченность последствиями того, что выглядело для рабочего движения как решительный сдвиг: «Я думаю, что слишком большой процент победителей среди наших людей может вызвать тревогу». Выдержав десятилетие жесткой борьбы с режимом, он не знал теперь, какой будет реакция правительства Ярузельского. Официальный представитель партии Ян Биштига предупредил: «Если ощущение триумфа и авантюризм породят анархию в Польше, то демократия и социальный мир могут оказаться в серьезной опасности». И мрачно добавил: «Власти, коалиция и оппозиция не могут допустить такой ситуации»203.
Гэртон Эш стал свидетелем того, как лидеры «Солидарности» «погрузились в яростные дискуссии, мучительные переговоры, заключение тайных сделок», он видел, что их реакция на результаты выборов была «удивительным смешением экзальтации, недоверия и тревоги. Тревоги за новую ответственность, с которой они теперь столкнулись – на самом деле это и есть проблема успеха, но также и затаенного страха, что дела не могут все время идти также хорошо»204. Этот страх, конечно, был подогрет новостями из Китая. И деятели «Солидарности», и коммунисты-реформаторы внезапно и остро представили себе, что может произойти, если насилие выплеснется наружу – и не в последней степени потому, что 55 тыс. солдат Советской армии находились на польской земле205. И поэтому они сделали все возможное, чтобы этого избежать.
Руководители «Солидарности» теперь осознали, что им суждено участвовать в политике на национальном уровне – уйдя от их изначальной роли «оппозиции» и приняв на себя ответственность как результат успеха на выборах. Правительство тоже было шокировано результатами. Они ожидали доверия от избирателей, а вместо этого получили уничтожительный вердикт как итог четырех десятилетий коммунистического правления, опиравшегося на внешнюю силу – советскую военную мощь. Но, вступая в неизведанные воды, обе стороны были обречены на совместную работу – из-за опасений в противном случае получить Тяньаньмэнь у себя дома. И «Солидарность», и коммунисты, похоже, были объединены сообществом судьбы – они не могли действовать во имя Польши друг без друга.
В Москве Горбачев и его советники пребывали в шоке от новостей из Варшавы. Они надеялись, что реформы в стиле перестройки в странах-сателлитах будут встречены с благодарностью, позволив коммунистам-реформаторам остаться у руля. И советское руководство отнесло полученные результаты на счет особенностей Польши. Позднее Андрей Грачев, помощник Горбачева, заметил, что поляки были «слабым звеном» в советском блоке. То, что произошло в Польше, скорее всего, так и останется польским феноменом206. Горбачев тем не менее оставался приверженным тем принципам, которые он огласил в своей речи в ООН. Доктрина Брежнева мертва, а «свобода выбора» носит всеобщий характер. Польский народ высказался. Значит, так тому и быть – до тех пор, пока Польша остается членом Варшавского пакта207.
***
Никто не мог предугадать, что польская выборная революция будет иметь эффект домино. Но проблемы накапливались годами. Глядя в прошлое, видишь, что весь советский блок был карточным домиком. Во-первых, потому что он основывался на присутствии Советской армии после окончания Второй мировой войны. Советский контроль над этими территориями развивался постепенно – быстро, как в случае с Польшей, медленнее – в Чехословакии, но однопартийные режимы, связанные с Москвой, так или иначе, устанавливались силой. В 1955 г. стальной кулак одели в тонкую бархатную перчатку в форме международного союза независимых гоcударств (внешне – в ответ на НАТО), обычно на Западе именуемого Варшавским пактом, фактически в качестве прикрытия советского доминирования. В 1956 г. пакт поддержал Советскую армию в подавлении антикоммунистических протестов в Будапеште; в 1968 г. он сделал то же самое для подавления Пражской весны. В конечном итоге блок сохранялся под угрозой вторжения танков. Конечно, США были бесспорным гегемоном НАТО, естественным гарантом ядерной безопасности, использовавшим базы на территории стран Альянса. Хотя Западная Европа являлась частью американской «империи», но это была империя «по приглашению» и «соединению». В Восточной Европе советский блок был «империей по принуждению»208.
Что еще удерживало страны-сателлиты вместе (под зонтиком СЭВа, Совета экономической взаимопомощи, 1949 г.), так это общее признание концепции экономического планирования, выработанной в Москве. «План» означал установление правительством целей для всего производства, для функционирования всех отраслей и даже для каждой фабрики, завода, хозяйства, ликвидируя тем самым рыночные силы, но одновременно и личную инициативу. Основываясь на программах всеобщей национализации, внедрявшихся после 1945 г., план содействовал быстрой индустриализации и урбанизации ранее преимущественно аграрных обществ и первоначально привел к быстрому повышению уровня жизни и благосостояния большинства населения. Но эти преимущества скоро были исчерпаны, и к 1970 г. негибкость командной экономики стала ощутимой. Стало расти недовольство из-за нехватки и низкого качества потребительских товаров. Поскольку блок ориентировался на автаркию, то в значительной мере препятствовал импорту с Запада, даже в период разрядки в 1970-е гг. К тому времени система выживала в значительной мере за счет впрыскивания западных кредитов и субсидированных цен на советскую нефть. Десятилетием позже, когда на Западе развернулась ИТ-революция, неэффективность СЭВа и хрупкость советского блока стала очевидна всем209.
Эти серьезные структурные недостатки все-таки никоим образом не предопределили «революцию 1989 г.». Ни аналитики ЦРУ, ни теоретики в области международных отношений не предрекали внезапной дезинтеграции блока в 1989-м210. Беспорядки в тот год не были просто кульминацией народного недовольства и уличных протестов: преобразования частично были спровоцированы действиями самих национальных лидеров, борьбой между консерваторами и реформаторами. Это больше напоминало «революцию сверху», чем «революцию снизу». Более того, национальные лидеры действовали в международном контексте – отвечая на сигналы, шедшие изначально от Горбачева и позднее с Запада. Понимая такую динамику, мы даже можем говорить о «революции поперек». И одним из таких «поперечных» факторов, определявших успех или неудачу реформ, могли стать действия Советской армии, потому что советское военное присутствие питало блок в целом.
Впрочем, 1989 г. не был каким-то всеобщим восстанием против советской «навязанной империи». Перемены становились результатом конкретных обстоятельств в конкретных странах, внутри конкретных обществ, культур и религий. Катализаторы срабатывали в разное время и происходили с разной скоростью, будучи движимы разнообразными национальными и местными обстоятельствами. Многие их корни уходили глубоко в давно копившиеся обиды; и многие имели исторические напоминания в прежних революциях, и не обязательно это была память о событиях коммунистической эры (Берлин, 1953; Познань, 1956; Будапешт, 1956; Прага, 1968), но она могла восходить к намного более давним временам, скажем к 1848 или 1918 гг.
Если говорить о Польше211, то националистическое возмущение правлением чужаков канализировалось в рамках Католической церкви, обладавшей уникальным влиянием, не имевшим аналога ни в одной стране блока. Столетиями Церковь охраняла польские ценности от русского православия и прусского протестантизма, особенно во времена, когда Польша исчезала с карт на различных этапах раздела. В коммунистическую эру она с успехом сохранила свою независимость от государства и правящей партии, представляя собой почти что альтернативную идеологию. В октябре 1978 г. первым Папой – поляком был избран харизматичный кардинал Кароль Юзеф Войтыла. Само это событие и последовавший за ним в июне триумфальный визит Папы на родину превратили его в альтернативного лидера, защитника прав человека и свободы слова, который, согласно своему статусу, теперь пребывал на Западе. Таковы были его авторитет и аура, что режим оказался бессильным, а народ открыл для себя, что он говорит чужим голосом212.
В Польше была и другая хорошо организованная сила, способная противостоять государству. «Солидарность», независимый профсоюз, сформировался в 1980 г. во время серии забастовок, распространявшихся по приморской Польше от Гданьска к северу до Гдыни и к западу до Щецина. Причиной стало недовольство значительным повышением цен, предпринятым правительством. Горнилом, раздувавшим протесты, была верфь имени Ленина в Гданьске, главном порту Польши, где бастовавшие 20 тыс. рабочих с членами своих семей стали важной и сплоченной силой сопротивления, лидером которой выступал Лех Валенса, убедительный и смелый рабочий-организатор, ставший – со своими огромными усами – узнаваемым повсюду в мире. После нескольких месяцев беспорядков режим, который теперь возглавлял генерал Войцех Ярузельский, в отличие от своего предшественника пользовавшийся полной поддержкой Москвы, в декабре 1981 г. ввел в стране военное положение. Это было крушение по-польски, но во всяком случае никакой интервенции войск стран Варшавского пакта, подобного событиям в Праге в 1968 г., не было. Власти не могли уничтожить «Солидарность», но и объявленный вне закона профсоюз тоже не мог свергнуть правительство213.
Польская экономика тем временем продолжала свое движение вниз по спирали, пока зимой 1988 г. не пришло время для очередного скачка цен, который правительство представляло как элемент программы обширных реформ и политических изменений. Но после того как цены в первом квартале 1988 г. рванули вверх на 45%, а цена топлива для домашнего отопления выросла на 200%, правительству почти сразу пришлось остановить свою программу214. Весной и летом забастовки прокатились по всей стране, охватив все отрасли промышленности – от верфей до городского транспорта, от металлургии до шахт, – и это происходило в то время, когда из Москвы Горбачев призывал к новым реформам и подталкивал Ярузельского к тому, чтобы двигаться вперед, к «социалистическому возрождению». Когда новая волна забастовок в августе парализовала ключевые экспортные отрасли Польши, особенно угольную и сталелитейную, фасад правительственной самоуверенности стал давать трещины. «В последнюю забастовку произошла важная вещь», – сказал Веслав Войтас из Сталёва-Воля, города в сердце польской металлургии и эпицентра стачек 1988 г. Он и его товарищи-рабочие в августе решились на то, чтобы завершить стачку маршем через весь город к местной католической церкви. В шествии приняли участие 30 тыс. из 70 тыс. жителей города. «Мы сломали барьеры страха, – во всеуслышание провозгласил он. – И я думаю, что власти поняли – мы победили»215.
Войтас был прав. Теперь, когда страх перед танками исчез, поляков больше нельзя было заставить молчать. Ярузельский согласился на обсуждение экономических, социальных и политических реформ. Переговоры за круглым столом начались в феврале 1989 г., и в них на равных приняли участие «Солидарность», Церковь и коммунисты216. 5 апреля было достигнуто соглашение, изменившее Конституцию 1952 г. и обозначившее длинную дорогу Польского государства к представительному правительству, включавшую восстановление верхней палаты парламента в дополнение к Сейму. Более того, Сейм теперь должен был избираться на свободных выборах, что открывало «Солидарности» дорогу к легализации и выборам 4 июня.
В ответ на обещание Ярузельского начать дискуссии за круглым столом в сентябре 1988 г. Валенса призвал к прекращению забастовок217. Народные протесты в таких больших масштабах уже не повторились. С осени 1988-го то, что происходило в Польше, стало «кризисом, полностью управляемым элитами, при котором массам разрешали 4 и 18 июня 1989 г. выйти на политическую сцену лишь для того, чтобы отдать свои голоса», и это положило конец монополии коммунистов на власть218. С обеих сторон это действительно было делом элит, заключавших сделки между лидерами правящей партии и оппозицией. Это объясняет придуманный комментатором Тимоти Гэртоном Эшем неологизм «реформлюция» (англ. refolution) для обозначения процесса реформ, осуществляемых сверху при революционном давлении снизу219.
Динамика процесса в Венгрии в 1988–1989 гг. была такой же, хотя логика иход событий существенно отличались. Здесь не было никаких мощных забастовок-катализаторов, никакого профсоюзного движения, как и группирования вокруг Церкви; решающим триггером здесь стала борьба за власть внутри партийной элиты. В мае 1988 г. престарелый Янош Кадар, отметивший свое 75-летие и находившийся у власти с 1956 г., когда его поставили на этот пост из Кремля, удалился от дел. Его уход открыл двери новому поколению коммунистов, большинство которых разменяло пятый или шестой десяток, и при этом почти все они были реформаторами220. Их поведение определялось наследием ноября 1956 г., когда советские танки вошли в столицу Будапешт и было смещено правительство коммунистов-реформаторов, объявившее о своей приверженности свободным выборам и выходу страны из организации Варшавского договора. Во время этих кровавых событий погибло около 2700 венгров, и больше 20 тыс. было ранено221.
После того как в дело были пущены советские танки, Кремль потребовал от своей марионетки Кадара покончить с беспорядками. Первое, что он сделал, это отправил около 20 тыс. человек в заключение и казнил 230 из них, в том числе лидеров «контрреволюции» (таково было официальное описание в советском блоке событий народного восстания). Предшественник Кадара Имре Надь был тайно подвергнут пыткам и повешен в тюремном дворе, а его тело было закопано в безвестной могиле со связанными колючей проволокой руками и ногами. И хотя в Венгрии не было принято упоминать его имя, Надь стал культовой фигурой для венгров и для Запада222.
Кадар, доказавший свою преданность Москве, постепенно и тихо стал отходить от марксистских догм и в некоторой степени разрешил заниматься частным предпринимательством. В рамках командной экономики при нем были освобождены цены на многие товары, коллективизация на селе проводилась по-новому, что позволило людям поставлять продуктовые товары, выращенные на их частных землях223. Такими были истоки так называемой гуляш-экономики 1960-х гг., официально названной «Новым экономическим механизмом»224. Экономические и социальные реформы Кадара позволили повысить уровень жизни в стране и провести относительное смягчение идеологического климата. Кроме того, он очень осторожно открыл Венгрию и в социальном отношении; передачи западных радиостанций не глушили, а правила для поездок за Железный занавес были смягчены. В 1963 г. на Запад съездили 120 тыс. венгров, в четыре раза больше, чем в 1958 г. Все это сделало Венгрию наиболее благополучной и толерантной страной советского блока225. Кадар стал популярной личностью, во всяком случае на какое-то время.
Тем не менее к середине 1980-х время оказавшегося в тени Горбачева престарелого венгерского лидера вышло. Конечно, именно так думали представители молодого поколения в его партии, намеревавшиеся внедрять новые идеи и динамизм, порожденные Кремлем. Кадар утратил вкус к реформам точно так же, как московские геронтократы брежневской эпохи в начале 1980-х гг. На протяжении 1987 г. Кадар пытался укрепить свое положение как партийного лидера, назначив на пост премьера Кароя Гроса, партийного функционера, пользовавшегося доверием у консерваторов. Но Грос предал Кадара и перешел на сторону реформаторов, ослабив государственный контроль и субсидии и начав оказывать содействие частной инициативе. В условиях ослабления финансовой дисциплины Венгрия накопила самый большой долг в Восточной Европе в расчете на душу населения226.
В условиях углублявшегося кризиса росла уверенность в себе диссидентов, принявшихся с молчаливого согласия партии создавать разнообразные оппозиционные группы. Именно эти новые политические силы стали все больше формировать политическую повестку дня. В ответ на это коммунисты-реформаторы сумели победить консерваторов и сместить Кадара с поста генерального секретаря на специальной партийной конференции в мае 1988 г., а осенью молодой экономист Миклош Немет сменил Кароя Гроса на посту премьер-министра. Стратегией реформаторов, как и у их польских коллег, было выбрано отступление партии и самообновление без потери контроля. И, как и в Польше, эти надежды оказались иллюзорными. Венгрия стала второй костяшкой в блоковой цепочке домино.
К февралю 1989 г. попытка правительства договориться с оппозицией провалилась. То, что в итоге получилось, стало чем-то вроде конкурентного сотрудничества. Многие оппозиционные группы превратились в политические партии, и компартия – Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСРП) – почувствовала себя обязанной выступить в поддержку перехода Венгрии к многопартийной демократии. Очень скоро партия на практике отказалась от ленинского принципа «демократического централизма», при помощи которого она как бы имела легальное право на монополию власти. В этом насыщенном событиями политическом процессе историческая память сыграла свою роль227. 15 марта в Венгрии традиционно считался национальным днем памяти, которым отмечали начало националистического восстания 1848 г. против Австрийской империи, которое в конечном счете было подавлено войсками союзника Австрии – русского царя Николая I. В годы коммунистического правления всякие празднования в этот день были запрещены из опасений, что они могут породить антирусские протесты, но в 1989 г. реформистское правительство, надеясь умиротворить оппозицию совместным празднованием и тем самым получить одобрение своего политического курса, объявило, что теперь 15 марта опять станет Национальным праздничным днем. И тем не менее малочисленное мероприятие, проводившееся правительством на ступеньках Национального музея, утонуло в стотысячной утренней демонстрации, прошедшей на улицах города в память о 1848 г.228
В этой накаленной атмосфере оппоненты режима выступили с идеей проведения Круглого стола оппозиции (КСО). Всего было проведено восемь раундов переговоров за круглым столом, в рамках которых осуществлялись попытки объединения оппозиции на почве выработки единой переговорной стратегии перед лицом правительственной программы реформ. Казалось естественным, что венгерская оппозиция обретет такой же вес и влияние, какой в Польше добилась «Солидарность». После нескольких недель препирательств о том, как будут вестись переговоры, 13 июня начались собственно встречи КСО и правительства, которые в отличие от переговоров в Польше велись в тайне229.
Через три дня, 16 июня, в день тридцать первой годовщины казни Имре Надя оппозиция наконец провела перезахоронение останков Надя и нескольких других известных жертв революции 1956 г. и осуществила общественные похороны на Площади героев в центре Будапешта в присутствии огромной толпы, насчитывавшей, даже по официальным оценкам, 200 тыс. человек. Вся церемония была показана по телевидению, и в ней приняли участие четверо реформаторов из руководства правящей партии, во главе с премьер-министром Неметом. Но это не принесло им ничего хорошего. Двадцатишестилетний представитель «Альянса молодых демократов», ФИДЕС (Fiatal Demokraták Szövetsége, Fidesz), по имени Виктор Орбан отдал должное Надю как человеку, который хотя и был коммунистом, но «не отделял себя от чаяний венгерского народа положить конец коммунистическим табу, слепому повиновению Русской империи (sic!) и диктатуре одной партии». Указывая на четырех присутствовавших на церемонии коммунистических лидеров, он продолжил: «Мы не можем понять, как те, кто хотел очернить революцию, и их премьер-министр внезапно превратились в великих сторонников и последователей Имре Надя. Мы также не можем понять, как лидеры партии, заставлявшей нас учиться по книгам, фальсифицировавшим революцию, теперь спешат нести их гробы, словно это талисманы удачи». В ходе выступлений звучали злые ноты: замечания Орбана сигнализировали о решительном неприятии всего замысла управляемой трансформации и национального согласия, к чему стремились коммунисты-реформаторы, и самого духа умиротворения и очищения, наполнявшего венгерский политический процесс230.
Перезахоронение Надя стало катализатором сильного антисоветского, антикоммунистического национализма, выраставшего с самого низа, и сработало чем-то вроде визита Папы в Польшу, но в данном случае это происходило через политическую память, а не благодаря религиозному рвению. И та и другая политические трансформации в значительной мере определялись национальным опытом и развивались в рамках национальных границ. И хотя процессы происходили почти в одно и то же время, каждая подпитывала и влияла на другую. То, что происходило в Польше и Венгрии, было выходом из диктатуры через создание новой институциональной структуры для нового режима. В дополнение всему происходило и широкое проникновение революционных идей231, выходивших за пределы Восточной Европы. В действительности это говорит нам о том, что сторонники жесткой линии в Пекине видели в этом распространение заразы из Польши и Венгрии232. «Болезнь» экономических реформ, сочетавшаяся с политической демократизацией233, распространялась на протяжении всего года, поражая весь блок от Эстонии на Балтийском побережье до берегов Черного моря.
Зараза, поразившая множество коммунистических государств, была не единственным процессом в 1989 г. Реформа в одной из этих стран, в Венгрии, оказалась чем-то вроде растворителя для всего советского блока, да и для всей холодной войны в Европе.
***
Это стало очевидно, когда 27 июня 1989 г. по всему миру стало стремительно распространяться фото двух хорошо одетых мужчин, режущих ограждение из колючей проволоки. Этой парой были венгерский министр иностранных дел Дьюла Хорн и его австрийский коллега Алоис Мок, специально встретившиеся на австро-венгерской границе, чтобы послать сигнал к освобождению. Стоя бок о бок друг с другом и разрезая колючую проволоку, они, казалось, посылали добрую весть о том, что послевоенному разделению Европы пришел конец.
Конечно, это была пиаровская акция. Когда Хорн предложил провести церемонию разрезания проволоки, Немет шутливо заметил: «Давай, Дьюла, сделай это, но торопись, проволоки осталось уже немного»234. На самом деле оба правительства еще 2 мая приступили к снятию пограничных заграждений, включая наблюдательные вышки и системы предупреждения о нарушении границы, а само решение об этом было принято еще в конце 1988 г., когда Немет в рамках пакета реформ исключил из бюджета расходы на поддержание всей системы. Система предупреждения, впрочем, продолжала функционировать, просигнализировав около 4 тыс. раз за год о пересечении границы кроликами, косулями, фазанами и подвыпившими гражданами. У обанкротившегося правительства не было средств на восстановление системы охраны границы, всякие ограничения на зарубежные поездки для венгров несколько позднее в том году были полностью сняты: спустя двенадцать месяцев, к концу 1988 г. за границей (в основном на Западе) побывало 6 млн венгров235.
Свое решение о снятии заграждения вокруг страны Немет обсудил с Горбачевым, когда 3 марта приехал в Москву, и у советского руководителя не было возражений: «У нас существует строгий режим на границах, но мы тоже становимся более открытыми». Однако Немет признался Горбачеву в том, что и для Будапешта ситуация тоже достаточно сложная, потому что единственным оставшимся предназначением пограничного ограждения было недопущение незаконного пересечения границы гражданами Восточной Германии, пытавшимися бежать на Запад через Венгрию. «Конечно, – добавил он, – нам надо обсудить это с товарищами из ГДР»236.
Восточногерманский режим, с 1971 г. возглавляемый Эрихом Хонеккером, воспринял сообщения об открытии границы со смешанным чувством гнева и беспокойства. Гнев вызывало то, что венгры решились на это одни, без всякого благословения со стороны Горбачева и не советуясь с союзниками по Варшавскому пакту. А настоящее беспокойство объяснялось тем, что любой восточный немец, имеющий действующие документы, позволявшие путешествовать в Венгрию, теперь мог покинуть территорию блока и отправиться в Австрию и далее в Западную Германию, где немцам автоматически давали гражданство. Другими словами, Венгрия могла стать фатальной прорехой в Железном занавесе, за который ГДР так долго боролась, видя в нем условие своего политического существования.
Тем не менее, когда Венгрия в начале мая приступила к снятию заграждений, министр обороны Восточной Германии генерал Хайнц Кесслер, похоже, сохранял относительное спокойствие. Он сообщил Хонеккеру, что его венгерский коллега генерал Ференц Карпати заверил его, что снятие заграждений производится «по чисто финансовым соображениям», и что Венгрия, конечно, продолжит охрану границы с большего числа наблюдательных вышек и за счет «интенсификации патрульной службы» с собаками-ищейками. Карпати, конечно, следовал инструкциям, полученным от Немета, который просил его выиграть время и держать Восточный Берлин в неведении. «Стоит нам начать объяснять, какая обстановка на самом деле, и мы сразу выдадим себя, и от этого станет только хуже». В конце концов Кесслер получил от Карпати заверения и доложил Хонеккеру, что снятие 260-километрового пограничного заграждения предполагается производить постепенно в период до конца 1990 г. со скоростью около четырех километров в неделю, начав работы с участков вблизи четырех из восьми пограничных переходов. Он объяснил, что Венгрия предпринимает эту «косметическую процедуру» постепенно в целях улучшения добрососедских отношений с Австрией и в контексте общего ослабления напряженности в Европе237.
И тем не менее ежедневное снятие колючей проволоки держало Восточный Берлин в напряжении. Хонеккер послал жаловаться в Москву своего министра иностранных дел Оскара Фишера, но результатом стало лишь то, что Шеварднадзе сказал тому, что ГДР должна решать этот вопрос напрямую с Венгрией238. Так Восточная Германия очутилась в одиночестве, не имея никакой поддержки из Москвы, оказавшись зажатой между реформирующейся Польшей на востоке, своим западным противником капиталистической Германией и становящейся все более либеральной и открытой Венгрией далее к югу.
Поначалу, как и обещал Карпати, венгерские пограничники задерживали восточногерманских «беглецов» на участках, где возле первых погранпереходов сняли проволоку. Железный занавес вроде бы все еще выглядел опущенным. Но по мере того, как новости о событиях на границе становились широкого известными и особенно после появления тех самых фотографий Хорна и Мока 27 июня, люди стали смелеть. С каждой следующей неделей так называемая зеленая граница (т.е. удаленные от погранпереходов участки со снятой проволокой и плохо патрулируемые) предоставляли все большие возможности для беглецов. К августу 1989 г. около 1600 восточных немцев успешно воспользовались таким маршрутом для переезда на Запад239.
Режим Хонеккера старался на своем уровне не допустить появления информации обо всем этом в газетах и на телевидении. Но было поздно. Восточные немцы получили послание: Венгрия стала их воротами на свободу.
***
Возникший из-за Венгрии международный кризис оказался среди важнейших вопросов, обсуждавшихся при встрече Горбачева и Коля 12 июня 1989 г. во время его первого государственного визита в ФРГ240. Канцлер заявил: «Мы наблюдаем за событиями в Венгрии с большим интересом». «Я сказал Бушу, поскольку Венгрия озабочена, мы действуем так, как гласит старая немецкая поговорка: пусть церковь остается в деревне. Она означает, что венгры должны сами решать, чего они хотят, и никто не должен вмешиваться в их дела». Горбачев с ним согласился: «У нас есть такая же поговорка: в чужой монастырь со своим уставом не ходят!» Оба засмеялись. «Прекрасная народная мудрость», – воскликнул Коль. Но затем советский руководитель помрачнел. «Скажу Вам откровенно, что в социалистических странах происходят большие подвижки. Направленность их проистекает из конкретного положения в той или иной стране. Западу на этот счет не следует беспокоиться. Все движется в направлении укрепления демократических основ». И тут последовало горбачевское пояснение социалистического обновления на национальном уровне. Но он также сделал Колю и важное предостережение, понимая, что на канцлера оказывается давление с целью обещания финансовой поддержки оппозиционным группам в странах советского блока. «Как это делается, каждая из соцстран решает сама. Это ее внутреннее дело. Думаю, Вы согласитесь со мной, что нельзя втыкать палку в муравейник. Последствия от этого могут быть совершенно непредсказуемыми».
Не вступая в спор, Коль просто сказал, что в СССР, США и ФРГ существует «общее мнение», что мы «не должны вмешиваться в чье бы то ни было развитие». Но Горбачев считал необходимым подчеркнуть этот момент: «Если кто-то попытался бы дестабилизировать обстановку, это сорвало бы процесс укрепления доверия между Западом и Востоком, разрушило бы все, что создано до сих пор»241. На следующий день, 13 июня вместе с Колем они подписали не менее одиннадцати соглашений, расширявших экономические, технологические и культурные связи, а также совместную Декларацию, подтверждавшую право народов и стран на самоопределение – важный шаг, особенно с точки зрения Германии242.
Впрочем, Боннская декларация была чем-то большим. Она стала центральным пунктом государственного визита, главное значение которого для западных немцев заключалось в символическом примирении двух народов, чья жестокая борьба разделила Европу и Германию. Она означала, что обе страны настроены на новую и еще более многообещающую фазу советско-западногерманских отношений. Это было отражено в заключении, выражавшем «глубокие, давние чаяния» двух народов «залечить раны прошлого через понимание и примирение и совместное построение лучшего будущего»243.
Вдохновленные достигнутым и общей атмосферой, оба господина практически не расставались на протяжении трех дней. Они беседовали наедине за это время по меньшей мере трижды по разным поводам. И в отличие от обычной сдержанной манеры встреч между западными лидерами и коммунистами они достигли такого доверия, что могли давать оценки своим «общим друзьям». Так, они оба уважали Ярузельского; оба были настроены поддерживать усилия по трансформации Польши под его руководством так же, как и реформаторский курс Венгрии, до той поры пока она не вышла из-под контроля. У каждого из них были проблемы с упертым социалистическим режимом Эриха Хонеккера, и никто из них не поддерживал Николае Чаушеску. По мнению Коля, этот старый диктатор вверг свою страну во «мрак и стагнацию»; Горбачев называл Румынию «примитивным феноменом», подобным Северной Корее «в центре цивилизованной Европы»244.
Как у обычных людей, у них возникла настоящая близость, включавшая обмен детскими воспоминаниями и откликами на испытания семей в годы войны. «Нет ни одной семьи ни в одной стране, – тихо произнес Коль, – которую бы не затронула война»245. Он сказал Горбачеву, что его правительство видит в этом визите ни много ни мало «конец вражды между русскими и немцами, начало периода настоящей дружбы, добрососедских отношений». Он добавил, что «эти слова поддерживает воля всех людей, и по воле народа, который приветствовал вас на улицах и площадях». Вне всякого сомнения, это было поразительной особенностью этого визита. Горбачева восторженно встречали в Западной Германии: и в маленьких городках долины Рейна, и на сталелитейных заводах Рура, на которых он побывал, повсюду толпились люди, кричавшие «Горби, Горби». Беседа между лидерами становилась все более откровенной. «Мне нравится ваша политика, и вы мне нравитесь как человек, – признался Коль, – давайте общаться чаще, давайте перезваниваться по телефону. Я думаю, что мы сможем многое сделать сами, не передавая полномочия бюрократии». Горбачев согласился: он чувствовал, что взаимное доверие растет «с каждой новой встречей»246.
В последний вечер, после долгого и умиротворяющего ужина в загородном особняке Канцелярии, Коль и Горбачев, сопровождаемые лишь переводчиком, прогуливались по парку и спустились к Рейну. Они присели на низкую стену, изредка обмениваясь фразами с гулявшими тут людьми и взирая на горную гряду Зибенгебирге за рекой. Коль так никогда и не забудет тот момент. Оба они представляли себе, что произойдет полный пересмотр советско-германских отношений, который будет закреплен в «Большом договоре»247, способном открыть новые перспективы для будущего. Но Коль предупредил, что это невозможно сделать до тех пор, пока Германия остается разделенной.
Горбачев стоял на своем: «Разделение является результатом логичного исторического развития». Однако и Коль тоже не менял позицию. Он почувствовал, что в такой приятный вечер, когда они оба размягчены вином и добрыми намерениями, появилась возможность, которую никак нельзя упустить. Указав на широкий, спокойно текущий Рейн, канцлер стал размышлять вслух: «Эта река символизирует историю. Ничто не остается неподвижным. Технически можно построить дамбу… Но тогда воды реки преодолеют ее и найдут другой путь к морю. Так и с единством Германии. Вы можете попытаться предотвратить объединение, и в этом случае мы не доживем до этого момента. Но определенно Рейн течет к морю, так же определенно, как произойдет германское единство – как и европейское».
Горбачев слушал и на этот раз не прерывал его. Тот вечер на берегу Рейна, как вспоминал сам Коль позже, стал поистине поворотным моментом в размышлениях Горбачева, да и во всех их отношениях. При расставании они обнялись. Впрочем, это было не совсем ловкое упражнение: приземистый кремлевский лидер и массивный стокилограммовый канцлер ростом за метр восемьдесят. Но их взаимные чувства были подлинными: родилась политическая дружба. Более того, для Горбачева Западная Германия стала, как говорили в Москве, «главным зарубежным партнером» – после Соединенных Штатов – и которая поэтому играла помимо всего прочего «глобальную роль»248.
Теперь Коль мог купаться в лучах славы двух в высшей степени успешных для него визитов лидеров сверхдержав – Буша и Горбачева. Он высказался на встрече с прессой возвышенно: «В течение трех недель два наиболее могущественных человека из двух различных систем посетили Германию. Эта новая эра накладывает на Германию новую ответственность и, – добавил он, – на поддержание мира»249.
Оценка саммита Горбачевым тоже была теплой и позитивной. «Я думаю, мы выходим из периода холодной войны, хотя там все еще есть некоторые льдинки и неясности», – провозгласил он перед отъездом. «Мы идем к новой стадии отношений, которую я могу назвать мирным периодом развития международных отношений». Он даже предположил, что «Берлинская стена может исчезнуть, когда исчезнут условия, ее породившие. Я не вижу в этом большой проблемы». В этом был едва прикрытый посыл режиму Хонеккера. И, обращаясь, собственно, к разделению Германии, он заявил: «Мы надеемся, что время решит эту проблему». Но, рассуждая о снятии одного величайшего геополитического барьера, Горбачев также упомянул о своих опасениях новой «непроходимой стены через Европу», – имея в виду планы Европейского сообщества создать полностью интегрированный единый рынок к 1992 г. «До сих пор мы не слышали убедительных экономических и политических аргументов, рассеивающих такие опасения». Здесь надо напомнить, что в июне 1989 г. процесс европейской интеграции, казалось, вел к углублению разделения между двумя половинами континента, а совсем не выглядел объединяющей силой того рода, которую имел в виду Горбачев, когда говорил об «Общем европейском доме» от Атлантики до Урала250.
Для Горбачева Бонн стал частью серии визитов по всей Европе в середине 1989 г., во время которой – так же как и Буш во время своего разговорного тура весной – советский лидер представил свои идеи о новой Восточной Европе, которые в свою очередь родились в рамках его программы политической и экономической реструктуризации.
Тремя неделями позже, в Париже, он развил ту линию, которую они с Колем начертили в отношении Польши и Венгрии, настаивая на том, что коммунистические страны «сейчас находятся в состоянии перехода»» и что они «придут к новому качеству жизни в рамках социалистической системы, а социалистическая демократия» является «процессом демократизации», в конечном счете преобразующим всю Восточную Европу. Другими словами, все то, что происходит в советском блоке, было процессами реконструкции, перестройки, а не деконструкции, не разрушения. Хотя, указывая на исторические связи между 1789 и 1917 гг., он провозгласил, что перестройка – это тоже «революция». Рассуждая об этом в аудитории, забитой профессорами, писателями и студентами Сорбонны, – он специально попросился выступить там – Горбачев почувствовал себя интеллектуалом, которым хотел быть. Он философствовал о фундаментальных «новых проблемах, стоящих перед человечеством в конце двадцатого века», на которые «Новое мышление» дает ответы. Он предостерегал Запад от ожиданий того, что Восточная Европа «вернется в лоно капитализма», и от «иллюзии, что только буржуазное общество представляет вечные ценности»251.
В этих рассуждениях сквозило действительное раздражение Горбачева выступлениями Буша в апреле и мае. Он не видел никакого «реализма» или «конструктивной линии» в этих заявлениях, и фактически нашел их «совершенно неприятными», как сказал об этом Колю в Бонне. «Честно говоря, эти заявления напомнили мне высказывания Рейгана о “крестовом походе” против социализма». Как и Рейган, Буш «обращался к силам свободы», призывал к завершению периода «статус-кво» и к тому, чтобы «отбросить социализм назад». И все это, кипятился Горбачев, «в то время, когда мы призываем к деидеологизации отношений. Невольно приходит в голову вопрос: а когда Буш действительно искренен, а когда его слова – просто риторика?»252.
Когда эта тема была поднята во время встречи Миттерана и Горбачева в Елисейском дворце 5 июня, то французский президент не стал скрывать, что у него на этот счет имеются собственные взгляды. «Джордж Буш будет проводить очень умеренную политику даже без всякого сдерживания со стороны Конгресса, просто потому что он консерватор». «Фактически, – добавил он, – у Буша только один большой недостаток – у него просто нет никакого оригинального мышления». Сильно чувствовалось недовольство Миттерана отсутствием собственного влияния и снижающимся статусом Франции в мировых делах. Он чувствовал себя отодвинутым в результате активной европейском дипломатии Буша и Коля – к этой теме я вернусь в четвертой и пятой главах. Советскому лидеру, наоборот, нравилось, что француз копает под неповоротливого президента США, и он высоко ценил выражение Миттераном «веры в успех перестройки»253.
Тем не менее советский лидер, настроенный на перехват инициативы у «крестоносца» Буша и на доминирование на почве высоких моральных ценностей, выложился по полной, выступая в Совете Европы в Страсбурге. Объявив, что «послевоенный период и холодная война становятся пережитками прошлого», Горбачев обещал представить внушительный пакет предложений в области разоружения, включая сокращение советских ракет малой дальности «без промедления», если с этим согласится НАТО, имея в виду конечную цель ликвидировать все такие вооружения. Не забывая о недавних возражениях со стороны Альянса относительно «третьего нуля», он с вызовом провозгласил, что СССР быстро движется к своим «безъядерным идеалам», в то время как Запад придерживается своей устаревшей концепции «минимального сдерживания».
Советский лидер развил свое видение Общего европейского дома. В нем не могло быть места «самой возможности применения силы или угрозы силой», и он сформулировал необходимость замены «доктрины сдерживания на доктрину сдержанности». Он предвидел, что по мере того, как Советский Союз будет двигаться «к более открытой экономике», постепенно будет «возникать обширное экономическое пространство» по всему континенту. Он продолжал верить в возможность того, что «соревнование между разными типами общества ориентировано на создание лучших материальных и духовных условий жизни людей». Но он верил, что наступит день, когда «единственным полем битвы будут рынки, открытые для торговли, и умы, открытые для идей».
Признав, что у него нет «готового проекта» Общего европейского дома в кармане, он напомнил слушателям о работе Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. (СБСЕ), когда 35 стран согласовали общие принципы и ценности. И теперь, заявил он, «нынешнему поколению руководителей европейских стран, США и Канады, помимо самых актуальных вопросов, пора обсудить, какими они видят последующие этапы движения к европейской общности века». Краеугольными камнями Хельсинки-1975 были две сверхдержавы, и Горбачев считал, что положение не изменилось. «Реальности сегодняшнего дня и перспективы на обозримое будущее очевидны: СССР и США являются естественной частью европейской международно-политической структуры. И их участие в ее эволюции не только оправдано, но и исторически обусловлено. Никакой иной подход неприемлем»254.
Горбачев возвращался домой через Румынию, где провел совещание Политического консультативного комитета стран Варшавского пакта, которое формально и публично отказалось от доктрины Брежнева, – другими словами, оно подтвердило его заявление в Нью-Йорке и позднее в Страсбурге, что силу нельзя использовать для контроля за правительством отдельной социалистической страны. В сочетании с горбачевским пиаровским наступлением с использованием решительных односторонних сокращений советских вооруженных сил в Восточной Европе и с его настоятельным стремлением к тому, чтобы страны Варшавского договора и страны НАТО добились прогресса в договоренности относительно обычных вооружений к 1992 г.255, – все это стало очень волнующим моментом для Хонеккера и других сторонников жесткой линии внутри блока – Чаушеску в Румынии и Милоша Якеша в Чехословакии – особенно, если учесть, что они использовали саммит для страстного лоббирования военной интервенции войск Варшавского пакта в Венгрии. Сторонники подавления и непримиримости, они, должно быть, чувствовали, что Кремль покидает их256. Горбачев определенно не оставил у своих коллег – лидеров коммунистических стран – никаких сомнений, что он думает о динозаврах среди них. Он подчеркнул: «Необходимы новые перемены и в партии, и в экономике… Еще Ленин говорил, что новая политика нуждается в новых людях. И это зависит уже не только от субъективных желаний. Это диктует и сам ход процессов демократизации»257.
***
Советский лидер покинул Бухарест 9 июля, как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл в Варшаву. Каждая сверхдержава расставляла по Европе вехи смятения. Буш был встревожен мирным наступлением советского лидера в Европе и не в последнюю очередь тем, что американские союзники охвачены чем-то вроде горбимании, которая делает их податливыми на советские обольстительные предложения в области сокращения вооружений. Его собственный тур по Европе – в Польшу и Венгрию, перед встречей G7 во Франции – был запланирован в мае, но теперь он стал еще более насущным, чтобы как-то «компенсировать эффект» горбачевского посыла258.
На самом деле еще прежде, чем отправиться в Европу, Буш быстро и вполне уверенно отверг парижские предложения Горбачева: «Я не вижу причины, находясь здесь, пытаться изменить коллективное решение, принятое НАТО», – заявил он и повторил, что не будет никаких переговоров по ракетам меньшей дальности, пока в Вене не будет достигнуто соглашение о сокращении обычных вооружений в Европе, в той сфере, где у СССР было большое превосходство. В своих мемуарах он саркастически высказался о попытке Горбачева убедить Запад, что «не надо ждать конкретных действий со стороны СССР, перед тем как снизить степень своей военной готовности и готовности системы безопасности»259.
Сказав это, Буш не хотел, чтобы его европейская поездка выглядела как средство отнять очки у Горбачева. Президент весной уже выдвинул свои собственные идеологические принципы и был далек от желания начинать какой-то «крестовый поход», поскольку чутко следил за изменчивой ситуацией в Восточной Европе и деликатным положением, в котором Горбачев оказался у себя дома. Он не намеревался «отступать» от своих собственных ценностей свободы и демократии, но вполне осознавал, что «жесткая риторика неизбежно возбудит воинственные элементы внутри Советского Союза и Пакта». Его даже беспокоил сам факт его собственного присутствия, вне зависимости от того, что он при этом станет говорить. Желая быть, как он сам это называл, «ответственным катализатором, насколько это возможно, демократических изменений в Восточной Европе», он совсем не хотел стать стимулом для беспорядков: «Если станут собираться огромные толпы, намереваясь продемонстрировать свою оппозицию советскому доминированию, то события могут выйти из-под контроля. Вызывающая энтузиазм встреча может вылиться в насильственный бунт». И хотя он и Горбачев соперничали, стремясь занять более выгодное положение, оба лидера были согласны в важности сохранения стабильности в блоке, находившемся в состоянии изменений260.
Буш и его сопровождение прибыли на военный аэродром в Варшаве около 10 часов вечера 9 июля. Когда они покидали борт президентского самолета, чтобы принять участие в большом приеме в свою честь, стоял влажный летний вечер. Во главе встречающих находился Ярузельский, но впервые в рамках государственного визита среди них были и представители «Солидарности». К самолету зевакам подойти не разрешили, но на всем маршруте движения от аэропорта до правительственной резиденции в центре города, где остановились Джордж и Барбара Буш, в три-четыре ряда выстроились люди, размахивая флагами и показывая пальцами букву V в знак победы «Солидарности». Люди выходили на балконы своих квартир и засыпали цветами автомобильный кортеж. Общий настрой, вопреки опасениям Буша, выражал дружеское приветствие, а не был политической демонстрацией261. И так было во время всей поездки. Никакого столпотворения с выражением поклонения, как это было по время визита папы Иоанна Павла II в 1979 г. или Кеннеди в Берлине в 1963-м, не было. Общественное настроение казалось неопределенным, его можно было охарактеризовать словами американской журналистки Морин Дауд как смесь «нетерпеливости и медлительности», поскольку поляков ожидало странное будущее, в котором и «тюремщики», и те, кого они держали в заключении, теперь должны были попытаться управлять совместно262.
Буш и Ярузельский сумели превратить их плановую десятиминутную встречу «за чашкой кофе» утром 10 июля в пространный и откровенный разговор, продлившийся целый час. В поле их зрения попали польские политические и экономические реформы, финансовая помощь США, отношения сверхдержав, германский вопрос и представления Буша об «объединенной Европе без иностранных войск»263. Встреча президента с премьер-министром Мечиславом Раковским – ветераном коммунистической журналистики, внезапно назначенным на пост премьера в сентябре, тоже была деловой по характеру и вскрыла некоторые сложности, скрывавшиеся за уютным словом «реформа». Как пояснил Раковский, главной проблемой Польши было «провести реформы и избежать серьезных беспорядков». Приватизация станет важным шагом, но он предупреждал, что понадобится жизнь «целого поколения», прежде чем поляки примут неизбежно следующую за ней «стратификацию по степени богатства», свойственную Западу. Что полякам не нужно, добавил он, так это американский «незаполненный чек» – иными словами, «несвязанные кредиты» с Запада. Вместо этого он выражал надежду, что Буш будет способствовать тому, что Всемирный банк и МВФ проявят гибкость при реструктуризации выплат по долгам. Раковский признал, что его партия «совершала экономические ошибки в прошлом», но настаивал, что это «уже закрытая глава», и что польские лидеры теперь понимают необходимость перевернуть эту страницу. Буш обещал, что Запад поможет, но заявил, что он не намерен поддерживать радикальные, откровенно утопические требования профсоюзов, которые «могут разорить казну». В этом отношении Буш был ближе к целям польских реформаторов-коммунистов, включая Ярузельского и Раковского, стремившихся наладить экономическое сотрудничество с США и Западом, чем к Валенсе и оппозиции, которые хотели немедленной и широкомасштабной прямой помощи, чтобы смягчить тяготы переходного периода и таким образом получить народную поддержку264.
Президент говорил об экономической помощи, когда обратился к польскому парламенту в своей послеобеденной речи 10 июля, но то, что он широко описал как «План шести пунктов», было встречено со смешанными чувствами. Потребность в помощи была очевидной: польские долги западным кредиторам летом 1989 г. достигли 40 млрд долл., при том, что экономический рост в стране едва достигал 1%, а инфляция стремилась к 60%. И хотя Буш обещал обратиться к Конгрессу за выделением 100 млн долл. из фонда предприятий, чтобы оживить польский частный сектор, он надеялся, что остальная часть пакета помощи, который он предлагал (325 млн в виде новых займов и реструктуризация долгов на 5 млрд долл.), будет предоставлена Всемирным банком, Парижским клубом, G7 и другими западными институтами265. Это выглядело довольно неопределенно и было совсем непохоже на 10 млрд, которые запрашивал Валенса. И это даже близко не напоминало помощь в 740 млн долл., обещанную Рейганом в самый пик холодной войны, которую он предложил правительству коммунистов перед введением ими в декабре 1981 г. военного положения266. Конечно, это предложение делалось до того, как внешний долг США в результате политики рейганомики резко вырос – с 500 млрд долл. в 1981 г. до 1,7 трлн долл. в 1989 г.267 Понятно, что общественная реакция на это в Польше была открыто критической. «Очень мало конкретики», – жаловался спикер правительства, – и слишком много постоянно повторяющихся пояснений о необходимости дальнейших жертв со стороны польского народа». Этого было слишком много для популярных надежд в Польше на «мини-план Маршалла». В то время как Буш считал себя «осторожным», Скоукрофт говорил журналистам, защищаясь, что ценность помощи заключается настолько же в «политическом и психологическом», насколько и в «сущностном» отношении268.
На следующий день Буш улетел в Гданьск, где встретился с Валенсой за ланчем в его скромном, но уютном двухэтажном доме в пригороде. Это была подчеркнуто неформальная встреча, домашний визит. Джордж и Барбара поболтали с Лехом и Данутой как «частные лица», потому что лидер «Солидарности» не участвовал в выборах и теперь не имел никакой официальной политической роли. Осмотрев комнаты, президент был поражен «отсутствием современной техники и меблировки, которые большинство американских семей считают обычными». «Стильные официанты», взятые взаймы в ближайшем отеле, и «типичные» балтийские блюда, подаваемые на серебряных подносах, не сочетались с этими реальностями. После того, что Буш назвал «неопределенными и нереалистичными» финансовые запросы Валенсы, подкреплявшиеся предупреждением о «второй Тяньаньмэнь в центре Европы», если польские экономические реформы провалятся, президент с удовольствием убыл с этого непростого свидания и отправился на верфи имени Ленина, чтобы обратиться к 25 тыс. докеров. Он рассматривал свое выступление у ворот завода перед мемориалом в память о 45 рабочих, убитых службами безопасности во время забастовки 1970 г., – изображавшим три якоря, нанизанных на гигантские стальные кресты, – как «эмоциональный пик» своей польской поездки. Буш чувствовал «сердцем и душой, что он эмоционально вовлечен», и при этом он отдавал себе отчет, что «является свидетелем истории, которая делалась на этом самом месте»269.
Его поездка в Польшу была короткой (9–11 июля), но она подчеркнула масштаб политических и экономических проблем, которые предстояло решать. Один из президентских советников сказал для прессы, что «это потребует сотен миллионов долларов от нас и от множества других людей, но даже это не гарантирует конечный успех»270.
Вечером, когда Буш приехал в Будапешт, разразилась мощная гроза. Их с Барбарой отвезли прямо на площадь Кошута, названную так в честь предводителя потерпевшей поражение венгерской революции 1848 г., которая в свою очередь стала одним из центров восстания 1956 г. против господства Советов. Когда автомобильный кортеж примчался на площадь и встал напротив здания парламента, его приветствовало множество собравшихся здесь людей, что-то около 100 тыс., – и эта толпа была заряжена энтузиазмом, полна ожиданий, чему нисколько не мешали потоки воды с небес. Буш тоже был взволнован. Это был первый в истории визит американского президента в Венгрию271.
Дождь шел все время, пока председатель Президентского совета Венгрии Бруно Штрауб на протяжении доброй четверти часа бубнил свою приветственную речь. Когда Буш, наконец, получил возможность говорить, он отстранил зонт и, не заглядывая в приготовленный текст, экспромтом произнес несколько фраз «от всего сердца» об изменениях, происходящих в Венгрии, и о ее настроенном на реформы руководстве. Как только он закончил свою речь, сквозь тяжелые тучи выглянуло заходящее солнце. Там был еще один особый момент. Краем глаза Буш увидел пожилую женщину возле подиума, промокшую до нитки. Он снял свой плащ (который на самом деле принадлежал одному из секьюрити) и накинул ей на плечи. Зрители ревели в знак одобрения. Затем Буш спустился к толпе, пожимая руки и раздавая наилучшие пожелания. Скоукрофт записал: «Между ним и толпой возникла совершенная эмпатия»272.
На следующий день, 12 июля Буш следовал сценарию, похожему на тот, что был во время визита в Варшаву. Он с большой осторожностью следил за тем, чтобы его не связали слишком тесно с какой-либо оппозицией официальным партийным лицам. Конечно, его встречи наедине как с оппозицией, так и с представителями коммунистов, проходили за закрытыми дверями, а публично он выражал свою поддержку коммунистам-реформаторам, стоявшим во главе правительства. И все-таки различие в атмосфере между Будапештом и Варшавой было вполне ясным: Венгрия уже два десятилетия пользовалась «большей политической свободой – в ночных клубах разыгрывали сатирические сценки о правительстве – и обладала большей экономической энергией, при которой изобилие фруктов и овощей на продуктовых рынках было полнее, чем в какой-либо другой стране Варшавского пакта273.
Во время своих переговоров с Бушем премьер-министр Миклош Немет подчеркивал свою твердую веру в то, что Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСРП) сможет «обновиться и способна через выборы получить доминирующее положение в коалиции. Опасность состоит в том, что, если ВСРП проиграет, то оппозиция не окажется готовой править». Буш с этим согласился. В отношении «политической системы Венгрии» президент утверждал, что «принципы, озвученные премьер-министром, это как раз то, что и поддерживает Америка» и обещал, что он «не будет делать ничего такого, что способно осложнить процесс реформ». Настроенный на стабильность Буш полагал, что коммунисты-реформаторы лучше всего подготовлены для роли инженера, способного постепенно и успешно увести страну с орбиты Москвы274.
В Венгрии – в отличие от Польши, где политическая ситуация была намного более неопределенной перед лицом выборов, – вопрос был не в том, будут ли проводиться реформы, а в том, насколько они будут быстрыми и на чьих условиях будут проводиться. В настоящий момент коммунисты-реформаторы осуществляют трансформацию и делают это уверенно. В международном плане у Венгрии тоже больше пространства для маневра, чем у Польши, имеющей стратегически важное значение для Советского Союза. В Будапеште знали и то, что им выгодно следовать за Варшавой в этом спуске со стапелей. Было очевидно, что Польша, взяв курс на реформы, определенно сумела уйти, оставаясь при этом в Варшавском пакте, и венгерские реформаторы тоже предпочли этот же путь – особенно после того, как Горбачев твердо озвучил свою антиинтервенционистскую позицию на саммите в Бухаресте (в 1956 г. Венгрия слишком далеко зашла, объявив о выходе из Варшавского пакта).
Поняв новые правила игры, венгры еще и хотели проверить пределы допустимого. Фактически они уже это начали, приступив к снятию колючей проволоки на границе. Имре Пожгаи, заместитель премьер-министра Венгрии при Немете, объяснял Бушу, что есть только два случая, способные повлечь за собой советскую интервенцию: «развязывание гражданской войны» или «провозглашение Венгрией нейтралитета». Последний представлялся ему маловероятным: он был уверен, что Венгрия сможет осуществить «мирную» трансформацию. И последнее просто «невозможно» для Венгрии: как и в случае с Польшей, членство Венгрии в Организации Варшавского договора не обсуждается, чтобы не провоцировать Кремль. Буш совершенно согласился с тем, что венгры не должны выбирать между Востоком и Западом. Что на самом деле важно, провозгласил тот, так это чтобы «советские реформы продолжались», и при этом Соединенные Штаты не должны «осложнять положение Горбачева и не затруднять осуществление венгерского курса»275.
Буш нашел, что реформаторы здесь деятельны и заряжены энергией. В отличие от Польши, выглядевшей тусклой, перегруженной и обеспокоенной за свой новый политический плюрализм, Венгрия быстро открывалась на Запад, казалась действительно наполненной жизненной силой. И Буш дал это понять в своей речи в Университете Карла Маркса днем 12 июля. «Я вижу людей в движении, – сказал он. – Я вижу цвета, креативность, склонность к экспериментам. Сама атмосфера в Будапеште наэлектризована, насыщена оптимизмом». Буш хотел, чтобы его слова подействовали как акселератор процесса изменений, ведущих к многопартийным выборам, с тем чтобы страна не застряла на полпути. «Соединенные Штаты окажут поддержку, но не для сохранения статус-кво, а для продвижения реформ», – провозгласил он, прежде чем напомнить аудитории, что здесь, как и в Польше и во всем блоке, не существует простых решений: «Еще существуют остатки сталинистской экономики – огромные, неэффективные заводы и запутанная система цен, которую никто не может понять, а также масштабные субсидии, искажающие экономические решения». Но, добавил он, «венгерское правительство все больше передает дело управления магазинами управляющим, сельскими хозяйствами – фермерам. И творческие силы людей, однажды высвобожденные, станут создавать собственные импульсы. И это передаст вам, каждому из вас ваши собственные судьбы – и судьбу Венгрии»276.
В духе этой возвышенной риторики президент, так же, как и в Варшаве, предлагал довольно скудную экономическую помощь: 25 млн долл. из фонда поддержки частных предприятий; 5 млн долл. для регионального экологического центра; обещание предоставления статуса «наиболее благоприятствуемой нации», как только Венгрия либерализует свое эмиграционное законодательство. Кроме того, он много говорил о направлении делегации волонтеров Корпуса мира для обучения венгров английскому языку277.
Его аудитория прослушала всю речь спокойно, но внимательно. Самым эмоциональным моментом стали комментарии Буша на тему «злого символа разделения Европы и изоляции Венгрии» – заборов из колючей проволоки, которые, как он сказал, «скатаны и скручены в рулоны». Буш пафосно провозгласил: «Впервые Железный занавес начали снимать… И Венгрия, ваша великая страна, пошла впереди». Что еще важно, так это то, что вместе с выводом советских войск, как он обещал, «мы будем работать вместе над тем, чтобы уйти от сдерживания, уйти от холодной войны». Заканчивая свою речь, он вновь воззвал: «Давайте сами писать свою историю о том, как наше поколение сделало Европу единой и свободной». За это зал аплодировал ему стоя278.
***
В четверг 13 июля, когда Буш летел из Будапешта в Париж на саммит G7, он и Скоукрофт думали о том, что «рождается новая Европа». Во время полета президент поделился своими впечатлениями с журналистами президентского пула, летевшими вместе с ним. Он сказал, что убывает «с таким настоящим ощущением» перемен, происходящих в Восточной Европе, – перемен, которые он описывал как «абсолютно удивительные», «резонансные» и «жизненные». Он заявил о своем намерении «сыграть конструктивную роль» в этом процессе перемен. Встречи, особенно с венгерскими лидерами, были «очень хорошими, очень откровенными». Буш разошелся и добавил: «Я имею в виду, что это были эмоциональные встречи, а не традиционные дипломатические, когда я “читаю по бумажке” и вы “читаете по бумажке”». Там была «энергия и страсть», и он заметил, что это его «очень вдохновило»279.
Президент не знал, чему еще предстоит произойти, и поэтому оставался осторожным, но он определенно был под впечатлением от увиденного. «Я твердо убежден, что это волна свободы и, если хотите, волна будущего», – сказал он оживленно. Кому-то это могло показаться излишне сдержанным и слишком комплиментарным по отношению к старой коммунистической гвардии. Хотя другие, включая его собственного заместителя советника по национальной безопасности Роберта Гейтса, доказывали, что президент играет в более сложную игру. Превознося демократические свободы и национальную независимость перед толпами, на встречах с лидерами из числа старой гвардии он говорил на языке прагматизма и примирения – в стремлении «облегчить им путь, ведущий от власти»280.
Конечно, проблема, с которой столкнулась его администрация, состояла в том, чтобы поддерживать реформы в Восточной Европе и при этом не заходить слишком далеко и не забегать вперед, дабы не спровоцировать беспорядки и даже реакцию. Сложные экономические преобразования легко могли породить инфляцию, безработицу и нехватку продовольствия – и любое из этих зол могло вынудить ориентированных на реформы лидеров повернуть вспять. Кроме всего прочего, Буш хотел избежать возможной ответной советской реакции – в стиле 1953, 1956 и 1968 гг. Ключом к успешным изменениям в советском блоке была советская уступчивость, и Буш намеревался облегчить Горбачеву обеспечение этого. «Мы здесь не для того, чтобы дразнить Горбачева, – говорил он репортерам. – Как раз наоборот – поддержать все те реформы, которые он защищает, и новые реформы»281.
С этими свежими впечатлениями от революционных изменений Буш прибыл в город, поглощенный празднованием революции. 14 июля 1989 г. исполнялось двести лет со дня взятия Бастилии, с чего начались четверть века шатаний Франции от политики в интересах народа до имперской автократии. Французский президент Франсуа Миттеран был намерен произвести впечатление на гостей со всего света экстравагантным празднованием французского величия – и своим собственным почти королевским положением. Впрочем, принимая во внимание драматические события в Восточной Европе, французская историческая церемония в июле 1989 г. действительно имела особый резонанс.
Сразу после прилета Буша отвезли на площадь Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Он сидел в одном ряду с лидерами шести ведущих индустриальных стран и с более чем двадцатью лидерами развивающихся стран Африки, Азии и Америки и принял участие в церемонии в память о принятии в 1789 г. Декларации прав человека. Актеры зачитывали выдержки из Декларации и цитировали лидеров революции, высеченные в камне статьи документа были украшены гирляндами цветов, а в голубое парижское небо выпустили полтысячи голубей. Замысел Миттерана был очевидным: французскую революцию следовало помнить не за потоки пролитой крови, а за провозглашение вечных ценностей: свободы, равенства, братства. За всем этим последовал прием в совершенно новом, огромном, сверкающем здании Оперы на площади Бастилии, построенном на том самом месте, где когда-то стояла королевская тюрьма. А утром следующего дня два десятка особых гостей вместе с лидерами стран G7 Миттеран пригласил присутствовать на военном параде на Елисейских полях в честь Дня Бастилии, который французский президент постарался превратить в масштабную демонстрацию французской военной доблести. В скрытом посыле всего этого нельзя было усомниться: Пятая республика все еще является державой глобального уровня. Глядя на 300 танков, 5 тыс. солдат и тактические ядерные ракеты, двигающиеся по Большим бульварам Парижа, Скоукрофт не мог не вспомнить советские парады на 9 мая.
Друзья Миттерана из третьего мира по-настоящему раздражали американцев. Помимо всего прочего, экономический саммит G7 в Париже готовился специально для того, чтобы рассмотреть неотложные вопросы смягчения бремени выплаты долгов и состояние глобальной окружающей среды. Делегация США совершенно не желала, чтобы саммит G7 превратился в спонтанную встречу Север–Юг на полях французского национального юбилея, и особенно потому, что страны-должники уже и так привлекли к себе внимание в Париже, обратившись с предложением списать долги странам третьего мира на сумму 1,3 трлн долл. В Белом доме опасались, что на такой внезапной встрече кредиторов и должников, за которую выступала Франция, «Юг» выступит единым блоком и облечет свои требования к «Северу» в форму «репараций» за годы колониальной «эксплуатации», изложенную с использованием марксистско-ленинской риторики. И вообще, США были решительно против коллективных действий должников. С их точки зрения проблемы долгов должны решаться в прямых двусторонних переговорах между странами, и именно в этом контексте Америка объявила о краткосрочном займе для страны-соседки Мексики на сумму 1–2 млрд долл. и обозначила такую же возможность для Польши282.
Поскольку центральной темой саммита G7 было смягчение долгового бремени, генерал Ярузельский решил этим воспользоваться и 13 июля обратился к «Большой семерке» с предложением принять двухлетнюю многомиллионную программу срочной помощи. Его программа из шести пунктов была опубликована во всех важнейших партийных газетах Польши. Она предусматривала выделение 1 млрд долл. на реорганизацию системы поставок продовольствия, новые кредиты на 2 млрд долл., а также сокращение и реструктуризацию польского долга на сумму около 40 млрд долл., и это не считая отдельного финансирования специальных проектов. Важным было то, что запрос Ярузельского одобрило движение «Солидарность»; на самом деле Валенса только что выступил в поддержку одобренного компартией кандидата в президенты, что делало победу генерала Ярузельского более чем вероятной, и это позволяло выйти из политического тупика, на несколько недель возникшего после выборов283.
Все еще окрыленный своими последними визитами, Буш был доволен, что может использовать финансовые требования Ярузельского, чтобы поставить Восточную Европу в центр обсуждения на саммите, перехватив инициативу у Миттерана, одобрившего набор участников в малую глобальную лигу. Но раз содействие демократическим переменам становилось центральным вопросом встречи, то это означало, что саммиту придется заниматься и гораздо менее приятным для американцев вопросом о сорвавшейся революции в Китае. Так парижская встреча G7 оказалась посвященной двум самым горячим политическим вопросам текущего момента – проблемам, потенциально способным нарушить мировой порядок.
Как только в пятницу после полудня 14 июля саммит начал свою работу – он проходил в новой стеклянной Пирамиде, ставшей входом в Лувр, – лидеры принялись обсуждать, насколько далеко им стоит зайти в осуждении Китая. Большинство европейцев во главе с французским президентом хотели наказать КНР показательными санкциями, но Буш (так же как премьер-министр Тэтчер, опасавшаяся за судьбу Гонконга284) призвал к сдержанности. Президент США хотел, чтобы американо-китайским отношениям, столь важным для сохранения глобального мира, не был причинен сколько-нибудь серьезный ущерб. Надо сказать, что в Париже он рисковал, потому что Сенат США как раз в тот самый день проголосовал (81 голос против 10) за наложение США жестких санкций против КНР.
Премьер-министр Японии Сосукэ Уно, единственный азиатский голос в G7, тоже высказался за осторожность. Токио совсем не хотел изоляции Пекина, что могло толкнуть его в руки Москвы. Более того, учитывая длинную историю японских вторжений в Китай, он считал, что у Японии нет моральных оснований для наказания Пекина. Япония полагала, что находится в уникальном положении. Если она сможет оставить открытыми каналы связи с Китаем, используя при этом свое положение ключевого союзника Америки в Тихоокеанском регионе, она сможет стать и посредником в восстановлении американо-китайского сотрудничества. Видя в этом реальные выгоды, Буш и Уно вместе старались смягчить тон коммюнике в отношении Китая. В конечном счете лидеры выступили с решительным осуждением «жестоких репрессий» в КНР, но не объявили ни о каких дополнительных санкциях и лишь призвали китайцев к «созданию условий, позволяющих избежать изоляции»285.
Как только с острой темой Китая было покончено, G7 в субботу перешла к поиску согласия в отношении Польши и Венгрии. Принятая ими «Декларация об отношениях Восток–Запад» гласила: «Мы признаем, что политические перемены, происходящие в этих странах, будет трудно удержать без экономического прогресса»286. Чтобы ускорить этот прогресс, они согласились предоставить более благоприятные, по сравнению с обычными, условия для кредитов МВФ, позволив Польше отложить выплату в 1989 г. транша в 5 млрд долл. в счет погашения внешних займов. Они также согласились рассмотреть совокупность видов экономической помощи Польше и Венгрии (инвестиции, совместные предприятия, профессиональная подготовка и участие опытных менеджеров), также и чрезвычайные поставки продовольствия.
Все это не являлось особо удивительным. Что было намного более замечательным и в конечном счете важным, так это решение о том, что координировать экономическую и продовольственную помощь странам Восточного блока будет Европейское сообщество – это стало поразительной новостью для международной политики287. Буш получил то, чего он желал. Привлечение помощи для Восточной Европы наполнило его в основном символический визит в Варшаву, Гданьск и Будапешт настоящим содержанием. Но он нисколько не собирался нести это бремя в одиночку. G7 с готовностью восприняла его концепцию «общей Западной акции» в поддержку Польши и Венгрии, которая, как надеялся Буш, вытащит дела Западной и Восточной Европы из ведения одних только сверхдержав, равномерно распределит тяготы и сделает возможно большими, более синхронными и менее конкурентными западные усилия в этом отношении. Белый дом также полагал, что действия США, предпринимаемые в более широких многосторонних рамках, будут восприняты Советами как менее угрожающие. Работать вместе с союзниками и через них станет отличительной особенностью дипломатического стиля Буша.
Канцлер Коль, немедленно поддержанный другими участниками, предложил Европейской комиссии возглавить группу стран-доноров для оказания помощи Польше и Венгрии. Это в конечном счете сформировало G24: двадцать четыре промышленно развитые страны, входящие и не входящие в состав ЕС. Председатель Европейской комиссии Жак Делор, всегда готовый к принятию на себя лично большей роли как главы наднационального органа, выразил полную готовность руководить «координационным центром помощи». Кроме всего прочего, поскольку в 1988 г. ЕС уже установило прямые отношения с СЭВ как с торговым союзом, Венгрия выразила желание работать в направлении соглашения об ассоциации. Итак, в то время как США уступили место в переднем ряду, ЕС обрело положение лидера, что свидетельствовало о его растущей политической силе.
Пакет мер по оказанию помощи странам Восточной Европы стал первым случаем, по которому Европейское сообщество было выбрано в качестве агентства по выполнению решений G7. И это решение было предвестником будущего. Ведь буквально тремя неделями раньше на встрече в Мадриде 26–27 июня страны ЕС приняли решение об образовании в 1992 г. более тесного политического и экономического союза. Совершенно не случайно, что проект был выработан самим Делором288.
Делор был выдвинут на пост председателя Европейской комиссии в 1984 г., после того как в течение трех лет чрезвычайно эффективно работал министром финансов Франции при Миттеране, подчеркивавшем его талант как политического медиатора. Он успешно отговаривал своего известного упрямством босса смирить свое социалистическое кейнсианство проведением политики бережливости и фискальной консолидации. Это позволило укрепить слабевший франк и позволило Франции остаться в Европейской валютной системе. Опираясь на эти достижения, Делор перебрался в Брюссель, став Председателем Комиссии. Он искусно подвел двенадцать часто разноречивых членов Европейской комиссии к подписанию Единого европейского акта в 1986 г., содержавшего твердую приверженность двигаться к полному экономическому и валютному союзу (ЭВС). Делор, вне всякого сомнения, видел в ЭВС путь к продвижению европейской интеграции, но он не был ярым федералистом и приверженцем Соединенных Штатов Европы. Его возражения – прагматические и философские – против европейского федерализма помогают понять его осторожность в отношении высокоцентрализованных подходов при принятии решений, когда зарождалась «еврозона». В 1988 г. на встрече Совета ЕС в Ганновере европейские лидеры уполномочили Делора возглавить комитет, состоявший из управляющих центральными банками и других экспертов по разработке конкретных шагов в направлении ЭВС. И в этом случае он снова проявил свою способность к поиску компромиссов между предложениями различных экономических подходов, в особенности в построении мостов понимания между Францией и Германией289.
Таким образом, в Мадриде в июне 1989 г. лидеры ЕС-12 пришли к согласию в том, что в следующем году начнется первый этап ЭВС, который завершится с созданием единого рынка в 1992-м. Это этап включит в себя устранение всякого контроля за обменом валют, создаст свободный рынок финансовых услуг и осуществит усиление политики конкурентности – что повлечет за собой решительное сокращение государственных субсидий. Другим зубцом в шестеренке этой политики являлось усиление социального согласия, что предусматривало свободу передвижения людей между странами и гарантии прав работников. Построение единого рынка при достижении социального мира являлось высшим приоритетом в этой новой и поразительной главе истории Сообщества. Стала очевидной бóльшая роль внешней политики в делах ЕС и самого Председателя Комиссии. Именно поэтому Буш настоял на встрече с Делором в Вашингтоне в июне, за две недели до мадридской встречи и за пять недель до G7.
Эта встреча должна была показать, что Соединенные Штаты всерьез принимают Сообщество и проект «ЕС’92» (так в США кратко обозначили трансформацию Европейского сообщества в Европейский союз)290. Выкинув из головы опасения по поводу экономически протекционистской «крепости Европа», Буш и Бейкер дали ясно понять – Америка хочет видеть, что завершение создания единого европейского рынка связано с действительным прогрессом на так называемом Уругвайском раунде переговоров по новому соглашению о глобальных тарифах и торговле, которое должно было заменить систему ГАТТ эпохи холодной войны. Делор согласился, что ЕС’92 и переговоры по глобальному торговому соглашению должны двигаться вперед одновременно: если Уругвайский раунд не сможет завершиться успехом, то и Сообщество не сможет достичь целей ЕС’92. Фактически он подчеркнул: «Это станет противоречием, если Уругвайский раунд закончится неудачей, а ЕС’92 двинется вперед». Скользкими моментами и в том и в другом случае оставались французское сельское хозяйство из-за мощного фермерского лобби в стране и Япония с ее мощной экспортно-ориентированной экономикой, но жестко протекционистским внутренним рынком. Делор надеялся, что «в будущем США, ЕС и Канада смогут совместно оказать давление на японцев»291.
Несмотря на то что ЕС со всей очевидностью превращалось в независимого игрока, оно всегда опиралось на собственную эффективность ключевых стран-членов. При всех своих амбициях Делор никогда об этом не забывал. Наиболее значительной державой в экономическом отношении в ЕС была Федеративная Республика Германия, и поэтому жизненно важно было плотно сотрудничать с Колем. Буш, конечно, знал об этом; и он также хорошо понимал, что американо-германская ось является единственным способом соединения со всем европейским двигателем. Кроме всего прочего, канцлер сам всегда поддерживал ЭВС. Делор говорил Бушу: «Коль придает новую силу целям Европейского сообщества». Конечно, теперь, летом 1989 г., возникала опасность, что дальнейшая западноевропейская интеграция может сойти с рельсов в силу дезинтеграции Восточной Европы. Но и в этом случае роль Германии была решающей.
Все это стало ясным во время саммита G7 в Париже при обсуждении вопроса о том, каким образом предоставить помощь Польше и Венгрии. Именно Коль поддержал идею соединения всей западной финансовой помощи. Для канцлера – даже если принимать во внимание германский вопрос – такой путь обладал несколькими преимуществами. Во-первых, Западная Германия (так же как и Америка) намеревалась поддержать импульс изменений в рамках Восточного блока, но он хотел, чтобы процесс шел мирным путем и без всякого кровопролития. Совместная экономическая инициатива Запада могла предотвратить анархию и сдержать советскую военную интервенцию. Во-вторых, если ФРГ будет действовать под зонтиком ЕС, никто не сможет обвинить Коля в том, что он действует в одиночку – отстраняясь от Запада, заигрывая с Востоком, даже восстанавливает германскую державу таким образом, что это напоминает времена кайзера и даже фюрера.
Что еще в отличие от Буша Коль готов был сделать, так это выложить существенную сумму на стол. 28 июня он уже сказал Бушу, что он намерен обещать Венгрии дополнительно 1 млрд марок (около 500 млн долл.) «свежих денег» в составе необусловленного займа такого же размера, который он уже предоставил в 1987 г. И хотя в окончательном виде было понятно, что все это финансирование представляет собой займы и кредиты на приобретение немецких товаров и услуг, а не прямую помощь, все равно эта сумма была в сорок раз больше той, что президент сам предложил Будапешту. Канцлер был также намерен помочь Польше на двусторонней основе, но этот вопрос пока оставался замороженным, поскольку был связан с положением немецкого меньшинства в Польше – вопросом очень чувствительным для поляков и праворадикальных немцев в ФРГ. Это противоречие, коренившееся в наследии нерешенных территориальных проблем Второй мировой войны, было еще одним напоминанием о тех ограничениях, в которых ФРГ может действовать на международной арене. Тупиковая ситуация со сделкой мешала осуществлению намерения Коля посетить Варшаву. Изначально он планировал сделать это летом, по пятам следуя за Миттераном и Бушем, но государственный визит в Польшу в результате состоялся только 9 ноября292.
Делор и вся G24 действовали быстро, потому что Варшава и Будапешт опасались, что экономический крах может подорвать демократические реформы. Официальные лица, тем не менее, делали различие между Венгрией и Польшей, поскольку только последняя запросила немедленную помощь продовольствием, чтобы избежать жестокого дефицита. Венгерские ожидания были изложены на 24 страницах и были сосредоточены на улучшении условий торговли с третьим миром и либерализации иностранных инвестиций. Поляки, конечно же, рассчитывали на то же самое, но после того, как им помогут справиться с текущим продовольственным кризисом. 18 августа ЕС объявило о том, что в начале сентября в Польшу прибудут 10 тыс. т мяса в качестве первой части пакета помощи на 120 млн долл., состоящего из поставок мяса, зерновых, цитрусовых и оливкового масла. Дальнейшая поставка 200 тыс. т пшеницы со складов в Германии, а также 75 тыс. т овса из Франции и 25 тыс. т из Бельгии прибудут следом, а еще готовятся поставки на 500 тыс. т. Замысел заключался в том, что польское правительство будет продавать продовольствие людям, а полученные доходы реинвестировать в собственную экономику, особенно в частный фермерский сектор. Эта договоренность была формализована в соглашении о фонде. Роль, сыгранная ЕС/G24 в конце лета 1989 г., станет шаблоном для пакетов помощи Востоку в будущем293.
Таким образом, в конце концов именно Брюссель, а не Вашингтон стал заниматься регулированием западной поддержки перемен в Центральной и Восточной Европе. Это в некотором смысле ослабило претензии Буша на то, что он и Соединенные Штаты «раскрутили» реформы в Польше и Венгрии. И хотя тон его риторики с весны повысился, его собственные действия показывали, что он отдает предпочтение эволюции перед революцией, больше любит стабильность и порядок, поддержанные осторожной политикой разделения бремени ответственности с союзниками294. Мягкая рецессия в США и долговое наследие времен Рейгана, драматически увеличившего дефицит государственного бюджета, укрепили представления Буша об опасности анархии в Европе, способной стать бездонной бочкой для американских долларов. Поэтому президент был доволен результатом саммита G7. Больше всего его обеспокоило письмо, зачитанное Миттераном в День Бастилии в самом начале их встречи.
***
Письмо было от Горбачева – и это было впервые, когда советский лидер официально обратился к G7. И впервые СССР предлагал не только расширить экономическое сотрудничество, но и прямое советское участие в подобного рода усилиях.
«Формирование связанной мировой экономики требует, чтобы многостороннее экономическое партнерство было поставлено на качественно новый уровень», – писал Горбачев. – Многостороннее сотрудничество Восток–Запад по глобальным экономическим проблемам выходит далеко за рамки развития двусторонних связей. Такое состояние дел не кажется справедливым, принимая во внимание тот вес, который имеют наши страны в мировой экономике». Все это, сказал Горбачев, является логическим продолжением его программы внутренней экономической реструктуризации. «Наша перестройка неотделима от политики, направленной на наше полное участие в мировой экономике, – заявил он. – Мир лишь выиграет от открытия такого большого рынка, как в Советском Союзе»295.
Как и всегда у Горбачева, его риторика была внушительной, даже неотразимой. Без сомнения, советский лидер был готов присоединиться к G7. Но Буш Советов опасался. Их реформы еще не продвинулись настолько далеко, чтобы претендовать на место в топ-клубе свободных рыночных экономик296. И он видел, что советское участие будет выгодно лишь Москве. Впрочем, письмо Горбачева, широко цитировавшиеся в международной прессе, невозможно было игнорировать. Отсутствие советского лидера чувствовалось во время всего саммита, так же как это было во время визитов Буша в Варшаву и Будапешт. Да и Тяньаньмэнь тоже было еще одним призраком на пиру – в качестве зримого напоминания о том, что может произойти, если демократические перемены пойдут неверным путем.
После того как воскресным утром 16 июля саммит завершился, Буш коротко обменялся мнениями с Бейкером и Скоукрофтом, стоя на ступеньках посольства в Париже, обращенных в сад; они обсуждали собственные впечатления и обретенный опыт за прошедшие дни. Внезапно президент объявил, что наконец пришло время ему встретиться с Горбачевым. Он говорил об этом, как позднее вспоминал Скоукрофт, «таким образом, как он обычно делал, когда на что-то решался. Ни Бейкер, ни я не отговаривали его. Бейкер и раньше не был так решительно настроен против несвоевременной встречи с Горбачевым, как я, я теперь и не был так решителен в этом отношении»297.
Все выглядело как внезапный порыв, но на самом деле Буш обдумывал это на протяжении нескольких недель. Особенный импульс дали западные немцы. 6 июня в Овальном кабинете президент ФРГ Рихард Вайцзеккер предупреждал Буша о последствиях недавних волнений в Польше и Венгрии. «Будет полезно, если США проведут с Москвой закрытые переговоры о будущем Восточной Европы», – сказал он. Западноевропейские союзники сделают то же самое, основываясь, как он сформулировал, «на ценностях Атлантического альянса», и ФРГ станет действовать в этих рамках, чтобы избежать каких-либо суждений о проведении ею самостоятельной Восточной политики (Ostpolitik298). Позже Вайцзеккер вернулся к тому же самому пункту в разговоре, еще более откровенно предупреждая Буша о том, что «в международных отношениях Советы приближаются к таким временам, которые им совершенно неизвестны, и у них есть обоснованные опасения». Он твердо добавил: «Западу надо провести переговоры с Москвой, чтобы развеять эти страхи». Президент прямо на это ничего не ответил, но, переходя к Китаю, заметил, что у него «есть ощущение, будто Советы говорят “там же по милости божьей окажемся и мы”. Быть может, они опасаются, что реформы могут повлиять на них таким же образом»299.
Понимание значимости этого разговора усилилось после того, как 15 июня канцлер Коль – сразу после переговоров с Горбачевым в Бонне – позвонил Бушу, чтобы поделиться своими впечатлениями. Советский лидер, сказал он, находится в «отличной форме» и сравнительно «оптимистичен», показывая, что он настроен на поддержку усилий по проведению реформ в Польше и Венгрии. Но Коль хотел вернуться и к другому вопросу: Горбачев «искал пути установления личного контакта с президентом». Считая, что это именно так, канцлер сообщил, что он и Горбачев «поговорили немного о президенте». Было понятно, сказал Коль, что Горбачев к Соединенным Штатам в целом относится с подозрением, но в то же время у него есть «большая надежда на установление лучшего контакта с Бушем, чем у него был с Рейганом». На интеллектуальном уровне, настаивал Коль, Горбачев «поладит с президентом» и хочет «углубить контакты с США и лично с Бушем». Коль агитировал за то, что Горбачеву надо время от времени направлять прямые и личные письма. Это, считал он, станет «сигналом доверия президента, что является для Горбачева ключевым словом, так как он высоко ценит “личную химию”». Буш, по-видимому, принял все это с долей скепсиса – в конце разговора, цитируем официальные американские записи, он лишь «поблагодарил канцлера за его рассказ и сказал, что внимательно его выслушал», при этом главные моменты разговора были переданы в них точно300.
Во время уикенда у Буша была возможность подумать о том, что произошло за неделю. 18 июня, через три дня после разговора с Колем, он записал в своем дневнике: «Я постоянно держу в уме, что мы должны что-то делать со встречей с Горбачевым. Я хочу встречи; но не желаю вязнуть в вопросе о контроле над вооружениями». Буш надеялся, что могут произойти какие-то «мировые катаклизмы», которые могут дать ему и Горбачеву шанс «сделать нечто, что бы продемонстрировало сотрудничество», и оказаться в процессе «спокойного разговора» без растущих ожиданий достижения какого-то драматического прорыва в вопросе о контроле над вооружениями. Короче говоря, президент желал обмена мнениями, а не саммита301.
Визиты в Польшу и Венгрию обострили осознание Бушем того, что реформы могут легко выйти из-под контроля и обернуться насилием. Он не мог забыть фото с площади Тяньаньмэнь и не мог игнорировать «травматические восстания» в Восточной Европе в прошлом. И если сейчас Восточная Европа вошла в состояние перехода, то этот процесс должен быть управляем сверхдержавами: «откладывать встречу с Горбачевым становится опасным»302. И Миттеран именно этот момент заострил, когда у себя дома 13 июля, в канун встречи G7, развеивал озабоченности Буша относительно поиска такого повода, который бы не подогревал излишних ожиданий. Французский президент сказал, что они оба «могут просто встретиться как президенты, которые раньше не встречались – для обмена мнениями»303.
Давление со стороны европейских союзников становилось все более интенсивным, но Буш был упрям и осмотрителен: в свое время он должен сам принять решение. К середине июля 1989 г. он наконец это сделал. Спустя семь месяцев президентства – освоившись в роли президента и отойдя от своего начального открытия Китая – его вниманием прочно овладела Европа, и он укрепил свое персональное положение как лидера на саммите НАТО в мае и на недавней встрече G7. Буш далеко ушел от своей отстраненной роли на Говернорс-айленд, оказавшись тогда в струе от горбачевского выступления с гастролями на Манхэттене. Сейчас он ощущал себя психологически готовым встретиться с «кремлевским соблазнителем».
Такой неспешный и осторожный подход к принятию решений был характерен для стиля Буша, столь отличного от стиля Рейгана, которого когда-то называли «Великим коммуникатором», «президентом-ковбоем». Это был стиль без гирлянд и фейерверков. Подход Буша был более выверенным и прагматичным, он основывался на большом опыте управления. Некоторые комментаторы ошибочно принимали сдержанные манеры Буша и то, что он прибегал к советам, за приметы слабости – как намек на то, что мощь Америки уходит. Но Буш считал сотрудничество, коллегиальность и убедительность отличительными чертами лидерства, а это требовало личного контакта и выстраивания доверия. Ко времени окончания встречи G7 Буш уже знал, что все эти приемы работают с его западными партнерами, и ощущал готовность опробовать их на своем коллеге по сверхдержавности, находясь в спокойной уверенности, что он сможет справиться с горбачевским беспокойным смешением завлекательной болтовни и навязывания ощущения его «превосходства». Горбачев сказал Рейгану, что для танго нужны двое. Теперь Буш был готов присоединиться к танцу304.
Возвращаясь домой на президентском самолете, президент набросал личное письмо к Горбачеву, чтобы объяснить, «насколько изменилось мое мышление». Раньше, пояснял он, он чувствовал, что встреча между ними должна обязательно завершиться выработкой важных соглашений, особенно в сфере контроля над вооружениями – и не в последней очереди из-за надежд «наблюдающего мира». Но теперь, после того как он сам увидел советский блок, имел «удивительные беседы» с другими мировыми лидерами в Париже и узнал о недавних визитах Горбачева во Францию и в Западную Германию, он почувствовал, насколько жизненно важно им двоим установить личные отношения, чтобы «уменьшить шансы возникновения непонимания между нами».
Этим президент предложил провести неформальную встречу без повестки дня, «без тысяч помощников, выглядывающих из-за плеч, без непременных отчетов о брифингах и, конечно, без назойливых вопросов прессы, каждые пять минут, вопрошающей о том, «кто побеждает», и стала ли эта встреча победой или поражением. Фактически Буш твердо предложил: «будет лучше вообще избегать слово “саммит”». Он надеялся, что они смогут встретиться вскоре, но не хотел никоим образом оказывать на Горбачева какого-либо давления на этот счет. В начале августа, к удовольствию Буша, Горбачев ответил на его предложение утвердительно. Но потребовалось еще несколько недель, чтобы согласовать графики и место встречи305.
***
Тем временем перемены в когда-то замороженной Восточной Европе продолжали идти с удивительной быстротой. Как и раньше, в авангарде шла Польша. Внезапно нашелся выход из тупика в отношении нового поста президента. 18 июля Ярузельский объявил, что он на самом деле выставляет свою кандидатуру. На следующий день на общем заседании обе палаты парламента проголосовали за генерала, не имевшего оппонента, хотя значительная часть не послушавших своих лидеров парламентариев от «Солидарности» голосовала против. Ярузельский обещал быть «президентом консенсуса, представителем всех поляков». Конечно, для тех, кто побывал при нем в заключении, это прозвучало довольно иронично, но этот твердокаменный коммунист, на протяжении десятилетия подавлявший рабочее движение, был теперь назначен на пост президента Польши в обличии «реформатора» в ходе по-настоящему свободных выборов. Многие рядовые участники «Солидарности» были взбешены. Но их политические лидеры доказывали, что это наилучший результат для того, чтобы двигаться к свободе, сохраняя стабильность. В то же время эта самая трудная победа, одержанная Ярузельским (он получил необходимое большинство всего в один голос), показала, кто на самом деле обладал настоящей легитимностью и политической силой в стране: свободные рабочие, «Солидарность»306.
Следующим шагом стала замена правительства премьер-министра Раковского. В соответствии с договоренностью, достигнутой на круглом столе, предполагалось, что «Солидарность» останется в оппозиции, в то время как возглавляемое коммунистами правительство будет управлять страной. Однако драматичные результаты выборов 4 июня сделали оригинальные весенние договоренности смешными. Вследствие этого коммунисты теперь стали выступать за большую коалицию с «Солидарностью» (не в последнюю очередь для того, чтобы поделиться ответственностью за углублявшийся экономический кризис). Но в «Солидарности» не было единства по вопросу о новом курсе; большинство ее членов не хотело участвовать в правительстве, в котором будут главенствовать коммунисты. И в любом случае, они полагали, что результаты июньских выборов на самом деле дают им мандат на управление страной.
В это время 2 августа Ярузельский назначил своего коллегу коммуниста генерала Чеслава Кищака Председателем Совета министров. Но он не смог сформировать кабинет, потому что союзники компартии – Объединенная крестьянская партия и Демократическая партия – отказались от сотрудничества с ними. И тут Лех Валенса объявил, что он сформирует кабинет под знаменем «Солидарности». Этим поступком Валенса вышел за рамки договоренностей круглого стола. Так в первые недели августа и до того крайне неустойчивая политическая ситуация была дополнена растущей нестабильностью, не считая того, что начала подыматься новая волна забастовок против инфляции и нехватки продовольствия на промышленном юге в районе Катовице и на балтийских верфях.
Ярузельский был в сомнениях. Должен ли он сдаться и принять ускоряющийся темп политического перехода? Или ему нужно твердо стоять на своем и распустить парламент? Новые свободные выборы, без сомнения, станут полным поражением коммунистов. Посол США в Варшаве предупреждал, что Польша «находится на грани». Если произойдет эскалация ситуации, то неизвестно, насколько долго «слабеющая власть элиты сможет себя защищать». Как предотвратить консервативную реакцию? Или даже гражданскую войну?307.
Ярузельский мучился несколько дней. Против того, чтобы выступить в роли сторонника жесткой линии, были перспективы политического и экономического хаоса, а также спокойное, но уверенное давление со стороны Горбачева и Кремля. Валенса пошел на решающие уступки – он обещал, что Польша останется в составе Организации Варшавского договора и что коммунисты займут ключевые министерские посты – министра обороны и министра внутренних дел, другими словами, контроль за армией и полицией останется у них. И то и другое было очень важными жестами для Москвы – или по меньшей мере для Москвы образца 1956 и 1968 гг., в случае если холодная война еще не стала настолько прошлым, как об этом говорил Горбачев. В этих условиях Ярузельский решил сделать шаг, который вытолкнул польскую политическую систему намного дальше, чем кто-либо в Восточном блоке пытался сделать, – в «партнерское сотрудничество» между партией и движением. Президент-коммунист принял премьер-министра «Солидарности»308.
Редактор оппозиционного издания «Газета Выборча» (Адам Михник. – Примеч. пер.), выступая за правление «одного из нас и одного из них», месяцем раньше уже предлагал такое решение, исходя из принципа, который он назвал «ваш президент, наш премьер-министр». Роль последнего выпала на долю журналиста Тадеуша Мазовецкого, с 1950-х зарекомендовавшего себя выдающимся католическим деятелем-мирянином. С самых первых дней возникновения движения «Солидарность» он выступал как важное звено, связывавшее прогрессивную интеллигенцию и по-боевому настроенных рабочих, работал редактором «Тугодник Солидарношч» – нового еженедельника «Солидарности», пока не был на год интернирован на основании закона о военном положении. В 1988–1989 гг. он помогал вести переговоры о завершении массовых стачек и проведении заседаний круглого стола309.
24 августа Сейм утвердил Мазовецкого в должности премьер-министра, при этом за него проголосовало и большинство депутатов-коммунистов, показав тем самым, что в принципе они готовы служить под его началом. Он стал первым некоммунистическим главой правительства в Восточной Европе со времен начальных послевоенных лет, но, впрочем, ни у кого на Западе не было каких-либо «юбилейных» настроений. «Историческим шагом» назвал это событие официальный представитель Госдепартамента США, однако «нет никакого повода для восхищения», имея в виду те огромные и требующие срочного решения экономические проблемы, стоявшие перед Мазовецким310. Фактически и новый польский лидер не отрицал этого, признавая: «Никто прежде еще не вступал на дорогу, ведущую от социализма к капитализму»311.
Плюсом стало то, что новому польскому премьеру понадобилось лишь три недели, чтобы представить парламенту свое правительство, которое было одобрено голосами 402 депутатов, при этом 13 отсутствовали, и никто не проголосовал против. Вполне символичным выглядело и то, что во время своей первой речи в качестве премьера 12 сентября шестидесятидвухлетний Мазовецкий почувствовал головокружение и вынужден был взять перерыв на час, чтобы прийти в себя. Когда он вернулся на трибуну под гром аплодисментов, то пошутил: «Извините меня, но я нахожусь в том же состоянии, что и экономика Польши». А после того, как стих смех, он добавил: «Я пришел в себя – и я надеюсь, то же произойдет и с экономикой». В конце своего выступления Мазовецкий встал с кресла премьер-министра «как член Солидарности», подняв в знак триумфа обе руки, словно повторяя жест победы «Солидарности»: два пальца одной руки в форме буквы V312.
Боровшиеся друг с другом на протяжении десятилетия «Солидарность» и коммунисты теперь приступили к непростой совместной работе, при этом большая часть правительственного аппарата осталась на своих местах, приспосабливаясь, иногда даже старательно, к новым целям и манере поведения. Взамен безвыходного треугольника Партия–«Солидарность»–Церковь жизнь страны теперь определялась деятельностью новой конфигурации сил: правительство, парламент и президент, при том что ведущая политическая фигура и стратег «Солидарности» Лех Валенса фактически занимал положение будущего президента.
И хотя измученная экономика Польши едва начала свое движение от плана к рынку, первая и решающая фаза политического перехода – намеченного, но не прописанного в соглашениях круглого стола, – была пройдена без какого-либо конфликта. Не случилось никакой гражданской войны и советской военной интервенции. Эта мирная «революция» имела динамический эффект не только в Польше, и в других странах, где коммунисты были у власти, показав, что немыслимое стало возможным.
В то время как события в Польше шли своим чередом, сверхдержавы выглядели сторонними наблюдателями. Можно с уверенностью утверждать, что Госдепартамент предпочел бы вести более авантюрную и открыто поддерживающую политику. Но Белый дом оставался на охранительных позициях, твердо возлагая всю ответственность на Варшаву. «Только поляки могут знать о том, что они достигли успеха», – сказал Скоукрофт в интервью Си-эн-эн, когда его спросили, почему президент не решился предложить Варшаве больше помощи. «Мы можем помочь, но мы сможем помогать только тогда, когда деньги будут направлены в те структуры, которые способны использовать их надлежащим образом». Его посыл был совершенно четким: давайте подождем и посмотрим. Буш чувствовал, что «важно действовать осторожно и избегать растаскивания денег по крысиным норам»313.
Что касается СССР, то Горбачев, казалось, цеплялся за иллюзию того, что «демократический социализм» в Польше и Венгрии имел будущее. Но даже если и так, у Кремля не было ни воли, ни ресурсов для проведения в отношении Восточной Европы политики в стиле Сталина, Хрущева или Брежнева. В любом случае, перед Горбачевым стояла тяжелейшая проблема, как удержаться у власти у себя дома и как сохранить Советский Союз. Ему приходилось действовать в совершенно новой политической системе, сложившейся после первых свободных выборов в СССР с 1917 г. Стремясь убедить Коммунистическую партию отменить Верховный Совет и создать работающий парламент, Съезд народных депутатов, в марте 1989 г. он понял, что это достижение перестройки создало более независимый орган, способный постепенно подрывать его власть. Как заметил его биограф Уильям Таубман, он «заменил старую политическую “игру”, в которой ему не было равных, на новую, в которую он прежде не играл». В этом процессе все больше и больше власти получали республики и высвобождались новые националистические, даже сецессионистские силы. Эти центробежные силы проявились самым драматическим образом в Грузии, спровоцировав вмешательство Советской армии в Тбилиси в апреле 1989 г., когда погиб 21 человек, и стали еще более очевидными по мере того, как Европа стала проявлять озабоченность в отношении Прибалтийских республик на западной окраине СССР314.
23 августа, за день до того, как Мазовецкий был утвержден на посту премьера Польши, около двух миллионов человек, взявшись за руки, образовали человеческую цепочку длиной в 400 миль по Эстонии, Латвии и Литве в память о пятидесятой годовщине пакта между Сталиным и Гитлером, заключенного в 1939 г., который передал Советскому Союзу эти три государства Балтии, пользовавшиеся независимостью с 1918 г. Этот «Балтийский путь» стал напоминанием о том, что СССР и советская империя существовали благодаря силе. Польский Сейм и компартия Польши публично осудили пакт, так же как это сделал и Горбачев за несколько дней до этого. Но никто из них до сих пор не хотел браться за то, чтобы сделать логические практические выводы из этих слов. Пакт передал в состав СССР не только страны Балтии, но и значительную часть восточной Польши. Осуждение сталинистской политики возвращало к жизни когда-то похороненные вопросы о европейской геополитике – вопросы, влиявшие на основы отношений между супердержавами315. Так Польша выступила в роли чего-то вроде ледокола для холодной войны летом 1989 г. Венгрия следовала за ней, начав собственные переговоры за круглым столом о реформе электорального процесса и структуре правления. В этом случае, впрочем, стол был не круглым, а треугольным – что отражало более четкую конфигурацию венгерской политики, в которой ключевыми игроками были коммунисты, оппозиционные партии и непартийные организации. Начав переговоры 13 июня, все три группировки достигли 18 сентября соглашения о переходе к многопартийной парламентской демократии через полностью свободные общенациональные выборы. План предусматривал, что перед этими выборами старый, пока существующий парламент проведет выборы президента – на самом деле, существовало общее понимание, что Имре Пожгаи является наиболее вероятным кандидатом на этот пост. Но как только идея получила огласку, «Свободные демократы», «Молодые демократы» и Независимые профсоюзы нарушили уже достигнутый консенсус, отказавшись подписать соглашение. Очень скоро венгерская треугольная политика стала распадаться на фрагменты. Оппозиционные партии начали ссориться между собой, в то время как 7 октября ВСРП проголосовала за самороспуск и затем провозгласила себя Венгерской социалистической партией (ВСП), ее возглавил Режё Ньерш. Это стало для них фатальным решением, потому что общество видело, что стоит за косметическими изменениями. В течение следующих месяцев и в процессе подготовки к выборам «новая-старая партия» не выросла численно, в отличие от ее оппозиционных соперников. Тем временем некоторые коммунисты, сплотившись вокруг Кароя Гроса, сформировали партию под старым названием, но эта их собственная, на скорую руку созданная партия стала в венгерской политической жизни еще более маргинальной.
Эти драматические перемены полностью захватили содержание венгерской политики. 18 октября парламент продолжил работу и одобрил конституционные поправки, согласованные за круглым столом, и в том числе переименовал страну в Венгерскую Республику, убрав из него слово «Народная». Свободные выборы были назначены на 25 марта 1990 г., а президентские выборы – на лето. Так Венгрия пошла в направлении многопартийной политики, еще до того, как стала демократией. Дольше, чем в Польше старое – хотя теперь и нацеленное на проведение реформ – правительство, ведомое переименовавшимися коммунистами, здесь продолжило управлять политическим процессом. В то время как в Польше выборы 4 июня стали решающим пунктом в процессе ухода от коммунизма, в Венгрии эмоциональные и символические корни обновления как нации прошли через драматические события 16 июня, когда состоялось перезахоронение останков Надя и отречение от событий 1956 г.
Поляки пошли в авангарде демократизации. Но это все-таки было процессом, происходившим в границах одного государства, так же как в советских республиках Эстонии, Латвии и Литве. Железный занавес в Европе был поднят в Венгрии.
***
Август был главным месяцем отпусков для всего континента. Почти все в Париже оказывалось закрытым. Итальянцы нежились на прибрежных курортах Средиземноморья и Адриатики. Западные немцы терялись в горах Баварии или где-то на берегах Северного моря. На коммунистическом Востоке любители позагорать двигались на Черноморское побережье Болгарии или расслаблялись на берегах Балтики, в то время как множество восточных немцев, набившись в свои маленькие, цвета карамели «трабанты», отправились в Венгрию. Для тех, кто любил отдыхать в кемпингах, наиболее популярным местом были берега озера Балатон. Но в тот год многие туристы отправились в путешествие только в один конец, услышав или прочитав сообщения о том, что в Венгрии сняли колючую проволоку с границы. Они решили ухватить шанс и проскользнуть на Запад. Историк Мэри Саротт отмечает, что Штази (Министерство государственной безопасности) Восточной Германии подготовило «удивительно честный доклад для внутреннего пользования» о побуждениях своих граждан к отъезду из ГДР: нехватка потребительских товаров, ненадлежащие услуги, слабая система здравоохранения, ограниченные возможности для передвижения, плохие условия труда, жестко бюрократические подходы государственных органов и отсутствие свободных СМИ316.
Помимо причин, упомянутых в этом материале, были еще и политические резоны для отъезда. Вдохновленные политическими преобразованиями в Польше и Венгрии – в странах, которые они хорошо знали и посещали сотнями тысяч, – многие восточные немцы видели, что в их собственной стране Хонеккер, напротив, остается нерушимым препятствием для прогресса. Он давал «вчерашние ответы на вопросы сегодняшнего дня». Открытое недовольство впервые проявилось в мае, во время местных выборов, когда многие восточные немцы надеялись, что они будут проходить, как в СССР, в духе «демократизации». Вместо этого выборы прошли, как обычно, под жестким контролем партии. На избирательных участках никто не ожидал, что кто-то может не одобрить списка кандидатов от правящей партии. Не было никакой оппозиции и никакого выбора, кроме одного – отвергнуть кандидатов, что многие и сделали. К тем, кто «забыл» о выборах, очень быстро пришли от Штази с напоминанием сделать это. И когда в ночь после выборов 7 мая 1989 г. были оглашены результаты, то оказалось, что 98,86% избирателей проголосовали за официальный список. Все было «в порядке»: во всяком случае об этом сообщил Председатель Государственного совета ГДР Эгон Кренц317.
Выборы были пародией, и их результаты, конечно, имели мало общего с реальным настроением граждан ГДР. Они чувствовали себя обманутыми этой игрой в демократию. На одном из немногих протестных плакатов была начертана саркастическая надпись «Махинаций на выборах много не бывает» (Nie genug vom Wahlbetrug). Выглядело все так, словно с восточными немцами можно было играть как с детьми, а вот полякам и венграм позволили вести себя как взрослым – свободно выражать свои политические взгляды и самостоятельно определять политические перемены.
Рейнхард Шульт, ведущий восточногерманский активист, говорил: «Многие не могли больше терпеть атмосферу детского сада». «Люди покидали Восточную Германию, потому что потеряли надежду на перемены»318. В 1988 г. из ГДР легально уехали 29 тыс. человек. А в первые шесть месяцев 1989 г. было выдано уже 37 тыс. разрешений на выезд319.
Экономические перспективы и политическое разочарование были «выталкивающими» факторами. А особую роль «втягивающего» момента стала играть все более пористая граница Венгрии и Австрии. Хотя сама по себе она не была достаточной возможностью, поскольку, если людей задерживали при «подготовке» или «попытке» совершить незаконный побег, то венгерские власти обязаны были таких людей возвращать в ГДР, как было решено сторонами в секретном двустороннем протоколе 1969 г. Но 12 июня 1989-го был совершен новый правовой поворот, когда Венгрия начала применять Женевскую конвенцию о статусе беженцев 1951 г., что, собственно, было ею обещано еще в марте. Эта поразительная замена политических принципов предполагала, что Венгрия может более не принуждать восточных немцев к возвращению в ГДР: говоря горбачевским языком, правительство теперь заменило приверженностью к всеобщим ценностям всякие обязательства перед братскими коммунистическими странами. Теперь восточные немцы переставали быть незаконными нарушителями и могли претендовать на статус «беженцев по политическим мотивам» в соответствии с международным правом и таким образом получить обоснование своего бегства320.
Фактическая ситуация тем не менее оставалась неопределенной. Венгерская бюрократия все еще не решила вопрос о статусе граждан ГДР: они доказывали, что тех, кто хочет покинуть ГДР (ausreisewillige DDR-Burger), нельзя относить к категории лиц, подвергающихся политическим преследованиям (politisch Verfolgte), согласно конвенции ООН. Но даже несмотря на то, что венгерские пограничные власти все еще препятствовали попыткам бегства со стороны восточных немцев, делая это иногда при помощи оружия, как случилось 21 августа, число тех, кого возвращали силам безопасности ГДР, или хотя бы тех беглецов, чьи имена сообщали в Восточный Берлин, все равно уменьшалось. Было ясно, что тесное сотрудничество между Штази и службой безопасности Венгрии (так же как и с Польшей) уходит в прошлое; и это стало еще одной приметой того, что блок начинает рушиться321.
К концу августа около 150–200 тыс. восточных немцев проводили отпуск в Венгрии, в основном возле озера Балатон. Все кемпинги были полны, машины на дорогах стояли в пробках. Многие гости из ГДР уже превысили срок планового пребывания и свои двух-трехнедельные официальные отпуска. Некоторые просто бродили по округе в надежде стать свидетелями каких-то новых драматических политических изменений; другие поджидали подходящий момент, чтобы проскочить полем или лесом через один из все множившихся открытых проходов в пограничном заграждении. Многие сотни пытались отыскать какой-то иной путь к свободе, собираясь неподалеку от западногерманского посольства в Будапеште, где они надеялись воспользоваться своим автоматическим правом на гражданство ФРГ. Но каким бы ни был их маршрут, восточные немцы-беженцы становились серьезной проблемой для Венгрии.
Дню 19 августа суждено было стать решающим. Депутат Европарламента Отто фон Габсбург – старший сын последнего императора Австро-Венгерской империи – вместе с активистами правозащитниками и членами оппозиционного Венгерского демократического форума планировал провести вечеринку, чтобы сказать: «Прощай, Железный занавес». То, что потом получило название «Панъевропейский пикник», предполагалось провести как веселую встречу для австрийцев и венгров солнечным летним днем на лугах возле пограничного перехода на дороге из города Шопрон (Венгрия) в Санкт-Маргаретен-им-Бургенланд (Австрия). Недалеко от этого места несколькими неделями ранее министры иностранных дел Хорн и Мок перерезали проволоку на заборе между Востоком и Западом322.
Однако этот спокойный, местный праздник стал намного более политическим, когда в последний момент сам Имре Пожгаи вошел в это дело как коспонсор со стороны партии. Он договорился со своим давним другом Иштваном Хорватом, реформатором и министром внутренних дел, а также с премьер-министром Неметом, что ворота на границе в качестве символического жеста будут открыты в полдень на три часа. Пограничникам запретили иметь при себе оружие и предпринимать какие-либо действия. В отличие от венгерских и австрийских граждан, имевших право передвигаться между двумя странами, для восточных немцев дело обстояло иначе. Буклеты о предстоящем мероприятии были напечатаны на немецком языке и распространялись заблаговременно; в них была карта, показывавшая, как добраться до места пикника и где они смогут «вырезать кусок Железного занавеса». В результате маленький пограничный городок Шопрон заполнили 9 тыс. человек, забивших все гостиницы и места для кемпинга, а западногерманское Министерство иностранных дел было вынуждено срочно отправить туда дополнительных консульских работников, чтобы «помочь соотечественникам». Все это дополнительно увеличило давление на венгерских пограничников, за которыми кроме всего практически наблюдали западные дипломаты323.
Тем не менее большинство восточных немцев, намеревавшихся бежать, по-настоящему боялись. Они ничего не знали о приказах, отданных венгерским солдатам. И вот пикник начался. Играл духовой оркестр, пиво текло рекой, и танцоры в венгерских и бургенландских национальных костюмах смешались с толпой. В тот день в пикнике приняли участие около 660 восточных немцев. Как только открыли деревянные ворота, сразу возникла давка. Люди рванулись сквозь ворота и, не встречая сопротивления пограничников, оказались в Австрии – удивленные и восторженные. Это стало самым большим массовым побегом восточных немцев с момента установления Берлинской стены в 1961 г. Еще 320 человек в тот же уикенд смогли относительно свободно пересечь границу в других местах324.
Сами по себе эти цифры не впечатляют. Они не учитывали тысяч других восточных немцев, терзаемых сомнениями. В течение нескольких следующих дней венгерское правительство увеличило число пограничников, патрулирующих западную границу, что привело к существенному уменьшению числа людей, попадающих на Запад. Тем не менее с каждым днем все больше восточных немцев приезжало в Венгрию. За кулисами событий правительство ФРГ нажимало на венгерские власти, с тем чтобы те предоставляли восточным немцам статус беженца по Декларации ООН. Но целью Бонна совсем не было превращение потока в наводнение – совсем нет: ФРГ стремилась избежать беспорядков и нестабильности. Были предприняты безумные усилия для предотвращения того, чтобы СМИ грели руки на теме беженцев, пересекающих границу или захватывающих посольства (Festsetzer), чтобы не порождать у восточных немцев надежд на простоту выезда из страны в условиях, когда у ФРГ формально нет никаких соглашений на этот счет ни с Венгрией, ни с ГДР. А на заднем плане все еще маячила тень Советской армии. А что, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля? Что, если толпы беженцев восстанут или кто-то из солдат или сотрудников тайной полиции запаникует и начнет стрелять? Вмешаются ли Советы в этом случае? В такой атмосфере транснациональный миграционный кризис получил импульс. Тревожило, что у него все еще не было международного решения325.
В конечном счете не эти метания на венгерской границе заставили довести дело до конца, а гуманитарный кризис в Будапеште. Правительство Немета осознало, что оно больше не может бездействовать и лишь наблюдать за событиями: на их глазах толпа беженцев из ГДР вокруг немецкого посольства росла день ото дня. Около 800 человек разбили палатки возле здания. Еще 181 человек находился на территории посольства. Посольство было вынуждено закрыть свои двери для посетителей 13 августа. Поблизости от посольства при помощи Красного Креста, Мальтийского ордена и других гуманитарных организаций открыли несколько временных палаточных городков: в пригороде Будапешта Зуглигете (на 600 человек) и Чиллеберк (на 2 200 человек), а позднее возле озера Балатон (примерно на 2 тыс. человек или около того). Во всех этих лагерях была большая нехватка продовольствия и воды. Там оказалось мало туалетов и душей, не говоря уже о спальных мешках, подушках, одежде и туалетных принадлежностях326.
Под пристальным взором мировых СМИ Бонн не мог оставаться безучастным, глядя на страдания восточных немцев в условиях развивающегося международного кризиса. Но оба немецких правительства не знали, что делать с этими людьми. Режим Хонеккера не мог выйти за границы коммунистической ортодоксии и позволить ГДР дрейфовать в «буржуазный лагерь». Потребовалось не менее шести бесед в промежуток между 11 и 31 августа 1989 г., прежде чем Восточный Берлин неохотно пообещал Бонну, что он не будет «наказывать» тех, кто оккупировал здание посольства, и займется их заявками на выезд, но без какого-либо обещания дать положительный ответ на просьбу о постоянной эмиграции. Тем не менее в самом Восточном Берлине день за днем стремительно росло число таких заявок, что объяснялось запретительной бюрократической практикой в ГДР и враждебным отношением к вопросам гражданства в свете либерализации, произошедшей в Польше и Венгрии327.
Чтобы разрешить этот кризис, западногерманское руководство выступило с инициативой принятия решения по ситуации на самом высоком уровне, одновременно с Будапештом и с Восточным Берлином328. Обычно восточными немцами – все равно, мигрантами или беженцами, поскольку это был германо-германский вопрос, а не вопрос «международных» отношений – занимались под эгидой бундесканцелярии. Но поскольку большая часть беженцев располагалась в третьих странах, и в основном возле или даже в самих посольствах ФРГ, то пришлось привлекать Министерство иностранных дел. Им заведовал могущественный Ганс-Дитрих Геншер, человек, имевший собственную политику. Родившийся в 1927 г. в Галле – после 1945 г. этот город стал частью ГДР, – Геншер считал, что у него есть собственный личный интерес, почти что миссия, разобраться с этим вопросом, далеко выходя ради этого за пределы своих прямых служебных обязанностей. Более того, Коль возглавлял коалиционное правительство, сформированное из собственно христианских демократов и либералов из Свободной демократической партии (СвДП), лидером которой был Геншер. Это делало министра иностранных дел также политическим «делателем королей», от которого зависел канцлер, желавший иметь работающее большинство в бундестаге. Таким образом, Коль был вынужден делегировать значительную часть самостоятельности Геншеру в решении этой глубоко национальной и высокоэмоциональной проблемы, и их отношения определенно не избежали некоторой доли соперничества. Результатом стало нечто вроде двухтрековой политики в процессе того, как ФРГ реагировала на кризис с беженцами летом и осенью 1989 г. Министерство иностранных дел работало с Будапештом и Дьюлой Хорном (а также с Варшавой и Прагой), в то время как бундесканцелярия имела дело с Восточным Берлином и Эрихом Хонеккером329.
Но германо-германский трек тем летом использовался не часто. Посольство Западной Германии (или «постоянное представительство») в Восточном Берлине тоже должно было закрыться, частично из-за толп желающих быть спасенными. Но более всего потому, что сам Хонеккер был серьезно болен, как потом оказалось, раком и в течение трех месяцев, с июля и до конца сентября, мало участвовал в активной политической жизни, в то время как партийные чиновники начали борьбу за власть330.
Таким образом, вся тяжесть решения проблемы легла на венгерское правительство, которому помимо всех других собственных политических и экономических проблем пришлось попытаться разорвать этот порочный дипломатический круг, в то время как в грязных и убогих лагерях разыгрывалась человеческая драма. Было необходимо взаимодействовать с ФРГ в абсолютно новом ключе, чтобы разрешить кризис в самом центре Будапешта. И в то же время у правительства не было никакого желания совершенно и открыто разрывать с ГДР: Хорн не хотел отказываться от тайного двустороннего соглашения 1969 г. о том, как надо поступать с «уголовными преступниками», планирующими или пытающимися осуществить «дезертирство с территории республики». И он хотел противиться давлению со стороны ФРГ, чтобы официально признать восточных немцев «беженцами» в понимании международного права и тем самым призвать Агентство ООН по делам беженцев заниматься этим вопросом вместо них. Короче говоря, его правительство находилось как бы на ничейной земле между международным порядком и другим порядком. Почти запутавшись в этой ситуации, Хорн сказал одному из сотрудников Геншера: «Венгрия оказалась в неопределенном положении»331.
Какими бы ни были заранее оговоренные матрицы действий на двух неформальных треках Бонна, понадобилось вмешательство канцлера Коля, чтобы довести дело до конца, и для этого пришлось решать вопрос напрямую с коллегой в Будапеште, премьер-министром Неметом. 25 августа Немет и Хорн тайно приехали в Бонн на встречу с Колем и Геншером в замке Гимних, который был отреставрирован и служил резиденцией гостей правительства. Во время встречи после ланча, продлившегося два с половиной часа, венгры и западные немцы пытались решить это дело, невзирая на то, что хотели восточные немцы332.
Коль и Геншер убеждали своих венгерских визитеров, что наиболее чувствительным способом для продвижения вперед является открытое сотрудничество с Западом по вопросу восточногерманских беженцев. Это был волнующий момент. Немет уверял Коля, что «депортации» обратно в ГДР «не рассматриваются», и добавил: «Мы откроем границу к середине сентября». «Если никакая военная или политическая сила извне не заставит нас действовать иначе, мы оставим границу открытой для граждан Восточной Германии» как маршрут выезда. Услышав эти слова, Коль с трудом сдержал нахлынувшие эмоции. Ему хотелось плакать333.
Далее Немет согласился с Колем с тем, что острота экономического кризиса в Венгрии настолько велика, что ей понадобится помощь Запада, чтобы выстоять. ГДР, напротив, ничего не может сделать для Венгрии; так же не может сделать ничего и Горбачев, потому что у него самого «трудное положение дома», хотя Немет сказал, что необходимо сделать все возможное для «обеспечения успеха политики Горбачева», потому что это единственный путь сохранить мир в блоке. Короче говоря, соглашаясь делать то, чего хотел Бонн в ключевом вопросе о восточных немцах, Немет, казалось, надеялся побудить и Бонн, и Вашингтон предоставить Венгрии финансовую помощь и развивать более интенсивные торговые отношения. Коль никаких обещаний такого рода не дал, но согласился поговорить с западногерманскими банкирами (и с Бушем). Существенный пакет финансовой помощи в 1 млрд немецких марок направлялся для поддержки демократизации Венгрии и проведения рыночных реформ: он включал в себя гарантию кредита в 500 млн марок, предоставляемую Баварией и Баден-Вюртембергом, и 500 млн марок от федерального правительства Германии. К концу визита Немет принял судьбоносное решение: Венгрия полностью откроет свои границы на Запад для граждан ГДР в обмен на дойчмарки Коля, чтобы помочь его стране вырваться из блока в западный мир334.
Было признаком времени, что эта сделка была заключена до того, как Будапешт официально информировал Кремль о своем решении в отношении границы. За этим последовали несколько дней интенсивной «дипломатии поездок». Но когда Хорн поговорил с Шеварднадзе, ему стало ясно, что Советы хотят предоставить свободу венграм в определении собственных действий335. И телефонный разговор Коля с самим Горбачевым тоже дал зеленый свет, о чем свидетельствовали лаконичные, вполне банальные суждения советского лидера о том, что «венгры хорошие люди»336.
В достижении соглашений с ГДР венграм, тем не менее, удалось добиться намного меньше. 31 августа в Восточном Берлине Хорн сказал министру иностранных дел Оскару Фишеру, что он хочет отправить восточных немцев домой, если ГДР согласится предоставить беглецам иммунитет от преследования и гарантирует им право на легальную эмиграцию. Фишер гарантировал только иммунитет, но продолжал настаивать, что после возвращения эти восточные немцы должны будут «обращаться за своими индивидуальными выездными визами», пользуясь при этом законной помощью, уже без всякого обещания, что временное разрешение на выезд будет предоставляться им автоматически. Он также требовал, чтобы Венгрия закрыла свои границы для восточных немцев, что Хорн отверг. Восточный Берлин также попытался созвать встречу министров иностранных дел стран Организации Варшавского договора, чтобы оказать давление на Будапешт, но советские, польские и венгерские власти этому воспротивились, доказывая, что пакт – это не тот форум, чтобы заниматься этим вопросом. Поэтому 5 сентября Политбюро СЕПГ ограничилось привычными давними коммунистическими обвинениями, осудив Венгрию за «выполнение указаний Бонна» и «предательство социализма»337.
10 сентября Хорн сделал официальное заявление о том, что венгерское правительство позволит восточным немцам свободно следовать через страну в Австрию, откуда они смогут продолжить путь в ФРГ. Хорн объявил, что Венгрия не желает превращаться в «страну лагерей беженцев» и намерена «решить проблему на гуманитарной основе». Его заместитель Ференц Шомоди, тщательно выбирая выражения, на английском языке заявил иностранным журналистам: «Мы хотим открыть и диверсифицировать отношения с Западной Европой и Западом в целом». В этом смысле, отметил Шомоди, Венгрия приняла общий европейский подход и тем самым «приблизилась к Западу», сделав ставку на «абсолютное верховенство всеобщих человеческих ценностей». Более того, добавил он одобрительно, «аналогичные соображения» теперь характеризуют и советскую политику338.
После этого драма стала разворачиваться уже на телевизионных экранах всего мира. С первых часов 11 сентября последовал массовый исход. Восточные немцы, многие из которых были совсем молодыми 20–30-летними людьми (в основном рабочих профессий, таких как каменщики и штукатуры, водопроводчики и электрики), хлынули через австрийскую границу на автомобилях, автобусах и поездах. Министр внутренних дел Австрии сказал, что к ночи того дня 8100 восточных немцев прибыли в Австрию, двигаясь в Западную Германию, и что этот поток постоянно растет. Вместе с этим потоком, как заметил Крейг Уитни из «Нью-Йорк таймс», «ожил германский вопрос, эта мечта или страх объединения Германии». Он процитировал одного из видных американских дипломатов: «Это не произойдет в ближайшее время, но о нем начали размышлять всерьез. Это перестало быть пустой банальностью»339.
12 сентября Коль послал Немету телеграмму с благодарностью за этот «великодушный акт гуманизма». В тот же день канцлер в полной мере использовал воцарившуюся в Германии эйфорию на съезде своей партии в Бремене, где кое-кто из христианских демократов решил попробовать его свергнуть. Там он объявил, что больше никогда ответственные западногерманские деятели не будут побуждать восточных немцев к побегу. Но, «само собой разумеется, что любого, кто придет к нам из Восточной Германии, мы будем приветствовать как немца среди немцев». Обращаясь к национальным чувствам и выступая как настоящий патриот, канцлер Коль сумел парировать вызовы своему лидерству и добиться подтверждения своего статуса как руководителя партии. Не в первый и не в последний раз за эти бурные годы международная политика возобладала над внутренними делами340.
К концу сентября от 30 до 40 тыс. человек – намного больше, чем ожидали даже информированные круги, – проследовали на Запад этим путем341. Режим Хонеккера был в ярости, но теперь Восточная Германия оказалась дипломатически изолирована в Варшавском пакте. Решающим стало то, что Москва почти не протестовала. Наоборот, официальный представитель МИДа Геннадий Герасимов сказал лишь, что открытие границы «было необычным и неожиданным шагом», но что это напрямую не задело СССР. То, что Советский Союз согласился с венгерским решением, тем самым еще больше уводя Кремль от Восточного Берлина, было серьезным ударом по репутации режима Хонеккера. Под вопросом оказалось даже долгожданное присутствие Горбачева на праздновании сорокалетия основания ГДР 7 октября. Не было тайной, что Горбачев очень не любил «му…ка» Хонеккера, как он сказал Черняеву. И советский лидер точно не хотел выглядеть человеком, поддерживающим твердолобую позицию Хонеккера против более реформистски настроенных восточногерманских коммунистов. На самом деле после своей триумфальной поездки в Бонн он объяснял Хонеккеру, используя самые общие выражения, что СССР меняется. «Такова судьба Советского Союза, – заявлял он, – но это не только его судьба; это и наша общая судьба». Точно так же он не собирался рисковать своими близкими дружескими политическими отношениями с Колем; политика Горбачева в отношении ГДР, как и политика Немета, во многом зависела от надежд на западногерманские финансовые вливания, обещанные канцлером во время визита советского лидера в Бонн в июне342.
Будучи не в состоянии мобилизовать Варшавский пакт на свою поддержку, правительство Восточной Германии до конца использовало собственные возможности. В течение сентября оно наложило жесткие ограничения на поездки граждан ГДР в Венгрию. И хотя многие все-таки смогли уехать, сама эта политика имела своим следствием разворот потока людей в сторону западногерманских посольств в Варшаве и Праге. К 27 сентября возле посольства в Варшаве скопилось около 500 восточных немцев, а возле посольства в Праге – 1300343.
Праге досталось больше, потому что Чехословакия в любом случае лежала на транзитном маршруте восточных немцев, надеявшихся попасть на Запад через Венгрию, и эмигранты из ГДР попросту оставались в Чехословакии вместо того, чтобы возвращаться домой. Это были люди, которые до того не обращались за постоянной выездной визой в Западную Германию, и те, у кого не было надлежащих документов для въезда в Венгрию. Опасаясь быть задержанными властями Чехословакии для последующего возвращения в ГДР, они надеялись достичь своей цели, сидя на территории западногерманского посольства, занимавшего дворец XVIII в. в центре Праги, чей прекрасный парк превратился в грязный и антисанитарный лагерь для беженцев.
К концу месяца свыше 3 тыс. человек жили внутри и возле основного здания посольства и 800 из них были детьми. На всех приходилось четыре туалета. Женщины и дети укладывались спать на туристические резиновые коврики, а мужчины по очереди спали в палатках, неуместно натянутых под черными барочными статуями богинь в когда-то элегантных парках. Питание было самым простым: кофе, чай, хлеб с джемом на завтрак и тарелка густого супа в обед и ужин, причем все это готовили в дымных и пахучих полевых кухнях, расположившихся за коваными парковыми воротами. «Иногда давали по одному апельсину на двоих или троих детей для витаминов», – устало говорила одна юная мама344.
Бонн отчаянно стремился к переговорам о том, чтобы этих гэдэровских скваттеров пропустили на Запад, и Генеральная ассамблея ООН, проходившая 27–29 сентября в Нью-Йорке, явилась отличным шансом для Геншера. На полях Генассамблеи он смог спокойно обсудить это дело с советскими, чехословацкими и восточногерманскими партнерами345. По просьбе Геншера Шеварднадзе настаивал, чтобы Восточный Берлин «сделал что-нибудь», и Хонеккер, после одобрительного решения Политбюро 29 сентября, предложил Бонну разовую сделку: те, кто занял посольства, смогут отправиться на Запад, если их «выезд» в ФРГ будет представлен как «выдворение» из Восточной Германии. Таким образом Хонеккер мог продемонстрировать, что он сохраняет контроль, поскольку выгоняет предателей из своей страны. Чтобы показать, что он дирижирует всем процессом, восточногерманский лидер настаивал, чтобы беглецы были вначале возвращены из Праги в Германию в опечатанных вагонах, прежде чем их отправят в Западную Германию. Хонеккер хотел использовать это путешествие, чтобы установить личности всех спасающихся, с тем чтобы власти ГДР могли конфисковать их имущество. Опечатанные вагоны имели давнюю историческую коннотацию, напоминавшую транспортировку в концлагеря нацистской Германии. Существовали опасения, что поезда в ГДР могут остановить. И все-таки правительство Коля согласилось на предложение Хонеккера, потому что по меньшей мере эта договоренность позволяла рассматривать беженцев из Восточной Германии как легальных эмигрантов, а не как бесправных беглецов, – и это было частью общих усилий ввести кризис в рамки международного права и всеобщих гуманитарных ценностей346.
Как только на заре 30 сентября Геншер прибыл из Нью-Йорка домой в Бонн, он уже был готов претворять в жизнь этот план. С небольшой группой помощников он отправился в Прагу. Другие дипломаты из ФРГ направились в Варшаву с аналогичной миссией. Перед обеими группами стояла непростая задача контроля за упорядоченным исходом и обеспечением того, что ГДР уважает согласованные условия. Геншер приземлился в чехословацкой столице после полудня и тут узнал, что – в нарушение достигнутой договоренности – ему не разрешат сопровождать беженцев в их «поезде свободы». Теперь Хонеккер решил, что ехать смогут только западногерманские официальные лица более низкого уровня; он не хотел избыточной шумихи вследствие присутствия министра иностранных дел другой страны вместе с искателями свободы347.
Геншер, нисколько не колеблясь в решимости осуществить свои намерения, поспешил отправиться в западногерманское посольство. Там весь день царило возбуждение. Внезапно, сразу после того, как спустились сумерки и без всякого предварительного громогласного объявления, Геншер вышел на барочный балкон здания и оглядел огромную толпу, собравшуюся внизу. Заметно волнуясь, он провозгласил: «Дорогие немецкие соотечественники, мы прибыли, чтобы сообщить вам, что сегодня ваше отправление в Западную Германию было одобрено». Одного волшебного слова «отправление» уже было достаточно: остальная часть предложения потонула в криках восторга348.
«В это невозможно поверить, – воскликнул мужчина из Лейпцига. – Геншер предстал как инкарнация свободы». Люди, находившиеся в пражском посольстве, некоторые уже на протяжении одиннадцати недель, тут же спешно стали собирать вещи. Это было «как Рождество и Пасха сразу вместе», – сказал одному из журналистов молодой человек, прежде чем сесть в автобус до вокзала вместе с женой и ребенком349.
Для Ганса-Дитриха Геншера это был невероятно эмоциональный момент. Судьба немцев в ГДР была для него сущностным вопросом, намного более важным, чем для Коля, человека из франко-германского пограничного региона Рейнланд-Пфальц, потому что Геншер сам бежал из Восточной Германии в Западную в 1952 г. И Геншер так никогда и не избавился от характерного саксонского акцента. Начав изучать юриспруденцию в ГДР, он завершил учебу в Гамбурге, прежде чем войти в политическую жизнь Западной Германии350. Эти личные корни объясняют, почему Геншер был так глубоко привержен германскому объединению, так же как и его веру в то, что этого можно добиться через правовые договоренности в рамках мирных отношений с советским блоком. Отсюда вытекает и его преданность Восточной политике Западной Германии и тем принципам, которые были сформулированы на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе и вошли в Хельсинкский Заключительный акт 1975 г., подтверждавший как нерушимость границ Европы периода холодной войны, так и ценности всеобщих прав человека. Его главным желанием было преодолеть холодную войну и разделение Германии не в результате односторонних действий Запада, а в результате панъевропейских решений. Поэтому дополнительным преимуществом (бонусом) было то, что именно он являлся тем человеком, кто командовал представлением у пражского посольства, а не его союзник-соперник канцлер Коль. Неудивительно, что через несколько дней сам Геншер назовет тот момент на балконе как «самый великий день в моей политической карьере». Для него колесо совершило полный оборот, когда он встретил беглецов молодого поколения, желавших пройти тем же путем. «Вы видите, что люди могут пройти через это, потому что они могут жить, как и мы», и он добавил: «не в материальном смысле, а иметь право решать самим, что делать со своими жизнями»351.
Так, вечером 30 сентября пражская полиция наладила нормальное движение, чтобы дать возможность двенадцатью автобусами эвакуировать людей из западногерманского посольства. На железнодорожной станции Прага-Либень, сразу за чертой города толпа возбужденных восточных немцев, ожидавших своих поездов, стала еще больше. Приезд западногерманского посла в Чехословакии Херманна Хубера был встречен овацией. Лица людей сияли, они подступали поближе, обнимая и целуя его, даже поднося к нему детей как для благословения. Группа чехословацких офицеров полиции держалась в стороне, за всем наблюдая, но не вмешиваясь в происходящее. После многочисленных задержек шесть поездов все-таки тронулись в путь из Праги, сопровождаемые нескольким западногерманскими официальными лицами, что должно было успокоить людей352.
Поездам предстояло пробыть в пути семь часов, двигаясь по маршруту от Праги через Шонау, Рейхенбах, Дрезден, Карл-Маркс-Штадт (Хемниц), Плауэн, Цвиккау и Гутенферст. Самые напряженные моменты были в ГДР, где офицеры восточногерманской службы безопасности вошли в поезда. Никто не мог поручиться, что они не станут заставлять пассажиров покинуть поезд и завершить свой путь к свободе. Но ничего плохого не произошло, кроме того, что имена уезжающих были записаны и их удостоверения личности изъяты. Эти моменты прошли без происшествий. Поезд останавливался в Дрездене и Карл-Маркс-Штадте, где в поезда сумели сесть новые эмигранты – без каких-либо помех и угроз. Восточные немцы собирались вдоль путей, чтобы посмотреть, как мимо идут специальные поезда Дойчебана353.
Когда поезда достигли территории ФРГ в городке Хоф в Северо-Восточной Баварии, сотни западных немцев набились в эту станцию, радостно приветствуя каждый прибывающий поезд. Они принесли горы бывшей в употреблении одежды, обуви, игрушек и детских колясок для приехавших. Некоторые совали деньги в руки изможденных родителей или давали детям конфеты. Для кого-то все это было слишком: они тихо стояли, переполненные эмоциями, которые не могли выразить словами. По мнению многих старших по возрасту зрителей в этом пограничном городке, сцена пробуждала память о временах, когда они – как Геншер – собирали свои пожитки после войны, чтобы начать новую жизнь на Западе.
Хотя Геншеру и не позволили самому участвовать в этом исходе, он ощущал историческое значение сделанного и удовлетворение от сыгранной им роли. Тот момент на балконе посольства в Праге вывел его на авансцену разворачивавшейся драмы объединения, и он опередил Коля, тоже жаждавшего своего места в истории. «То, что произошло, показывает, что мы вступили в период исторических перемен, которые необратимы и будут продолжаться, – объявил Геншер прессе. – Я надеюсь, руководство Восточной Германии поймет это и не станет самоизолироваться, отрицая перемены. Горбачев скоро приедет, и я надеюсь, что он убедит Восточную Германию, что проведение реформ в ее собственных интересах и что реформы означают большую, а не меньшую стабильность»354.
Однако произошло совершенно обратное: больной Хонеккер, неспособный превзойти самого себя, избрал самоизоляцию. Оставалось несколько дней до празднования сорокалетия Восточной Германии, а он чувствовал унижение и даже угрозу. Непрерывно мелькавшие на телевизионных экранах вопиющие фото теперь уже бесчисленных восточных немцев, лезущих через заборы, осаждающих поезда, переполняющих посольства и, наконец, триумфально сжимающих кулаки после прибытия на земли Западной Германии, стали кричащим очевидным приговором его правительству355.
3 октября Хонеккер запечатал Восточную Германию от всего остального мира, даже от остальной части Варшавского пакта. Это был беспрецедентный акт. Теперь впервые для пересечения любых границ ГДР требовались паспорт, который имелся у меньшинства граждан, и специальное разрешение на каждую поездку – документы, которые в сложившихся обстоятельствах вряд ли было возможно оформить356. Восточные немцы рассердились по-настоящему. В канун осенних школьных каникул тысячи людей предварительно приобрели поездки либо в Чехословакию, либо через нее. Теперь, когда поездки без необходимости предъявлять паспорт и без визы были приостановлены, они застряли на границе между ГДР и Чехословакией в Саксонии. Естественно, что именно здесь начались самые массовые в ГДР демонстрации. И, когда закрылись последние выходные отверстия, вся Восточная Германия превратилась в перегретый паровой котел357.
Ирония заключалась в том, что между 1 и 3 октября еще 6 тыс. восточных немцев опять заполонили западногерманское посольство в Праге. Всего в Праге и около нее собралось от 10 до 11 тыс. потенциальных беглецов. Такие же сцены, хотя и в меньших масштабах, разыгрывались в Варшаве. Спешно договорились о новой серии опечатанных вагонов, и их отправка сопровождалась камерами множества местных и иностранных телевизионных компаний и международной прессой. Понадобилось восемь поездов из Праги до Хофа, чтобы увезти толпу из Чехословакии; еще два с 1445 пассажирами уехали из Варшавы в Ганновер358. Во время последней транзитной операции тысячи восточных немцев, теперь уже чувствовавших себя узниками в собственной стране, столпились вдоль путей и на станциях, чтобы поглазеть на то, что стало известно под названием «последние поезда на свободу». Многие надеялись попасть в эти поезда. В Дрездене положение стало настолько тревожным, что полиции пришлось применить силу, чтобы очистить вокзал и путь, на которых собралось 2500 человек, и опечатать двери вагонов снаружи. К утру 5 октября через главный вокзал Дрездена смогли проехать только три поезда. Остальные перенаправили через другие города359.
Тем не менее толпа в 20 тыс. обозленных людей осталась стоять на площади Ленина в Дрездене (теперь это Венская площадь, Винер-платц) и на прилегающих улицах. Полиция и военные наступали на толпу с резиновыми дубинками и водометами, намереваясь ее рассеять; демонстранты сопротивлялись, выворачивая из мостовой булыжники и швыряя ими в полицейских, и, по словам наблюдателей, это были самые вопиющие факты гражданского неповиновения с 1953 г.360
Силы безопасности Восточной Германии делали свою жестокую работу под неусыпным надзором дрезденского отделения советского КГБ. Очень может быть, что одним из них был молодой офицер по имени Владимир Владимирович Путин. Как человек КГБ, Путин симпатизировал Хонеккеру и его стремлению наказать предателей государства. Но больше всего его беспокоило, насколько мы можем судить по последующим высказываниям, полное молчание его политических руководителей из Москвы. Из Кремля не раздалось ни одного звонка; ни один солдат Советской армии не вышел на помощь своим товарищам из Восточной Германии, чтобы восстановить порядок. Истина заключалась в том, что Горбачев презирал Хонеккера и его приспешников-сталинистов; полностью посвятив себя своей миссии реформатора, советский лидер бросил эту атрофировавшуюся страну, у которой не было намерения самообновляться. Его помощник Анатолий Черняев описал в своем дневнике «ужасные сцены» насилия, разрушающие и восточногерманский, и советский режимы. Жестокие сцены из Дрездена, показанные СМИ, лишь увеличили разрыв между Хонеккером и Горбачевым, между Восточным Берлином и его советским патроном361.
Раз так, то Хонеккер, сытый по горло человеком из Кремля, обратился к другому коммунистическому союзнику – Китайской Народной Республике. В июне его режим выразил полную поддержку использованию силы Пекином. День, когда дэнсяопиновский Китай просто смел «контрреволюционные беспорядки» на площади Тяньаньмэнь, был для Хонеккера примером для всего блока и лучом надежды на будущее реального социализма, поскольку Горбачев не мог покончить с протестами и подрывной деятельностью362. Лето показало, как в результате отступления СССР зараза польской и венгерской либерализации распространяется по всей Восточной Европе. Она уже поразила и саму ГДР, приведя к «истечению» из нее людей и теперь, как показал Дрезден, к беспорядкам на улицах ранее послушного полицейского государства. Невзирая на эти домашние неурядицы, ГДР намеревалась укрепить международный образ коммунизма. Вот почему Хонеккер направил Эгона Кренца, свой второй номер, в очень важный недельный визит в Пекин, на празднование сороковой годовщины КНР 1 октября 1989 г., за несколько дней до того, как должны были состояться торжества по случаю собственного сорокалетия ГДР. Это точно было правильное время для выражения солидарности между настоящими коммунистами.
Во время поездки Кренц собирался узнать у китайских коммунистов, как следует поступать с протестантами и как вернуть статус-кво363. В беседе с секретарем ЦК Цзян Цзэминем 26 сентября Кренц выразил свое удовлетворение визитом в «нерушимый бастион социализма в Азии», где «под руководством Коммунистической партии самая населенная страна мира освобождена от полуколониальных оков». Цзян и Кренц согласились, что события июня 1989 г. обнажили подлинное враждебное содержание западной стратегии «так называемой мирной эволюции» в отношениях с Китаем, представляя собой «агрессивную программу подрыва социализма»364. Другой член Политбюро ЦК КПК Цяо Ши и ключевая фигура в осуществлении военного положения произвел на Кренца впечатление тем, насколько внимательно он и его коллеги следили за событиями в Европе, особенно «за событиями в Польше и Венгрии». И хотя эти события были источником тревоги, Цяо озвучил огромное удовлетворение в КНР от отказа Восточной Германии от движения по тому же пути и ее решимости «придерживаться социализма». Кроме всего прочего, «мы все коммунисты, наша жизнь есть борьба» – «в политике, идеологии и экономике»365. Выдающийся лидер Дэн Сяопин вдохновленно сказал Кренцу: «Мы вместе защищаем социализм – вы в ГДР, мы в Китайской Народной Республике»366. Кренц в свою очередь провозгласил: «В борьбе нашего времени ГДР и Китай стоят рядом»367. Они представлялись себе двумя маяками социализма, светившими во тьме враждебного мира.
Кренц был одним из немногих випов в поразительно скудном списке иностранцев, приглашенных на празднества по случаю сорокалетия КНР. Все остальные были фигурами меньшего масштаба из относительно маргинальных стран – член чехословацкого политбюро, представитель кубинской компартии и министры из Эквадора и Монголии. Советский Союз представлял заместитель председателя общества Советско-китайской дружбы. Частично по причине международного возмущения событиями 4 июня никто из глав правительств не присутствовал на торжествах. Отсутствовали даже послы многих важных стран – США, Канады, стран Западной Европы и Японии. Кренц, будучи вторым лицом важнейшей коммунистической партии Европы, вместе со своим коллегой из Северной Кореи, вице-президентом Ли Чжон Ок являлся наиболее важным зарубежным товарищем, чтобы находиться на трибуне рядом с постаревшей китайской элитой в тот момент, когда она взирала на восстановленное спокойствие на площади Тяньаньмэнь. Дэн говорил Ли: «Когда вы приедете домой, пожалуйста, скажите президенту Ким Ир Сену, что общественный порядок в Китае нормализован… То, что произошло не так давно в Пекине, было плохо, но в конце концов анализ показал, что это принесло пользу, потому что отрезвило нас». На это Ли ответил: «Я уверен, что президент Ким будет счастлив узнать об этом»368.
*
Высокопоставленные иностранные гости должны были наблюдать за масштабным фейерверком и красочным костюмированным представлением, исполненным сотней тысяч пионеров с цветами. Они выглядели не столько радостными, сколько вялыми. Вместо большого военного парада, как это было за пять лет до этого, мощь государства олицетворял лишь караул из 45 солдат, промаршировавших перед трибуной. Из-за жестких мер безопасности простые китайцы не могли подойти ближе чем на милю к месту празднования дня рождения их «Народной Республики». Более того, военное положение в Пекине оставалось в силе с тех пор, как три месяца назад оно было введено в момент пика студенческих демонстраций. И солдаты с автоматами продолжали патрулировать центр города. Тон всей КНР в год ее сорокалетия совсем не был юбилейным; до самого последнего времени планировалось провести это мероприятия камерным образом и скромно. Но к октябрю в партии, сумевшей вернуть себе уверенность, захотели показать и отпраздновать факт того, что у нее все находится под контролем. «Национальный день в этом году имеет необычное значение», – заявил Ли Жуйхуань, член Политбюро, отвечавший за пропаганду. Это потому, добавил он, что «мы только что одержали победу над попыткой создать хаос начать контрреволюционное восстание»369.
В то время как коммунистический Китай отметил свое сорокалетие в состоянии приглушенной определенности, пусть и потрясенной событиями 4 июня, но показавшими ясный путь вперед, их немецкие товарищи на протяжении многих месяцев планировали грандиозное празднество, и вдруг в последний момент оказалось, что они столкнулись с растущим социальным напряжением, угрожавшим потерей политического контроля. Настрой был провести 6–7 октября в Берлине огромный фестиваль с военными и молодежными парадами, пышными банкетами в сверкающем Дворце республики, и все это под бесконечные приветственные речи. По контрасту с Пекином здесь должны были присутствовать все ведущие персоны коммунистического мира, в том числе вице-премьер Китая Яо Илинь и сам Горбачев. Для Хонеккера это было огромное событие, вершина его двадцатилетнего пребывания у власти и дальнейшее признание положения ГДР в коммунистическом мире. Чтобы быть уверенным, что все идет по плану, визиты западных берлинцев на период празднеств были сокращены до минимума, в то время как была начата совместная детально «организованная и скоординированная» операция разведки и сил безопасности, чтобы любые попытки протестовать были немедленно пресечены. Короче, это была пекинская, а не московская модель370.
Сначала казалось, что все идет по плану. Когда 6 октября Горбачев прилетел в берлинский аэропорт Шёнефельд, они с Хонеккером перед камерами демонстрировали образцовую дружескую встречу. Они крепко обнялись перед тем, как отправиться в город «украшенный плакатами и сиявший под перекрестными лучами света», где они, стоя плечом к плечу, приветствовали массовое факельное шествие ста тысяч немецких комсомольцев из Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ). Весь вечер телевидение ГДР показывало, как два лидера улыбаются друг другу и приветственно машут толпам молодежи, проходящим мимо них по Унтер-ден-Линден с флагами и факелами. Временами советский лидер слышал ободряющие приветствия в свой адрес и выкрики «Горби, Горби!» со стороны своих молодых немецких поклонников. Затем, к удивлению Горбачева, около 300 членов ССНМ принялись скандировать «Горби, помоги нам! Горби, спаси нас!» – и это стало кодовым словом для обозначения реформ, проведения которых они требовали от своего неуступчивого правительства. Хонеккер наверняка был в ярости от того, как повернулись события, но это еще было минимальное отступление от столь тщательно срежиссированного события, в котором оба лидера предстали в гармоничном единении371.
На следующее утро атмосфера была уже совершенно иной. Горбачев снова стоял возле Хонеккера, на сей раз на месте для випов на Карл-Марк-Аллее во время военного парада – ежегодное мероприятие по такому случаю было сравнительно небольшим, чтобы показать приверженность Варшавского пакта разоружению. Но советский лидер на сей раз выглядел «отрешенным и обеспокоенным» в момент прохождения мимо него военных колонн: искусственность всего празднества, похоже, становилась для него очевидной372.
После парада «Горби» и «Хонни» беседовали наедине на протяжении почти трех часов, и затем беседа продолжалась в присутствии всех членов Политбюро СЕПГ. Мало что шло по плану: фактически Хонеккер и Горбачев просто не понимали друг друга. Кончилось тем, что каждый говорил о своем. Горбачев в типичной широковещательной манере расхваливал свое новое мышление и текущую «революцию в революции» (другими словами, не опровергавшую октябрь 1917 г.), в то же время подчеркивая, что историческое соревнование коммунизма и социализма продолжается, хотя и в изменившемся мире. Хонеккер, со своей стороны, возносил хвалу ГДР как одной из самых замечательных экономик мира. В микроэлектронику было инвестировано 15 млрд марок ГДР, в том числе в огромные государственные комбинаты «Микроэлектроник» в Эрфурте, «Карл Цейсс» в Йене и «Роботрон» в Дрездене. На заводах было установлено новое автоматизированное оборудование и прирост производительности труда там составил 300–700%. Ни у кого не оставалось сомнений в том, что он намерен придерживаться старой формы государственного социализма. «Мы решим свои проблемы сами своими социалистическими способами», – настаивал Хонеккер.
Их выступления перед членами Политбюро точно так же были построены словно о разном. Но к этому времени Горбачев уже услышал достаточно. Он рассказал восточногерманским слушателям историю о шахтерах из Донецка, которые «преподали хороший урок» местному секретарю обкома: «Мы нередко видим, что кто-то из руководителей уже не тянет воз, но не решаемся его заменить, боимся, как бы он не обиделся». И он со значением оглядел членов Политбюро СЕПГ: ни у кого не должно быть иллюзий, что сказанное напрямую не относилось к семидесятисемилетнему твердолобому Хонеккеру. «Если мы отстанем, жизнь нас накажет», – резюмировал он. Позднее, обращаясь к журналистам из разных стран, его пресс-секретарь Герасимов выразил все сказанное в сжатой афористичной форме: «Жизнь наказывает тех, кто опаздывает»373.
Это были 24 часа неоднозначных сообщений. Решив в конечном счете посетить празднование в ГДР, Горбачев совершенно определенно намеревался выразить лишь четко выверенную меру солидарности своему самому ценному союзнику времен холодной войны. После появления чрезвычайных фото недавнего исхода и эскалации народных требований проведения реформ и демократии, демонстраций, прокатившихся по всем городам Восточной Германии, главной миссией Горбачева стала задача успокоить взвинченные нервы в Восточном Берлине и помочь предотвратить доведение комбинации социального разочарования и политического паралича до той точки, в которой это могло привести к дестабилизации государства Восточной Германии. В то же время Горбачев ясно дал понять, что Москва не будет вмешиваться в восточногерманские проблемы: это не только «проблемы колбасы и хлеба», как он выразился, но проблема была и в том, что люди требуют «больше кислорода в обществе». В конечном счете сам Хонеккер должен был иметь смелость начать политическую реформу. Горбачев больше не собирался поддерживать его374.
Находясь на передовой линии фронта холодной войны в самом сердце Европы, советский лидер вел себя вызывающе с точки зрения международного положения. В своей речи на торжественном обеде 6 октября он отверг обвинения в том, что только Москва несет ответственность за послевоенный раскол континента надвое, и обратил внимание на то, что в Западной Германии появляется стремление «реанимировать» мечты о германском рейхе «в границах 1937 г.». Он особенно решительно отвергал обращенные к Москве требования разрушить Берлинскую стену – это был призыв 1987 г. Рейгана, повторенный Бушем в 1989-м. «Нас постоянно призывают ликвидировать и то, и это разделение, – сожалел Горбачев. – Нам часто приходится слышать: “Пусть СССР снесет Берлинскую стену, тогда мы поверим в его мирные намерения”». Он был непреклонен в том, что «мы не идеализируем порядок, установленный в Европе. Но фактом является то, что до сих пор признание послевоенной реальности обеспечивает мир на континенте». «Всякий раз, когда на Западе делалась ставка на перекройку послевоенной карты Европы, это вело к очередному напряжению международной обстановки». Горбачев хотел, чтобы его социалистические товарищи приняли обновление, но он не намеревался распускать Варшавский пакт или внезапно снимать границы времен холодной войны, дававшие стабильность континенту в последние сорок лет375.
Так, каждый по-своему, два коммунистических лидера держались за прошлое. Горбачев опирался на существовавшие геополитические реальности, невзирая на прорехи, приоткрывавшие Железный занавес. Хонеккер не расставался с иллюзией, что Восточная Германия остается социалистической страной, объединенной приверженностью к доктринам партии.
Непримиримость гэдээровского режима, проявленная во время празднования, и растущее социальное недовольство в последние недели создали потенциально взрывную смесь. В течение менее чем двух недель Хонеккер будет смещен. И лишь спустя месяц после празднования сорокалетия ГДР 9 ноября Берлинская стена падет без сопротивления. Стена была главным символом холодной войны, барьером, ограждавшим и население Восточной Германии, и структуры, скреплявшие весь блок. 7 октября партия показала себя театром иллюзий. Впрочем, в том, что вскоре произошло, не было ничего неизбежного.
199
John Tagliabue ‘Poland Flirts with Pluralism Today’ NYT 4.6.1989.
200
О польских «полу-конкурентных выборах» см.: Marjorie Castle. Triggering Communism’s Collapse: Perceptions and Power in Poland’s Transition Rowman & Littlefield, 2003. Ch. 6. См. также: Tagliabue ‘Poland’ NYT 4.6.1989.
201
Timothy Garton Ash. ‘Revolution in Poland and Hungary’ London Review of Books (hereafter LRB) 17.8.1989. Ср. idem: The Magic Lantern. Pp. 25–46, особенно p. 32.
202
Kristof. ‘Troops Attack and Crush Beij ing Protest’.
203
John Daniszewski. ‘Communist Party Declares Solidarity Landslide Winner’. AP 5.6.1989; John Tagliabue. ‘Stunning Vote Casts Poles into Uncharted Waters’ NYT 6.6. 1989.
204
Garton Ash. The Magic Lantern P. 32.
205
Tyler Marshall ‘Russian Troops Remain in Ex-Satellite States – Military: Of an estimated 600,000 in Eastern Europe in the late 1980s, only about 113,000 haven’t gone home’ LAT 1.4.1993.
206
Andrei Grachev Gorbachev’s Gamble: Soviet Foreign Policy and the End of the Cold War Polity 2008 P. 172.
207
Ibid. pp. 171–172.
208
См.: Geir Lundestad ‘Empire by Invitation? The United States and Western Europe 1945–52’. Journal of Peace Research 23, 3 (1986). Pp. 263–277; idem ‘”Empire by Invitation” in the American Century’. Diplomatic History 23, 2 (Spring 1999). Pp. 189–217; idem, Empire by Integration: The United States and European Integration, 1945–1997 Oxford UP, 1997; and John Lewis Gaddis. We Now Know. Clarendon Press, 1997. Pp. 284–286.
209
К числу полезных обзорных работ относятся: Geoffrey Swain & Nigel Swain. Eastern Europe since 1945. Macmillan, 1993; Judy Batt. East Central Europe from Reform to Transformation Pinter 1991.
210
О прогнозах специалистов в области международных отношений или, скорее, об отсутствии у них таковых см.: George Lawson et al. (eds) The Global 1989: Continuity and Change in World Politics Cambridge UP, 2010, introduction esp. p. 4; или Michael Cox ‘Why Did We Get the End of the Cold War Wrong?’ The British Journal of Politics and International Relations 11, 2 (2009) pp. 161–176; John Lewis Gaddis. ‘International Relations Theory and the End of the Cold War’. International Security 17, 3 (1992-3) pp. 5–58. О том, каковы были аналитические выводы ЦРУ, см., например: Gerald K. Haines & Robert E. Leggett (eds). CIA’s Analysis of the Soviet Union, 1947–1991. Ross & Perry, 2001; Benjamin B. Fischer & Gerald K. Haines (eds). At Cold War’s End: US Intelligence on the Soviet Union and Eastern Europe, 1989–1991 Ross & Perry 2001/
211
Andrzej Paczkowski The Spring Will Be Ours: Poland and the Poles from Occupation to Freedom Pennsylvania UP 2003.
212
Andrej Paczkowski & Malcolm Byrne (eds). From Solidarity to Martial Law: The Polish Crisis of 1980–1981 – A Documentary History CEU Press, 2007 pp. 4–5; Marcin Zaremba ‘Karol Wojtyla the Pope: Complications for Comrades of the Polish United Workers’ Party’ CWH 5, 3 (2005) pp. 317–336.
213
Детальное изучение событий 1980–1981 гг. см. у: Timonthy Garton Ash The Polish Revolution: Solidarity Yale UP, 2002; Paczkowski & Byrne (eds) From Solidarity to Martial Law.
214
John Tagliabue ‘Thousands at Gdansk Shipyard Join Polish Strike’ NYT 3.5.1988; см. также: Grzegorz W. Kolodko ‘Polish Hyperinflation and Stabilization 1989–1990’ Economic Journal on Eastern Europe and the Soviet Union (1/1991) pp. 9–36.
215
Andrew A. Michta. Red Eagle: The Army in Polish Politics, 1944–1989. Hoover Institution Press, 1990. P. 200; Taubman. Gorbachev. Pp. 480–483; Paula Butturini. ‘Polish Strike “Broke the Barrier of Fear”: Militant Steelworkers Sense Victory’. CT 18.9.1989.
216
О переговорах за круглым столом в Польше см.: Wiktor Osyatinski. ‘The Round-Table Talks in Poland’ in Jon Elster (ed.) Round-Table Talks and the Breakdown of Communism. Univ. of Chicago Press, 1996.
217
John Tagliabue. ‘Appeal by Walesa Fails to Resolve All Polish Strikes’ NYT 2.9.1988.
218
Castle. Triggering Communism’s Collapse. P. 47.
219
Garton Ash. The Magic Lantern. P. 14.
220
Rudolf L. Tökés. Hungary’s Negotiated Revolution: Economic Reform, Social Change and Political Succession. Cambridge UP, 1996, ch. 6.
221
Bridget Kendall. The Cold War: A New Oral History of Life between East and West. BBC Books, 2017. P. 180. О наследии 1956 года см.: Karen Dawisha. Eastern Europe, Gorbachev and Reform: The Great Challenge. Cambridge UP, 1990. Pp. 136–139.
222
Odd Arne Westad. The Cold War: A World History. Penguin Books, 2017. Pp. 202–206. О «контрреволюции» или народном восстании см. также: ‘Minutes of the Meeting of the HSWP CC Political Committee’ 31.1.1989, printed in Cold War International History Bulletin Issue 12/13 (section by Békés & Melinda Kalmár Csaba, ‘The Political Transition in Hungary’) doc. 1 pp. 73–75 CWIHP.
223
Nigel Swain. Collective Farms Which Work? Cambridge UP, 1985. P. 26.
224
Ibid. pp. 134–135.
225
Roger Gough. A Good Comrade: Janos Kádár, Communism and Hungary. I. B. Tauris, 2006. Pp. 142, 150; см. также: Michael Getler. ‘”Goulash Communism” Savoured’. WP 14.9.1977.
226
Tökés. Hungary’s Negotiated Revolution. Pp. 274–277.
227
Ibid. ch. 7; András Bozóki. The Round-Table Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy. CEU Press, 2002. Pp. 98–101.
228
О 1848 годе см.: Alice Freifeld. Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848–1914. Woodrow Wilson Center Press, 2000. Pp. 309–316; Tamás Hofer. ‘The Demonstration of March 15, 1989, in Budapest: A Struggle for Pubilc Memory’ Program on Central and Eastern Europe’, Working Paper Series #16 Cambridge MA, 1991. Pp. 6–8.
229
Nigel Swain. Hungary: The Rise and Fall of Feasible Socialism. Verso, 1992. Pp. 18–26. См. также: Bózóki. The Round-Table Talks of 1989; idem ‘The Round-Table Talks of 1989: Participants, Political Visions, and Historical References’. Hungarian Studies 14, 2 (2000). Pp. 241–257.
230
Henry Kamm. ‘Hungarian Who Led ‘56 Revolt Is Buried as a Hero’. NYT 17.6.1989. О политическом транзите в Венгрии в целом см. также: László Bruszt & David Stark. ‘Remaking the Political Field in Hungary: From the Politics of Confrontation to the Politics of Competition’. Journal of International Affairs 45, 1 [East Central Europe: After the Revolutions] (Summer 1991). Pp. 201–245.
231
О проникновении (диффузии) идей см.: Mark R. Beissinger. ‘Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/ Tulip Revolutions’. Perspectives on Politics 5, 2 (June 2007). Pp. 259–276 на с. 259; idem. ‘An Interrelated Wave’. Journal of Democracy 20, 1 (January 2009) pp. 74–77; Leeson & Dean. ‘The Democratic Domino Theory: An Empirical Investigation’. American Journal of Political Science 53, 3 (July 2009). Pp. 533–551. Больше о «заразности» и «диффузии» идей см. в: Valerie Bunce & Sharon Wolchik. ‘Getting Real about “Real Causes’”. Journal of Democracy 20, 1 (January 2009). Pp. 69–73; Kristian Skrede Gleditsch & Michael D. Ward. ‘Diffusion and the International Context of Democratisation’. International Organisation 60, 4 (Fall 2006). Pp. 911–933.
232
О достигшей Китая восточноевропейской «заразе» см.: Vogel. Deng Xiaoping. З. 626; James Miles. The Legacy of Tiananmen: China in Disarray. Univ. of Michigan Press, 1996. Pp. 42–43; Baum. Burying Mao. Pp. 250, 275–280; Shambaugh. China’s Communist Party. Pp. 43–46; Sarotte. ‘China’s Fear of Contagion’. Pp. 156–182. О распространении «заразы» по CCCР см.: Esther B. Fein. ‘Moscow Condemns Nationalist “Virus” in 3 Baltic Lands’. NYT 27.8.1989.
233
Ср. Krishan Kumar. ‘The Revolutions of 1989: Socialism, Capitalism, and Democracy’. Theory and Society 21, 3 (June 1992). Pp. 309–356.
234
Немет цит. по: Walter Mayr. ‘Hungary’s Peaceful Revolution: Cutting the Fence and Changing History’. Spiegel-Online 29.5.2009.
235
Sebestyen. Revolution 1989. P. 259; Mayr. ‘Hungary’s Peaceful Revolution’.
236
Выдержки из записи переговоров Горбачева и Немета в Москве 3.3.1989, см.: MoH:1989 doc. 59 pp. 412–413. Чтобы понять изменения в отношениях Горбачева и Немета, ср. с другими выдержками записи тех же переговоров, опубликованных в: CWIHP Bulletin 12/13 pp. 76–77.
237
Sebestyen. Revolution 1989. P. 261; Michael Meyer. 1989: The Year that Changed the World. Simon & Schuster, 2009. Pp. 68–70. BA-MA Strausberg AZN 32665 Bl. 78/79 ‘Schreiben von DDR-Verteidigungsminister Heinz Keßler an Erich Honecker zur Demontage des Grenzsignalzaunes zwischen Ungarn und Österreich’ 6.5.1989 pp. 1–2 Chronik der Mauer Digital Archive (CdMDA).
238
Sebestyen. Revolution 1989. P. 261.
239
Gary Bruce. The Firm: The Inside Story of the Stasi. Oxford UP, 2010. P. 165.
240
Helmut Kohl. Ich wollte Deutschlands Einheit. Ullstein, 1996. Pp. 35–51.
241
Запись беседы Горбачева с Колем 12.6.1989. С. 2. АГФ. Записки А.С. Черняева. DAWC. Cр. Запись беседы Горбачева с Колем 12.6.1989, опубликовано в: MoH:1989 doc. 63 pp. 463–467. См.: Горбачев М.С. Собр. соч. Т. 14. С. 460–464. Что касается немецкой записи переговоров Коль–Горбачев 12.6.1989, см.: Hanns Jürgen Küsters & Daniel Hoffmann (eds). Deutsche Einheit: Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes, 1989/90 (hereafter DESE) [Dokumente zur Deutschlandpolitik]. Oldenbourg, 1998. doc. 2 pp. 276–287 esp. pp. 283–284.
242
Kohl. Ich wollte. Pp. 47–49; Bulletin der Bundesregierung no. 61 15.6.1989 pp. 542–544; Ср. Записи переговоров Коль–Горбачев в составе делегаций 13.6.1989, опубликовано в: DESE doc. 4 pp. 295–299. О подготовке декларации и лингвистических спорах, особенно с западногерманской точки зрения, см. также: Hannes Adomeit. Imperial Overstretch: Germany in Soviet Policy from Stalin to Gorbachev. Nomos, 1998 pp. 398–399.
243
Serge Schmemann. ‘Bonn Declaration: “Heal the Wounds”’ NYT 14.6.1989.
244
Запись третьей беседы Горбачева и Коля 14.6.1989, опубликовано в: MoH:1989 doc. 67 pp. 477–478. Немецкой записи встречи 14 июня нет. См.: Горбачев. Собр. соч. Т. 14. С. 498.
245
Запись переговоров Коль–Горбачев 13.6.1989 (полная стенограмма) DESE doc. 3 pp. 287–292 esp. p. 292; более краткие выдержки на русском см.: Record of Second Conversation between Gorbachev and Kohl 13.6.1989 MoH:1989 doc. 66 p. 475.
246
MoH:1989 doc. 67 p. 476 and doc. 66 p. 475.
247
См.: Hannes Adomeit. Imperial Overstretch, pp. 398–399.
248
Kohl. Ich wollte, pp. 43–44. O важности двусторонних отношений с Бонном для Москвы и о глобальной роли ФРГ см.: DESE doc. 2, p. 280.
249
Schmemann. ‘Bonn Declaration’, p. 12.
250
Serge Schmemann. ‘A Gorbachev Hint for Berlin Wall’ NYT 16.6.1989; Ferdinand Protzman. ‘Gorbachev Urges Greater Trade and Much Closer Ties with Bonn’. NYT 14.6.1989.
251
James M. Markham. ‘Gorbachev Says Change Will Sweep Bloc’. NYT 6.7.1989; ср. Taubman Gorbachev. P. 478.
252
Запись беседы Горбачева и Коля 12.6. 1989. АГФ. Записки А.С. Черняева. DAWC. См. также: MoH:1989 doc. 63 pp. 464–465; DESE doc. 2, p. 282.
253
Неполная советская запись переговоров Миттеран–Горбачев 5.7.1989 MoH:1989 doc. 72 pp. 490–491. James M. Markham. ‘Gorbachev Likens Soviets to French’. NYT 5.7.1989. Французская точка зрения на визит Горбачева в Париж см.: Bozo. Mitterrand. pp. 60–63.
254
Горбачев. Собр. соч. Т. 15. С. 156–169.
255
Mark Kramer ‘The Demise of the Soviet Bloc’ Journal of Modern History 83 (December 2011) pp. 788–854 here pp. 806–809. And US National Intelligence Council ‘Status of Soviet Unilateral Withdrawals’ 1.9.1989, Memorandum NIC M 89-10003 (Secret), printed in Fischer (ed.) At Cold War’s End doc. 19 pp. 304–313. ‘Warsaw Pact Warms to NATO Plan’ CT 9.7.1989.
256
В Бухарестской декларации утверждалось, что в интересах жизненно важных требований политики безопасности, взаимопонимания и сотрудничества между странами следует уважать национальную независимость, суверенитет и равноправие всех государств, равенство прав всех народов и право каждого народа на самоопределение и свободу выбора собственного социального и политического развития; следовать политике невмешательства во внутренние дела, соблюдения устава ООН и принципов Хельсинкского Заключительного акта, а также всеми признанных принципов международных отношений. См.: Совещание Политического консультативного комитета государств – участников Варшавского договора, Бухарест, 7–8 июля 1989 г.: Документы и материалы. М.: Политиздат, 1989, а также: Parallel History Project-ETH Zurich (PHP-ETHZ).
257
См.: Горбачев. Собр. соч. Т. 15. С. 182.
258
Bush & Scowcroft A World Transformed p. 115. О планах Буша посетить Польшу: ‘Bush to Visit Hungary, Poland in July to Show US Support for Their Reforms’ LAT 6.5.1989. См. также: GHWBPL Telcon of Kohl–Bush call 5.5.1989 Oval Office, p. 2.
259
Maureen Dowd ‘Bush Rebuffs Gorbachev’s Move for Swifter Cuts in Nuclear Arms’ NYT 7.7.1989; Bush & Scowcroft A World Transformed p. 115. Kevin McDermott & Matthew Stibbe (eds) The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe: From Communism to Pluralism Manchester UP 2015 p. 127.
260
Bush & Scowcroft A World Transformed pp. 115–116.
261
Ibid. p. 116; Maureen Dowd ‘Bush in Warsaw on Delicate Visit to Push Changes’ NYT 10.7.1989.
262
Maureen Dowd ‘For Bush, A Polish Welcome without Fervor’ NYT 11.7.1989.
263
GHWBPL Memcon of Jaruzelski–Bush and Scowcroft meeting 10.7.1989 Belvedere Palace (Poland). Позднее Буш сам говорил, что встреча продолжалась «два часа»: Bush & Scowcroft A World Transformed p. 117. Запись с польской стороны см. в: Information Note Regarding George H. W. Bush’s Visit to Poland (July 9–11) 18.7.1989, опубликовано в: MoH:1989 doc. 76 pp. 503–505.
264
GHWBPL Memcon of Rakowski–Bush meeting 10.7.1989 Council of Ministers (Poland) pp. 2–3.
265
Bush’s Remarks to the Polish National Assembly in Warsaw 10.7.1989 APP.
266
Gregory F. Domber ‘Skepticism and Stability: Re-evaluating US Policy during Poland’s Democratic Transformation in 1989’ JCWS 13, 3 72 (Summer 2011) pp. 52–82 esp. p. 62 .
267
Marshall Robinson America’s Not-So-Troubling Debts and Deficits’ Harvard Business Review (July-August 1989). Буш сам говорил Раковскому о дефиците бюджета в 150 млрд долл. 10 июля 1989 г., что на самом деле в два раза превышало дефицит в 79 млрд долл. в 1981 г. См.: Statistical Comparison of US presidential Terms, 1981–2009’ at reagan. procon.org/view.resource. php? resourceID=004090.
268
R. W. Apple Jr ‘Bush, in Warsaw, Unveils Proposal for Aid to Poland’ NYT 11.7.1989. Об экономических показателях см. таблицу под названием: ‘Political Openings, Economic Straits’ NYT 12.7.1989. О финансовой помощи со стороны США: Буш хотел помочь Восточной Европе, но «мы не можем вливать деньги, пока не проведены экономические реформы. Мы должны быть осторожными», говорил он президенту Комиссии ЕС Жаку Делору 14 июня. См.: GHWBPL Memcon of Bush’s Luncheon Meeting with Jacques Delors 14.6.1989 White House.
269
Maureen Dowd ‘Bush urges Poles to pull together’ NYT 12.7.1989; R. W. Apple Jr ‘A Polish Journey; Bush Escapes Pitfalls in Weathering Tough Economic and Political Climate’ NYT 12.7.1989; David Hoffman ‘Waۃ ęsa Pleads with Bush for Money to Spare Poland the Fate of Beij ing’ WP 12.7.1989; 82 Bush & Scowcroft A World Transformed pp. 120–121. См. также: Bush’s Question-andAnswer Session With Reporters Following a Luncheon With Solidarity Leader Lech Waęsa in Gdansk 11.7.1989 APP; и Bush’s Remarks at the Solidarity Workers’ Monument in Gdansk 11.7.1989 APP .
270
Apple Jr ‘A Polish Journey’ .
271
Bush & Scowcroft A World Transformed p. 124. Jack Nelson ‘Bush Hailed in Hungary, Lauds Reforms’ LAT 12 July 1989; Terry Atlas & Timothy J. McNulty ‘Cheers Greet Bush Call For Reform’ CT 12.7.1989.
272
Bush & Scowcroft A World Transformed p. 124; George H. W. Bush Speaking of Freedom: The Collected Speeches Scribner 2009, pp. 79–80.
273
Domber ‘Skepticism and Stability’ pp. 72–73; Paczkowski The Spring Will Be Ours p. 507; R. W. Apple Jr ‘In Hungary, The Ideas for Change Are Selling Themselves’ NYT 13.7.1989.
274
GHWBPL Memcon of Bush–Németh Meeting 12.7.1989 Parliament Building (Hungary) pp. 2–4.
275
GHWBPL Memcon of Bush–Pozsgay meeting 12.7. 1989 US Ambassador’s Residence (Hungary) pp. 2–3.
276
Bush’s Remarks to Students and Faculty at Karl Marx University in Budapest 12.7.1989 APP; Apple Jr ‘In Hungary, The Ideas for Change are Selling Themselves’.
277
Ibid. См. также: Bush & Scowcroft A World Transformed p. 126.
278
Apple Jr ‘In Hungary, The Ideas for Change are Selling Themselves’ .
279
Bush & Scowcroft A World Transformed p. 126; Bush’s Interview with Members of the White House Press Corps 13.7.1989 APP.
280
Robert M. Gates From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War Simon & Schuster 2006 p. 466.
281
Bush’s Interview With Members of the White House Press Corps 13.7.1989 APP. See also Maureen Dowd ‘Bush Credits Moscow with Change in East Bloc’ NYT 14.7.1989.
282
Peter T. Kilborn ‘US Prepares Loan to Enable Mexico to Meet Payments’ NYT 14.7.1989; Bush & Scowcroft, A World Transformed p. 127. Об экономических приоритетах США на саммит, см. также: GHWBPL Telcon of Bush–Kohl call 23.6.1989 Oval Office p. 2. Буш говорил Колю: «Приоритетом для США будет обсуждение ситуации международной задолженности и координации макроэкономической политики. Саммит Семерки должен вернуться на уровень координации политики, как это делали в прошлом». Cр. на немецком: Telcon of Bush–Kohl call 23.6.1989, опубликовано в: DESE doc. 10 p. 315.
283
Serge Schmemann ‘Poland’s Leader Asks West for Aid’ NYT 14.7. 1989; idem ‘Walesa to Back a Communist Chief’ NYT 15.7.1989.
284
See TNA UK PREM 19/2597 Charles Powell’s notes on Bush–Thatcher Telcon 5.6.1989 MTF.
285
Ezra F. Vogel, Ming Yuan, Akihiko Tanaka (eds) The Golden Age of the US–China–Japan Triangle, 1972–1989 Harvard Univ. Asia Center 2002 pp. 105–106; Mary Nolan The Transatlantic Century: Europe and the United States, 1890–2010 Cambridge UP 2012 p. 327; R. W. Apple Jr ‘Leaders in Paris Argue over China’ NYT 14.7.1989.
286
О декларации см.: g8.utoronto.ca/summit/ 1989paris/east.html.
287
Maureen Dowd ‘Leaders at Summit Back Financial Aid For East Europe’ NYT 16.7.1989.
288
Jbid.; Robert L. Hutchings American Diplomacy and the End of the Cold War: An Insider’s Account of US Policy in Europe, 1989–1992 Woodrow Wilson Center Press 1997 pp. 67–69; R. W. Apple Jr ‘Mission for Europeans Signals Growing Power’ NYT 16.7.1989.
289
D. Hodson ‘Jacques Delors: Vision, Revisionism, and the Design of EMU’ in Kenneth Dyson & Ivo Maes (eds) Architects of the Euro: Intellectuals in the Making of European Monetary Union Oxford UP 2016 pp. 212–232.
290
О ЕС-92 см.: JAB-SML B108/F1 Talking points – Cabinet Meeting (first meeting of Bush administration) WDC 23.1.1989 p. 2; Robert B. Zoellick ‘Bush 41 and Gorbachev’ Diplomatic History 42, 4 (2018) p. 561.
291
О Мадридской декларации см.: europarl. europa.eu/summits/madrid/ mad1_de.pdf. О встрече Буша с Делором за ланчем см.: GHWBPL Memcon of Bush–Delors talks 14.6.1989 White House pp. 2–3.
292
Письмо Коля Бушу 28.6.1989, опубликовано в: DESE doc. 12 pp. 320–323. О визите в Польшу см.: Serge Schmemann ‘Old Prejudices and Hostilities Stall Effort by Bonn and Warsaw to Reconcile’ NYT 23.6.1989; Hutchings American Diplomacy pp. 67–68. См. также: Christoph Gunkel ‘Helmut Kohls Polen-Reise 1989: Problemfall Mauerfall’ Spiegel-Online, 6.11.2009.
293
‘W. Europe to Start Giving Food Products to Poland’ LAT 18.8.1989; ‘Food Aid to Poland Linked to Free Markets’ NYT 2.8.1989. Cр. Domber ‘Skepticism and Stability’ p. 65; и папки в: NS Archive Washington DC End of the Cold War – Poland 1989 Cables.
294
Cр. Engel ‘A Better World’ p. 27; Steven Hurst The Foreign Policy of the Bush Administration: In Search of a New World Order Cambridge UP 2009 p. 11; Meyer 1989 pp. 212–217; Melvyn Leffler ‘Dreams of Freedom, Temptation of Power’ in Jeffrey A. Engel (ed.) The Fall of the Berlin Wall: The Revolutionary Legacy of 1989 Oxford UP 2009 pp. 132–169.
295
Выдержки из письма в: Steven Greenhouse ‘Gorbachev Urges Economic Accords’ NYT 16.7.1989.
296
Bush & Scowcroft A World Transformed p. 129.
297
Ibid.
298
Новая восточная политика, или кратко Ostpolitik, в начале 1960-х гг. означала нормализацию отношений между ФРГ и Восточной Европой, особенно с СССР и ГДР. Эта политика разрядки напряженности в отношениях со странами Восточного блока была начата Вилли Брандтом вначале как министром иностранных дел, а затем проводилась им как канцлером ФРГ.
299
GHWBPL Memcon of Bush–Weizsacker meeting 6.6.1989 Oval Office p. 2.
300
GHWBPL Telcon of Kohl–Bush call 15.6.1989 Oval Office pp. 1–3; немецкая запись в: DESE doc. 5 pp. 299–301 esp. p. 300. См. также: Дневниковая запись 15.6.1989, опубликовано в: Bush All the Best p. 428. Буш был доволен: «Пересказ о Горбачеве» Коля был хорошим и канцлер звучал «оптимистично». В целом «долгий телефонный разговор» был «очень личным, очень дружеским». Далее Буш отметил: «От себя лично, Гельмут упомянул особые сосиски, которые он мне собирался отправить уже три или четыре раза, поэтому я должен поговорить с Секретной службой об их получении. Им это будет неудобно, но здесь нам нужно немного нарушить правила просто потому, что это так много значит для Коля, и, кроме того, мне нравятся немецкие сосиски».
301
Дневниковая запись 18.6.1989, опубликовано в: Bush & Scowcroft A World Transformed p. 130
302
Bush & Scowcroft A World Transformed pp. 39, 130.
303
GHWBPL Memcon of Mitterrand–Bush meeting 13.7.1989 Palais de l’Elysee p. 2.
304
Engel When the World Seemed New p. 6; James M. Markham ‘The President Tours a New Europe That Calls Its Own Shots’ NYT 16.7.1989; Dowd ‘Leaders at Summit Back Financial Aid For East Europe’. Об идеях Буша относительно «личной дипломатии» см.: Bush & Scowcroft A World Transformed pp. 60–61. О том, как «танцевать танго», см.: Memcon of Reagan–Gorbachev talks 11.10.1986 Reykjavik p. 11 thereaganfiles.com/ reykjavik-summit-transcript.pdf.
305
Письмо Буша Горбачеву 21.7.1989, опубликовано в: Bush All the Best pp. 433–434. Cр. Bush & Scowcroft A World Transformed pp. 132–133.
306
John Tagliabue ‘Jaruzelski Wins Polish Presidency by Minimum Votes’ NYT 20.7.1989; Domber ‘Skepticism and Stability’ p. 74.
307
Garton Ash The Magic Lantern pp. 39–40. NSArchive, End of the Cold War – Poland 1989 Cables ‘US embassy Warsaw to Sec State – Coversation with Gen. Kiszczak’ 11.8.1989; and ‘New Prime Minister May Fail to Form a Government, Will Waęsa Try Next?’ 14.8.1989.
308
John Tagliabue ‘Senior Solidarity Aide Says He Is Being Named Premier; Post-War Milestone In Bloc’ NYT 19.8.1989. О давлении на Горбачева см.: From Rakowski’s polit-diary – Gorbatschow zu Mieczyslaw Rakowski: ‘Den Weg der Verständigung gehen’ 22.8.1989, опубликовано в: Stefan Karner et al. (eds) Der Kreml und die ‘Wende’ 1989: Interne Analysen der sowjetischen Führung zum Fall der kommunistischen Regime – Dokumente Studienverlag 2014 pp. 434–436; Francis X. Clines ‘Gorbachev Calls, Then Polish Party Drops Its Demands’ NYT 23.8.1989; Castle Triggering Communism’s Collapse pp. 204–210.
309
Цит. по: Castle Triggering Communism’s Collapse p. 207. John Tagliabue ‘Man in the News: Tadeusz Mazowiecki – A Catholic at the Helm’ NYT 19.8.1989.
310
John Tagliabue ‘Jaruzelski, Moved by “Needs and Aspirations” of Poland, Names Walesa Aide Premier’ NYT 20.8.1989.
311
Idem ‘Wider Capitalism to Be Encouraged by Polish Leaders’ NYT 24.8.1989.
312
Idem ‘Poles Approve Solidarity-Led Cabinet’ NYT 13.9.1989.
313
Скоукрофт цит. по: Thomas L. Friedman ‘The Challenge of Poland’ NYT 25.8.1989. Bush quoted in GHWBPL Telcon Bush–Kohl call 23.6.1989 Oval Office p. 2.
314
Taubman Gorbachev pp. 481–483, 428.
315
О Балтийском вопросе см.: Kristina Spohr Germany and the Baltic Problem after the Cold War: The Development of a New Ostpolitik, 1989–2000 Routledge 2004 pp. 20–22; Graham Smith (ed.) The Baltic States: The National Self-Determination of Estonia, Latvia and Lithuania St Martin’s Press 1996 pp. 132–133. О современных репортажах о Балтийской цепи см.: Michael Dobbs ‘Baltic States Link In Protest “So Our Children Can Be”’ WP 24.8.1989; Francis X. Clines ‘Poland Condemns Nazi-Soviet Pact’ NYT 24.8.1989. Cf. Esther B. Fein ‘Moscow Condemns Nationalist “Virus” in 3 Baltic Lands’ NYT 27.8.1989; Michael Dobbs ‘Independence Fever Sets Up Confrontation’ WP 27.8.1989.
316
Mary Elise Sarotte The Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall Basic Books 2014 p. 24. Документы Штази см.: BStU Sekretariat Mittig 27 Blatt 120–130 ‘STRENG GEHEIM! Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe: «Hinweise auf wesentliche motivbildende Faktoren im Zusammenhang mit Anträgen auf ständige Ausreise nach dem nichtsozialistischen Ausland und dem ungesetzlichen Verlassen der DDR»’ Berlin 9.9.1989 esp. p. 3.
317
David Childs The Fall of the GDR Longman 2001 p. 66. Serge Schmemann ‘Sour German Birthday; Humiliation of Exodus to West Overwhelms East Berlin’s Celebration of First 40 Years’ NYT 6.10.1989.
318
Hans Michel Kloth Vom Zettelfalten zum freien Wählen: Die Demokratisierung der DDR 1989/90 und die ‘Wahlfrage’ Ch. Links 2000 p. 295; ‘DDR: Zeugnis der Reife’ Der Spiegel 20/1989 15.5.1989 pp. 24–25; Schmemann ‘Sour German Birthday’.
319
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Berlin (hereafter PAAA) Zwischen-Archiv (ZA) 139.798E Dr. Mulack an Bundesminister – Betr.: Vorsprache und Zufluchtnahme von Deutschen aus der DDR in unseren osteuropäischen Vertretungen 20.6.1989 p. 3.
320
BStU ZA ZAIG 5352 Blatt 124–134 ‘Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe: “Hinweise zum verstarkten Missbrauch des Territoriums der Ungarischen Volksrepublik durch Bürger der DDR zum Verlassen der DDR sowie zum Reiseverkehr nach der UVR” 14.7.1989. Этот документ включает договор 1969 г. См. также: Memcon of Fischer-Horn talks in East Berlin 31.8.1989, опубликовано в Horst Möller et al. (eds) Die Einheit: Das Auswärtige Amt, das DDR-Außenministerium und der Zweiplus-Vier-Vertrag (hereafter DE) Vandenhoeck & Ruprecht 2015 doc. 2 p. 76 fn. 4.
321
Vermerk des stellv. Referatsleiters 513, Mulack – Ausreisewillige DDR. Bürger in Ungarn, опубликовано в: DE doc. 1 pp. 73–74 and fn. 2; BStU ZA ZAIG 4021 Blatt 1–192 hier Blatt 79–89 ‘MfS – Der Minister: Referat auf der Sitzung der Kreisleitung der SED im MfS zur Auswertung der 8. Tagung des ZK [Auszug]’ 29.6.1989.
322
Sebestyen Revolution 1989 p. 311.
323
Ibid. pp. 312–313; Meyer 1989 pp. 98–102.
324
Meyer 1989 p. 102; Richard A. Leiby The Unifi cation of Germany, 1989–1990 Greenwood Press 1999 pp. 10–11; Protzman ‘Westward Tide of East Germans Is a Popular No-Confidence Vote’.
325
См.: DE doc. 1 p. 74.
326
DE doc. 2 p. 78 fn. 5; Kunzmann to StS Lautenschlager – Betr.: Versorgung der Deutschen aus der DDR in den Botschaften Prag, Warschau und in Ungarn 5.9.1989, опубликовано в: DE doc. 3 pp. 79–81.
327
BStU ZA ZAIG 4021 Blatt 1–192 hier Blatt 79–89 ‘MfS – Der Minister: Referat auf der Sitzung der Kreisleitung der SED im MfS zur Auswertung der 8. Tagung des ZK [Auszug]’ 29.6.1989; DE doc. 2 p. 75.
328
Protzman ‘Westward Tide’.
329
Sarotte The Collapse p. 25.
330
Memo by Stern to Seiters 8.8.1989 and Mem-con of Duisberg-Nier talks 11.8.1989, опубликовано в: DESE docs 20 and 21 pp. 351–355. Serge Schmemann ‘Illness Sparks Succession Watch in East Germany’ NYT 24.7.1989 p. 3; Robert J. McCartney ‘East Germany “Paralysed”’ WP 14.9.1989.
331
PAAA ZA 178.925E StS Dr. Sudhoff (Bonn) – Mein Gespräch mit dem ungarischen AM Horn (14.8.1989) 18.8.1989 p. 4.
332
Германские версии записей переговоров двух встреч между Колем, Геншером и Неметом и Хорном, которые обе состоялись 25.8.1989, см.: DESE docs 28–9 pp. 377–382. Перевод на англ. см.: NSAEBB No. 490.
333
Memcon by Genscher on Kohl’s meeting with Neméth and Horn, Schloss Gymnich, опубликовано в: DESE doc. 28 p. 380; Kohl Ich wollte pp. 71–74 here esp. p. 74.
334
DESE doc. 28 pp. 378–379 and NSAEBB No. 490; Letter from Kohl to Németh 4.10.1989 and Memcon of Kohl–Delors talks 5.10. 1989, опубликовано в: DESE docs 57, 58 pp. 442–443; Kohl Ich wollte p. 74.
335
Kramer ‘The Demise’ p. 834.
336
Kohl Ich wollte p. 75.
337
О разговоре Хорн–Фишер 31.8.1989, см.: DE doc. 2 pp. 75–79 и Cable from Bertele to BK Chef 1.9. 1989, опубликовано в в: DESE doc. 34 p. 391; SAPMO ZPA J IV 212/039/77 Verlauf der SED Politbürositzung am 5. September 1989 (Streng geheim!) 5.9.1989; часть записи заседания Политбюро СЕПГ также опубликована в: MoH:1989 doc. 79 pp. 515–516.
338
Gyula Horn Freiheit, die ich meine: Erinnerungen des ungarischen Aufienministers, der den eisernen Vorhang öffnete Hoffmann & Campe 1991 pp. 327–328; Serge Schmemann ‘Hungary Allows 7,000 East Germans to Emigrate West’ NYT 11.9.1989; Henry Kamm ‘Hungary’s Motive: Earning Western Goodwill’ NYT 15.9.1989.
339
Ferdinand Protzman ‘Thousands Swell Trek to the West by East Germans’ NYT 12.9.1989; Craig R. Whitney ‘The Dream of Reunion; Idea of One Germany Gains New Currency’ NYT 12.9.1989.
340
Telegram Kohl to Németh 12.9.1989, printed in DESE doc. 40 p. 404; Helmut Kohl Vom Mauerfall zur Wieder-vereinigung: Meine Erinnerungen Knaur-Taschenbuch 2009 pp. 51–58; Protzman ‘Thousands Swell Trek’.
341
Zelikow & Rice Germany Unified p. 68; Mem-con of Seiters-Horváth talks in Bonn 19.9.1989, printed in DESE doc. 41 p. 405; John Tagliabue ‘East Germans Get Permission To Quit Prague For West’ NYT 1.10.1989.
342
О ярости ГДР-овского режима см.: ‘Letter from GDR Ambassador to Hungary, Gerd Vehres, to Foreign Minister Oskar Fischer’ 10.9.1989 DAWC или опубликованное в: MoH:1989 doc. 81 pp. 518–520; О точке зрения Кремля см.: Jonathan Steele Eternal Russia: Yeltsin, Gorbachev, and the Mirage of Democracy Harvard UP 1994 pp. 184–185; Kramer ‘The Demise’ pp. 836–837; Taubman Gorbachev p. 484; MoH:1989 doc. 90 p. 548; Zelikow & Rice Germany Unified p. 68; Memcon of Gorbachev–Honecker Meeting in Moscow 28.6.1989, опубликовано в: Daniel Küchenmeister (ed.) Honecker – Gorbatschow: Vieraugengespräche (hereafter Vieraugengespräche) Dietz 1993 p. 209. О беседах Коля и Горбачева в Бонне по поводу двусторонних экономических отношений и германской помощи 13 июня 1989, см.: Memcon of Kohl–Gorbachev Talks with Delegations in Bonn 13.6.1989, опубликовано в: DESE doc. 4 pp. 294–299.
343
PAAA ZA 139.798E BStSL ‘Betr.: Aktuelle Zahl der Zufluchtssuchenden’ 27.9.1989.
344
Tagliabue ‘East Germans Get Permission to Quit Prague for West’.
345
Запись переговоров Геншера с мининдел ЧССР Йоханесом 25.9.1989 в Нью-Йорке опубликована в: DE doc. 7 pp. 97–99; Записи переговоров Геншера с министрами иностранных дел Шеварднадзе (СССР), Йоханесом (ЧССР), Фишером (ГДР), Дюма (Франция), и Бейкером (США) 28.9.1989 в: DE doc. 8 pp. 100–101 and fns 2, 4; и письмо Фишера Хонеккеру 29.9.1989, опубликованы в: DE doc. 10 pp. 106–107. См. также: PAAA ZA 178.931E Vermerk, Betr.: Gespräch BM mit AM Schewardnadze am 27.9.1989 in New York (Kleiner Kreis), 27.9.1989; and PAAA ZA 178.924E Note from Genscher to Shevardnadze 29.9.1989; Genscher Erinnerungen pp. 14–19.
346
SAPMO DY 30/ J IV 2/2A/3243 Protokoll der Sitzung des Politbiros 29.9.1989. По вопросам собственности см.: SAPMO DY 30/ J IV 2/2A/3245; Genscher Erinnerungen pp. 19–21.
347
Genscher Erinnerungen pp. 21–22; Richard Kiessler & Frank Elbe Ein runder Tisch mit scharfen Ecken: der diplomatische Weg zur deutschen Einheit Nomos 1993 pp. 33–38; DESE docs 51-7 pp. 429–442; Дневниковая запись сотрудника посольства в Праге Томаса Штридера (Thomas Strieder) 30.9–1.10.1989, опубликовано в: DE doc. 12 pp. 110–111 fn. 3.
348
DE doc. 12 pp. 110–114; Genscher Erinnerungen pp. 22–24.
349
Tagliabue ‘East Germans Get Permission To Quit Prague For West’
350
Genscher Erinnerungen part 1 pp. 27–204.
351
Ibid. pp. 13–14. Геншер цит. по: Serge Schmemann ‘More Than 6,000 East Germans Swell Tide of Emigres to the West’ NYT 2.10.1989; cр. Kohl Meine Erinnerungen pp. 60–61.
352
DE doc. 12 pp. 110–114; Tagliabue ‘East Germans Get Permission To Quit Prague For West’; Похожая сцена была той ночью в Варшаве, где более 800 немцам, скопившимся на территории посольства ФРГ, разрешили выехать на поезде в Западную Германию, в пограничный город Хелмстед. См.: Cable by Bertele to Chef BK 2.10.1989, опубликовано в: DESE doc. 52 pp. 430–432. Воспоминания посла Хубера см.: prag.diplo. de/cz-de/botschaft/-/2176350.
353
Memo by Duisberg to Klein, 2.10.1989, printed in DESE doc. 54 pp. 435–436; Kiessler & Elbe Ein runder Tisch pp. 42–44; Sarotte 1989 pp. 31–33. Об атмосфере в поездах, следовавших из Польши через ГДР в ФРГ, cр. DESE doc. 52 p. 432.
354
Геншер цит. по: Schmemann ‘More Than 6,000 East Germans’.
355
Schmemann ‘Sour German Birthday’.
356
BStU MfS Rechtsstelle 100 HA Konsularische Angelegenheiten S ‘Reiseverkehr DDR–CSSR’ (не датировано, но около 3.10.1989). См. также: Paula Butturini ‘East Germany Closes Its Border After 10,000 More Flee To West’ CT 4.10.1989.
357
Cр. BStU MfS ZAIG 3804 Blatt 1–6 ‘Ministerium für Staatssicherheit: Information no. 438/89 ‘über erste Hinweise auf Reaktionen und Verhaltensweisen von Personen der DDR im Zusammenhang mit der zeitweiligen Aussetzung des pass- und visafreien Reiseverkehrs’ 4.10.1989.
358
Telcon of Kohl–Adameč call 3.10.1989 and Seiters-Duisberg talks and contacts 3–4.10.1989, опубликовано в: DESE docs 55-6 pp. 437–441; DE docs. 14-15 pp. 115–120. Восточногерманские источники об организации поездов см. в: SAPMO DY 30/ J IV 2/2A/3245 and DY 30/IV 2/2.039/342.
359
Sarotte The Collapse pp. 30–31. ‘Freedom Train TIME 16.10.1989; Serge Schmemann ‘East Germans Line Emigré Routes, Some in Hope of Their Own Exit’ NYT 5.10.1989.
360
BStU Außenstelle Dresden BV Dresden LBV 10167 Blatt 1–5 ‘Schilderung der Ereignisse in Dresden zwischen dem 3. und dem 8.10.1989 durch den Leiter der BVfS Dresden, Böhm’ 9.10.1989; Patrick Salmon et al. (eds) Documents on British Policy Overseas, Series III, Volume VII, German Unifi cation, 1989¬1990 (hereafter DBPO III VII GU 1989–90) Routledge 2010 doc. 14 p. 34. См. также: Ferdinand Protzman ‘Jubilant East Germans Cross to West in Sealed Trains’ NYT 6.10.1989.
361
О Путине см.: Vladimir Putin et al., First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia’s President Putin Public Affairs 2000 pp. 69–81; Fiona Gill & Clifford G. Gaddy ‘How the 1980s Explains Vladimir Putin’ The Atlantic 14.2.2013; Entry 5.10.1989 Дневниковая запись А.С. Черняева 1989 NSAEBB No. 275.
362
Erklärung der DDR-Volkskammer zu den aktuellen Ereignissen in der Volksrepublik China, 8.6.1989, printed in Neues Deutschland 8.6.1989; Мысли Хонеккера о Китае, высказанные им Яо Илиню см.: Serge Schmemann ‘East Germans Let Largest Protest Proceed In Peace’ NYT 10.10.1989.
363
Восточный Берлин был особенно заинтересован в выводах КПК в отношении причин протестного движения. См.: SAPMO ZPA IV 2/2.035/33 Bericht für das Politbüro über die Lage in der VR China (III. Quartal 1989), опубликовано в: Werner Meißner (ed.) Die DDR und China 1945–1990: Politik – Wirtschaft – Kultur. Eine Quellensammlung (hereafter DDR-CHINA:PWK) Akademie Verlag 1995 doc. 201 pp. 406–407.
364
SAPMO ZPA JIV 2/2A/3247 Memcon of Jian–Krenz talks in Beij ing 26.9.1989, опубликовано в: DDR-CHINA:PWK, doc. 204 pp. 412–414 esp. p. 413.
365
SAPMO ZPA JIV 2/2A/3247 Memcon of Qiao–Krenz talks in Beijing, 25.9.1989, опубликовано в: DDR-CHINA:PWK doc. 203 pp. 409–411 esp. p. 410.
366
SAPMO DY 30/ J IV 2/2A/3247 ‘Protocol #43 of the Meeting of the Politburo of the Central Committee of the SED’ 17.10.1989 p. 5 DAWC.
367
‘ How “Gorbi” Spoiled East Germany’s 40th Birthday Party’ Spiegel-Online 7.10.1989.
368
David Holley ‘Under Tight Wraps, China Marks 40th Anniversary of Communist Rule’ LAT 2.10.1989. Примечательно, что на трибуне в Пекине присутствовал и один американец – бывший госсекретарь Александр Хейг, который, как писали газеты, находился в Китае с частным визитом. Об этом ничего не сказано в мемуарах Буша и Скоукрофта, у Бейкера. Но кажется невероятным, чтобы публичное присутствие Хейга на праздновании не было одобрено Бушем. См.: Lee Feigon ‘Bush and China: What’s a Massacre Between Friends?’ CT 12.12.1989.
369
Nicholas D. Kristof ‘”People’s China” Celebrates, but without the People’ NYT 2.10.1989; Li quoted in ‘40 Years of Communism – China to Celebrate Loudly’ The Baltimore Sun 16.8.1989.
370
DBPO III VII GU 1989–90 doc. 17 p. 42; Sebestyen Revolution 1989 pp. 332–334; BStU MfS ZAIG 7314 Blatt 1–30 ‘Plan der Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit während des 40. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik – 6–8.10.1989’ 27.9.1989; BStU MfS ZAIG 8680 Blatt 1 15–21 ‘Hinweise für Kollegiumssitzung 3.10.1989 Hinweise zur Aktion “Jubiläum 40”’ 3.10.1989. For Honecker’s speech on 6.10.1989, available at Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern – German Historical Institute – Washington DC (hereafter DGDB-GHIDC).
371
Taubman Gorbachev pp. 484–485. Serge Schmemann ‘Gorbachev Lends Honecker a Hand’ NYT 7.10.1989. Cр. Maier Dissolution p. 148.
372
Serge Schmemann ‘Police and Protestors Clash Amid East Berlin Festivity’ NYT 8.10.1989.
373
SAPMO ZPA J IV 2/2.035/60 Memcon of Honecker–Gorbachev meeting 7.10.1989 and SAPMO ZPA J IV 2/2.035/60 Memcon of SED Politburo meeting with Gorbachev 7.10.1989, опубликовано в Vieraugengespräche docs 20-1 pp. 240–266 esp. pp. 241, 243, 256; Schmemann ‘Gorbachev Lends Honecker a Hand’ .
374
SAPMO ZPA J IV 2/2.035/60 Memcon of SED Politburo meeting with Gorbachev 7.10.1989, опубликовано в: Vieraugengespräсhe doc. 21 p. 256. Советская версия этой записи: MoH:1989 doc. 88 p. 545; Schmemann ‘Gorbachev Lends Honecker a Hand’. См. также: Горбачев. Собр. соч. Т. 16. С. 206–211.
375
Gorbachevs ‘Festansprache zum 40. Jahrestag der DDR (7.10.1989)’ Neues Deutschland 9.10.1989; Горбачев цит. по: Schmemann ‘Gorbachev Lends Honecker a Hand’; Горбачев. Собр. соч. Т. 16. С. 199–200.