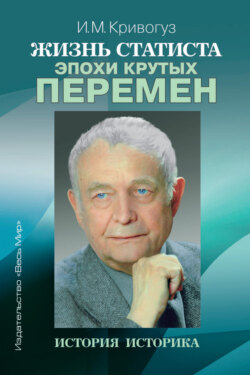Читать книгу Жизнь статиста эпохи крутых перемен. История историка - - Страница 9
II
НА ФРОНТАХ
4
Партизанскими тропами
ОглавлениеОднако даже в августе 1942 г. мне, оказавшемуся в действующих войсках, попасть на передовую было непросто. Коммунистический батальон, бойцом которого я стал, насчитывал несколько сотен девушек и ребят. Кажется, в него были призваны все грозненские комсомольцы, закончившие средние школы и не имевшие тогда постоянной работы. Из ребят в нем собрали тех, кого военкоматы не призвали из-за изъянов здоровья или по малолетству. Мы гордились, что потребовались для защиты города, и были готовы с оружием в руках под руководством имевших боевой опыт командиров противостоять наступавшему противнику. Надеялись, что прав был Наполеон, утверждавший, что стадо баранов во главе со львом одолеет стадо львов во главе с бараном.
Нас было две роты девушек и одна ребят. Обмундирования не получили, оставались в чем пришли. Выдали всем только пилотки. Батальон расположился в пустовавшем военном городке пехотного военного училища в конце проспекта Революции неподалеку от станции Грознефть. Здесь имелось достаточно помещений с двухэтажными кроватями и санузлов, учебных аудиторий и площадок для строевой и боевой подготовки. По размещению и распорядку занятий роты мало общались друг с другом. Но вечерами у нас была возможность встречаться и обмениваться впечатлениями с девушками из соседних рот.
Многим ребятам строевая подготовки была трудна, ею нас и не донимали. Вели занятия младшие командиры и лейтенанты из выздоравливавших и ограниченно годных. Большинство из них имело боевой опыт и стремилось подготовить нас к предстоявшим боям. Обучали обращаться с трехлинейками Мосина и полуавтоматическими СВТ (самозарядная винтовка Токарева), а также с ППД (пистолет-пулемет Дегтярева) и ручным пулеметом. Тренировались преодолевать препятствия, ползать, малой саперной лопаткой рыть укрытия. Политруки довели до нас суровый приказ Главнокомандующего № 227 и разъясняли наши задачи на политинформациях. Вскоре приняли присягу, и нам выдали винтовки. Мне досталась СВТ с предупреждением, что ее следует беречь от пыли, чтобы не заедал механизм. Но стрельб не проводилось – недоставало патронов.
Уставные отношения соблюдали только с командирами, а между собой рядовые их не придерживались. После обеда мы занимались «самоподготовкой»: дружескими разговорами и чтением. За месяц с интересом и пользой прочел имевшиеся в библиотеке городка книги «Библиотеки командира» Лиддель Гарта, Гудериана и других. Внимательно изучил обе части «Боевого устава пехоты РККА», в котором запомнилось понравившееся требование в атаке под огнем не залегать, а выходить из огня броском на противника. Прочел «Боевой устав артиллерии», познакомился с некоторыми «наставлениями по стрельбе». Это стало основой моего военного самообразования.
Нас неплохо кормили в столовой неподалеку от казарм. Маршируя по улицам, роты распевали красноармейские песни. Взводы по очереди несли караульную службу. Однажды, когда наш взвод был дежурным, я, стоя на посту, в три часа ночи задремал минут на пятнадцать. Бдительный старшина, командовавший нашим взводом, неслышно утащил мою винтовку. Стряхнув сон и не обнаружив ее, я тихо прокрался в караульное помещение, где нашел свою СВТ в оружейной пирамиде. С ней, незамеченным, вернулся на пост. Спустя час старшина, приведший мне смену, с изумлением проверял номер моего оружия, чтобы убедиться, что это все же моя СВТ.
Увольнительные для посещения семей нам выдавали раз в неделю. Мы видели, как пустеет город. На улицах без карточек дешево продавались редкие виды продовольствия: сахар, невиданный прежде яичный порошок и прочее. Стало понятно, что распродавались запасы, которые уже не было возможности вывезти.
Власти и командование укрепрайона, наверное, делали для обороны все возможное и призывали всех жителей встать на защиту города. Вместе с тем принимались меры, чтобы в случае захвата города противником он не мог получить действующие нефтепромыслы, заводы, транспорт. Вероятно, немецкое командование как раз рассчитывало захватить и использовать нефтепромыслы, заводы, имевшиеся в городе ресурсы – налетов авиации пока не было.
Ночами с севера доносился гул артиллерии, на горизонте виднелись вспышки. Настроение было бодрым. Все были готовы к тому, что в любой момент нас бросят на приближавшуюся к городу передовую, а о последствиях никто не думал.
Однажды вечером командир роты послал меня в обком комсомола, находившийся неподалеку на проспекте Революции. В приемной секретаря уже сидело полтора десятка наших бойцов, в основном девушек. Поочередно вызывали в кабинет на беседу к секретарям и представителю ЦК ВЛКСМ Осипову.
«Что будешь делать, если окажешься на территории, захваченной противником?», – спросили меня. Ответил без раздумья: «Искать связи с партизанами, доставать оружие для борьбы с оккупантами». Еще пара подобных вопросов и ответов, и, после некоторого ожидания в приемной, мне сообщили, что направляюсь на курсы подготовки партизан для действий в тылу врага. Отпустили домой, чтобы через день явился в обком в полной готовности к выезду.
Это был ошеломительный поворот, открывавший возможность быстро пройти военную подготовку и участвовать в боях. Забежал в казармы, доложил командиру, сдал оружие, захватил сумку и отправился домой. Родители и сестра приняли все как должное. Съездил попрощаться с сестрой мамы – моей тетей Полей и ее мужем П.М. Чернышевыми, не скрывавшими своего огорчения. Случайно встретил Иру, которая загорелась поехать со мной на партизанские курсы, но была сильно простужена.
* * *
В назначенный день ранним утром в обком комсомола пришли пятеро: четыре девушки с большими корзинами и я с портфельчиком с мылом, полотенцем и трусами. Меня назначили старшим. Осипов вручил мне предписание, в котором говорилось, что все учреждения должны нас поддерживать и обеспечивать передвижение. Он сказал, что направляемся в партизанскую школу в Москву поездом через Кизляр, Астрахань и далее. Но обстановка все время меняется, поэтому в Астрахани мы должны явиться в окружком комсомола, передать запечатанный пакет и действовать по указанию окружкома.
С главного вокзала на местном поезде отправились в Гудермес. Там через военного коменданта вокзала получили пустой вагон-рефрижератор в длинном составе рефрижераторов с продовольствием, направлявшемся в Москву. Охранявшие поезд военные моряки во главе с главстаршиной очень интересовались девушками, тем более что в их корзинах имелись пироги и другая домашняя еда. Поезд отправился вечером, чтобы Червленский мост, уже контролировавшийся немецкой авиацией, пройти в темноте.
Установил в вагоне дежурство и сам заступил первым. Дежурил у немного приоткрытой широкой правой двери рефрижератора, у которой девушки поставили свои корзины с продовольствием.
Поезд без огней очень медленно поднимался по длинной насыпи на мост через поблескивавший внизу Терек. Желая размяться, выскочил из вагона и пошел рядом. Справа у реки едва виднелись крыши домов затемненной станицы Червленой. Вспомнилось: «Ночь светла, над рекой ярко светит луна, и блестит серебром голубая волна». Но, к счастью для нас, луна была новорожденной и светила слабо. Чуть приотстав от двери, в просвете между вагонами услышал и увидел, что слева от поезда горизонт гудит и полыхает взрывами и осветительными ракетами. Этот фронт был так близко, а нас отправили на какой-то другой. Что встретим в дороге, доберемся ли до Москвы?
Сдав дежурство одной из девушек, заснул. Утром же обнаружилось, что ночью, когда на станции Кизляр дежурная широко открыла дверь для проветривания вагона, исчезли корзины. Если раньше девушки подкармливали меня и угощали военморов, то теперь у нас совсем не было еды. Просить о помощи моряков было неловко: уж очень резко Аня Козлова пресекла их приставания к девушкам.
Посчитав необходимым и возможным достать продовольствие из рефрижераторов, я пролез в соседний вагон через вентиляционный люк в торце. Там оказались невиданные нами жестяные килограммовые консервные банки с разными видами мяса. Достали несколько и были сыты только хлеба не имели.
Поезд ехал неторопливо. Однажды он остановился среди степи, и мы увидели, что машинисты и военморы бегут от него подальше. Оказалось, над нами немецкий самолет. Не успели мы вылезти из вагона, как он сбросил две бомбы, разорвавшиеся в стороне от поезда, и улетел. Убегавшие вернулись, и поезд пошел дальше. Второй раз остановились на перегоне по сигналу путевого обходчика, который сообщил, что впереди на железной дороге появились немецкие мотоциклисты – разведка. Выждав пару часов, машинисты, надеясь, что разведчики уже уехали, продолжили путь.
Заря последнего дня сентября, когда мы прибыли в Астрахань, была удивительно холодной. Мы зябли в своей легкой одежде. Покидать поезд, направлявшийся в Москву, не хотелось. Но надо было явиться в астраханский окружком комсомола. Узнали у машиниста, где в Астрахани найти поезд через сутки, и выгрузились. Захватили, сколько могли унести, консервных банок с мясом. Совесть нас не тревожила: ведь банок был целый эшелон. Переправились паромом через Волгу, нашли окружком комсомола, вручили пакет, и нас отправили не на московский поезд, а на Красную Набережную, 71, где в бывшем Доме инвалидов формировалась спецшкола 005 Штаба партизанского движения юга.
* * *
Южный штаб Партизанского движения или Штаб партизанского движения юга был создан, кажется, в июне 1942 г. для координации деятельности уже имевшихся штабов партизанского движения Ростовской и других областей, краев и республик Северного Кавказа и Крыма. Осенью 1942 г. он располагался в Сочи. Его начальником был П.И. Селезнев – первый секретарь Краснодарского крайкома партии и член Военного совета Северо-Кавказского фронта. ШПДЮ подчинялся Центральному штабу Партизанского движения в Москве, начальником которого являлся П.К. Пономаренко. Центральный штаб во всех штабах партизанского движения и их школах имел своих представителей, направлял инструкторов и обеспечивал финансирование и материально-техническое снабжение. Конкретные задачи партизанских отрядов вырабатывались местными штабами в координации с командованием действующих там армий. Оружия и продовольствия недоставало, и партизанским отрядам рекомендовалось захватывать оружие и боеприпасы у противника и самим находить продовольствие. Уже в октябре 1942 г., как сообщал в Москву ШПДЮ, на оккупированной врагом территории региона действовало 80 партизанских отрядов и во всех краях, областях и автономиях региона создавались партизанские школы, готовились новые отряды и группы, которые нуждались в оружии, продовольствии и других средствах.
Школа 005 в Астрахани – в зоне возглавлявшегося М.А. Сусловым краевого штаба партизанского движения, была создана 15 сентября 1942 г. по приказу представителя ЦШПД при 28-й армии И.И. Рыжикова для решения задач расширения и ужесточения партизанской борьбы, выдвинутых в приказе Сталина 0089 от 5 сентября 1942 г. Начальником школы назначили бывшего начальника военкомата Калмыкии политрука А.М. Добросердова, комиссаром – политрука из штаба 28 армии А.С. Павлова, а заместителем начальника по учебной работе – лейтенанта И.Я. Безрукавного.
Отведенные школе строения Дома инвалидов занимали огромный квартал. У входа с единственной проходной стоял административный корпус, в глубине – здание с учебными классами и столовой, слева – общежития и склады, в подвале одного из которых имелся тир, сооруженный, видимо, для инвалидов.
Занятия в школе вели инструкторы по оружию, минно-подрывному делу, радиосвязи, тактике. В штате были командиры учебных взводов и врач. Школа была рассчитана на обучение сотен курсантов, которых из городов и районов региона присылали комитеты ВКП(б) и комсомола, а также органы НКВД. Штатный состав получал обмундирование и военные оклады, курсантам выплачивали по 10–20 рублей в месяц, да каждого выпускника одевали на 800 рублей и выдавали по 100–150 рублей. С самого начала в курсантах недостатка не было, а инструкторов и командиров учебных взводов не хватало.
Из выпускников школы представитель ЦШПД и его сотрудники – заместитель, помощник, инспектор формировали отряды и группы, подбирая им командиров. По согласованию с ЦШПД и располагавшимся в Астрахани штабом 28 армии эти отряды и группы получали конкретные здания и забрасывались в тыл противника. После выполнения задания они две-три недели отдыхали, пополнялись, тренировались и снова отправлялись на задания. Для этого использовалась авиагруппа – несколько самолетов ПО-2 с подкрыльными гондолами для людей и грузов, а также автомобили и гужевой транспорт. Многие отряды комплектовались радистами и передатчиками. Для связи с ними использовалась радиостанция, помещавшаяся на третьем этаже учебного здания.
С 1 октября мы были зачислены курсантами этой школы. Нас расселили в разных местах, и встречались мы только на общих занятиях. А учебные группы у нас оказались разными. Меня включили в группу, обучавшуюся проведению разведки, диверсиям, подрывному делу.
За три недели в составе взвода из трех десятков курсантов под руководством инструкторов приобрел немало полезных знаний и умений. Осваивали разные виды нашего и немецкого стрелкового оружия, включая пулеметы и легкие минометы. Немецкий пистолет-пулемет МП38/40 показался мне удобнее нашего ППД, удивительно легким был их ранцевый миномет, а новинка – немецкий пулемет МГ-42 являлся шедевром конструкторской мысли. В тире учили стрелять из пистолета ТТ, револьвера и парабеллума (Р-08), а также из винтовки с глушителем, орудовать «финским» ножом. Изучали различные наши и немецкие мины, особенно их взрыватели, а также формулы расчета количества взрывчатки и выбор места ее установки для разрушения железнодорожных путей, различных видов транспортных средств, мостов и зданий, устройству фугасов и минных «сюрпризов», способам их установки, выявления и обезвреживания.
Нам растолковывали тактику передвижения и наблюдения за противником в его тылу, его уставные порядки и обычаи, звания, функции и знаки различия немецких военнослужащих, а главное – способы скрытного подхода к объектам, нейтрализации часовых, маскировки, минирования и отхода. Для тренировки нас водили за город, где мы должны были укладываться в нормативы времени для подхода к объектам, закладывания зарядов и взрыва сухих деревьев, кусков рельсов и сложенных нами из бревен мостов.
Обучение было очень интенсивным, а усваивались знания большинством курсантов слабо, так как почти никто из них не имел законченного среднего образования. Среди них я оказался преуспевающим, и уже дней через десять старший инструктор лейтенант П.Е. Чишкала начал поручать мне проводить занятия с группами отстававших курсантов. Вскоре меня досрочно аттестовали, выдали положенные выпускникам стеганые ватные штаны, куртку, шапку, 100 рублей и перевели в общежитие комсостава.
* * *
Надеялся, что назначат в отряд, и занялся изучением имевшихся сведений о возможных объектах. Отсюда отряды направлялись на железнодорожные линии ростовского узла. Но меня, выплачивая 20 рублей в месяц, использовали как инструктора-стажера по подрывному делу и переброске отрядов в тыл противника.
Уже 1 ноября ночью на огромном легковом ЗИС-101 окружкома ВКП(б) Чишкала, инструктор-стажер по радиосвязи В.А. Соколов и я выехали вверх вдоль берега Волги. Шофер вел машину по бездорожью в прибрежных песчаных холмах, чтобы не попасться разведке противника. К четырем часам 2 ноября мы прибыли в райцентр – станицу Енотаевскую. Здесь занялись подготовкой двух крупных – по 30 человек партизанских отрядов. Они были вооружены отечественными винтовками и автоматами, снабжались местным продовольствием.
Лейтенант Чишкала определял их структуру и работал с их командирами. Соколов готовил шесть девушек-радисток, осваивавших портативные радиостанции «Север». Мне поручили обучить диверсиям три десятка будущих партизан. Для практики взрывов пришлось на рыбацких гребных баркасах выезжать с ними через рукав реки на остров, где было достаточно деревьев. По реке плыло много трупов из Сталинграда. У населения уже не было сил их вылавливать и хоронить.
Ночевал в пустом доме, варил и ел выданную местной властью верблюжатину, а к празднику нам доставили посылки с продовольствием из школы. Праздничный вечер 7 ноября провел в гостях у местного руководства. Выступление Сталина по радио было плохо слышно. В его праздничном приказе всех обнадежило заявление, что «будет и на нашей улице праздник». Где и когда не догадывались, но сомнений в этом не было. После многочасовых занятий с партизанами перед сном мечтал вступить в ВКП(б), после войны поучиться в двух институтах: в каком-либо промышленном и в институте журналистики, чтобы работать «по политико-промышленной линии».
11 ноября мы трое с двумя уже подготовленными и снабженными всем необходимым отрядами выехали на передовую, чтобы обеспечить их переброску в тыл. В населенном пункте Юста в штабе полка, которым командовал майор, выяснили обстановку. Хотя комполка был уверен, что здесь противник не будет наступать, Юста в окружающей пустыне была превращена в хорошо укрепленную позицию. Ближайшие гарнизоны противника находились на 70 километров юго-западнее, и военные действия сводились к перестрелкам разведгрупп. Внезапное нападение на гарнизоны невозможно: их передовые посты имеют сигнальные ракеты. Румыны, из которых состоят гарнизоны нападающих, отбивают, но не преследуют. При нас поступило сообщение, что один из созданных противником конных отрядов калмыков неподалеку захватил и угоняет на юго-запад стадо скота. Майор распорядился послать для возвращения скота эскадрон и три автомашины с автоматчиками.
На следующий день по решению П. Чишкалы и командиров отрядов партизаны цепочками двинулись на запад. Боеприпасы, взрывчатку и немного продовольствия везли на подводах, запряженных верблюдами. Рассчитывали в темноте, не потревожив наблюдателей противника, пройти условную линию фронта. За ней должны были пробраться к железной дороге, чтобы взрывами препятствовать движению подкреплений немцев к Сталинграду. Мы провожали их почти до сумерек, а затем на автомашине вернулись в Енотаевскую.
Утром было очень холодно, дул леденящий ветер. По Волге продолжали плыть тела убитых, и показались льдинки. Смерзшийся песок покрыл снег. Валенок у нас не было. Утеплились, как могли. Ноги обмотал полотенцами и бумагой так, что еле втиснул в ботинки.
К вечеру мы втроем на полуторке с местным шофером отправились в Астрахань. Лейтенант Чишкала сел в кабину, а Соколов и я пытались укрыться от морозного ветра в кузове за кабиной. Ехали не по берегу, а известными шоферу дорогами от села к селу. На них делал набеги противник, особенно его калмыцкие отряды. Наши автоматы были наготове. Перед первым же населенным пунктом мы остановились, но решили не проводить разведку, и проскочили его на максимальной скорости, никого не встретив.
Нигде никогда в жизни я не замерзал так, как мы замерзли тогда: ноги, лица, руки потеряли чувствительность. Пришлось ночью остановиться в придорожном селении у знакомых шоферу калмыков. Они сказали, что наезжают то немцы, то наши, а сейчас нет никого. Машину загнали во двор, огороженный высоким забором. Хозяин был председателем сельсовета. Нас встретили приветливо. Помогли снегом оттереть лица, ноги и руки. Сварили огромный чан конины – махан, и на коврах в большой комнате угостили нас чашками бульона, большим количеством горячего мяса и острым душистым калмыцким чаем.
На ночь лейтенант установил наше дежурство. Переночевали и выехали без тревог. К вечеру следующего дня мы, опять основательно промерзшие, добрались до нашей школы.
На своем пути к Астрахани не видели наших войск, не встретили ни одной заставы. Это нас встревожило: ведь мотомеханизированный полк противника от доступного ему места нашего ночлега мог беспрепятственно пройти к городу и захватить устье Волги. Не знаю, что докладывал начальству Чишкала, а нам с Володей оставалось лишь надеяться, что такого полка у немцев не найдется. Успокоились только после сообщений об окружении противника у Сталинграда.
Соколову и мне, отсутствовавшим в день принятия новичками присяги партизана, дали ее прочесть и подписать. Но два подготовленных нами отряда на радиосвязь с астраханским центром не выходили. От каждого из нас – Чишкалы, Соколова и меня – командование потребовало докладные о переходе ими линии фронта. Мы с Соколовым по очереди дежурили на радиостанции у старшины П.С. Метелкина, чтобы в случае появления связи конкретными вопросами о деталях распознать, не работает ли радистка под контролем немцев. Все напрасно. Никаких известий об этих отрядах представительство ЦШПД не получило.
Только в начале 1960-х годов я натолкнулся в журнале «Октябрь» на рецензию о воспоминаниях бывшего адъютанта командира одной из немецких дивизий, двигавшихся по железной дороге к Сталинграду. Он сообщил, что на их воинский эшелон в середине ноября 1942 г. напали, как выяснилось, два партизанских отряда. Превосходя их численностью, вооружением и боевым опытом, немцы смогли окружить всех нападавших. Тела убитых и всех живых по приказу генерала сожгли огнеметами.
Судя по датам, почти уверен, что это были два наших отряда. Видимо, их командиры, вопреки полученным инструкциям, объединили свои силы и замыслили не просто взрывать рельсы, а напасть на эшелон. Поэтому с самого начала не выходили на связь, рассчитывая потом доложить о своей крупной победе.
Продолжали выполнять задания, которые получал от представителя ЦШПД И.И. Рыжикова или его заместителя майора В.П. Шестакова. В тренировочном марш-броске командовал отрядом, который выполнил учебное задание, но потерял много курсантов отставшими. Считал, что тех, кто не может выдерживать темп, не следует брать на задание. Проводя занятия в школе и в командировках, знакомился со многими командирами и курсантами, расспрашивал вернувшихся партизан о действиях в тылу врага, жестоких боях с противником у Арзгира, хутора Соленого. Среди партизан были люди разных национальностей, включая калмыков.
Вместе с тем сложилось впечатление, что бойцы и командиры подбираются без должной требовательности и в целом их подготовка и вооружение для выполнения выдвигавшихся задач слабоваты. Дисциплина оставалась низкой. Взаимоотношения были товарищеские, партизанские, не уставные. Рыжиков называл своих подчиненных «шарашкиным войском». Он добивался укрепления дисциплины. Требовал от инструкторов обстоятельной отчетности о подготовке партизан, что я не всегда делал и за что получил нагоняй.
С Петром Евдокимовичем Чишкалой мне довелось выполнять ряд других заданий по подготовке и переброске партизан. А однажды вылетел с ним на разборку конфликта районной власти с местным партизанским отрядом, засевшим в камышовых зарослях плавней на острове. Не предприняв никаких действий против оккупантов, эти «партизаны» уже после отхода противника продолжали пьянствовать и отбирать у населения продовольствие. На вооруженное сопротивление властям они не решились, и мы уехали, а ими занялся прокурор.
О себе Чишкала ничего не рассказывал, да и вообще был молчалив. Только позже из архивов я узнал, что до войны он кончил физкультурный техникум, служил в Красной армии и в первую неделю войны был ранен. Вылечившись, закончил в Москве Высшую школу особого назначения и в ней командовал учебной ротой. Затем был направлен старшим инструктором минно-подрывного дела в распоряжение представителя ЦШПД при штабе 28-й армии, в Астрахань. В его личном деле значилось: «Предан партии Ленина–Сталина и Социалистической Родине». Был к тому же умелым и требовательным. Он не был женат и, по моим наблюдениям, довольствовался редкими случайными встречами с добрыми женщинами.
Ездил в командировки и самостоятельно. На автомашинах или на самолете, иногда в гондолах ПО-2 добирался в разные места к партизанам с оружием и боеприпасами. Новый год встретил и слушал по радио приветствие Калинина в большом русском селе Логань, откуда 1 января 1943 г. в гондоле самолета вернулся в Астрахань.