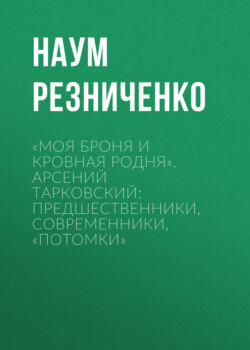Читать книгу «Моя броня и кровная родня». Арсений Тарковский: предшественники, современники, «потомки» - Н. А. Резниченко - Страница 2
Глава первая
«Вы, жившие на свете до меня»
(Диалог с традицией как «пантеон» культурных героев)
ОглавлениеВ основании поэтического космоса Арсения Тарковского лежит глубокое и органическое чувство мировой культурной традиции, перерастающее в прямой диалогический контакт с её знаковыми фигурами – устроителями культурной Ойкумены и проводниками духовной энергии, которая связывает прошлое, настоящее и будущее в единстве большого времени культуры. В одном из своих последних интервью поэт говорил: «Культура даёт человеку понимание не только своего места в современности, но устанавливает ещё тесную связь между самыми разными эпохами. У меня есть стихотворение, где я говорю, что мог бы оказаться в любой эпохе в любом месте мира, стоит мне только захотеть»[2]:
Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нём.
(I, 242)
Тарковский воспринимал историю культуры как циклический процесс – как непрерывный круговорот культурных эпох и универсальный метасюжет о «вечном возвращении» культурных героев.
В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит, —
Он хочет Мо́иси играть,
А не врагов отца карать.
(I, 69)
По деревне ходит Каин
Стёкла бьёт и на расчёт,
Как работника хозяин,
Брата младшего зовёт.
(I, 305)
«Воинствующий» культуроцеитризм поэтического сознания Тарковского лучше всего характеризуют слова Мандельштама о «тоске по мировой культуре», определившие жизнетворческую интенцию поэтов акмеистической школы, которой во многом наследовала муза Тарковского. В статье «Слово и культура», написанной в 1921 году, когда был разрушен «старый мир» и мировая история упёрлась, по слову Блока, в «мировую ночь», Мандельштам писал: «Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозём, оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днём, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времён <…> Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл <…> ни одного поэта ещё не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер <…> В священном исступлении поэты говорят на языке всех времён, всех культур»[3].
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная, —
(I, 207)
напишет Тарковский сорок лет спустя с такой же щемящей интонацией и глубокой верой в силу поэтического слова, связующую времена и эпохи. А спустя ещё десять – на закате жизни – он напрямую обратится к Пушкину:
Подскажи хоть ты потомку,
Как на свете надо жить —
Ради неба или ради
Хлеба и тщеты земной <…>
(I, 329)
Подобно Петрарке, писавшему письма Гомеру, Вергилию, Цицерону и другим колоссам античности как живым адресатам, в своих стихах Тарковский «вступал в переписку» с великими предшественниками, воспринимая их как мифологических культурных героев, не только участвующих в мироустройстве, добывании предметов культуры, обучении людей земледелию, приемам охоты, ремёслам, искусствам и т. п., но и помогающих человеку в решении важнейших экзистенциальных вопросов, придающих ему духовные силы для жертвенного творческого «горения», без которого невозможна подлинная поэзия:
Вы, жившие на свете до меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли,
Спасибо вам, вы хорошо горели.
А разве я не хорошо горю <…>?
(I, 80)
К концу творческого пути в лирике Тарковского сформировался обширный «пантеон» культурных героев, объединённых общей судьбой мучеников и страстотерпцев, изгнанников и странствующих пророков. «От Алигьери до Скиапарелли», – так определил поэт персоналий своего «пантеона». Но не следует придавать этой строке буквальный ономастический смысл. «От Алигьери до Скиапарелли» – это прежде всего красивое созвучие итальянских фамилий, ласкающая слух гармония ассонансов и аллитераций. Опираясь на полный каталог культурных героев Тарковского, выстроенный в хронологическом порядке, эту строку можно прочитать и как «от Прометея до Пауля Клее» – с тем же эвфоническим эффектом. Самое же правильное прочтение – «от альфы до омеги», поскольку этот фразеологизм выражает абсолютную полноту субстанциальной исчерпанности и – одновременно – метафизической неисчерпаемости. Основание для такого прочтения даёт стихотворение позднего Тарковского «Мартовский снег»:
По такому белому снегу
Белый ангел альфу-омегу
Мог бы крыльями написать
И лебяжью смертную негу
Ниспослать мне как благодать.
(I, 350)
Стихи написаны в предчувствии близкого смертного часа, в пору подведения итогов «земной жизни», пройденной, по Данте, и во второй её половине, когда взору открывается вся «альфа-омега» жизненного пути, определённого поэтом как «путь от земли до высокой звезды» (I, 367). «От… до…» – Тарковский вообще очень любит эту грамматическую связку, как идеальную «формулу», выражающую предельную степень космологической полноты художественного объекта:
Дышит мята в каждом слове,
И от головы до пят
Шарики зелёной крови
В капиллярах шебуршат.
(1,311)
Его (народа – Н.Р.) словарь открыт во всю страницу, От облаков до глубины земной.
(I, 190)
Явь от потопа до Эвклида
Мы досмотреть обречены.
(I, 244)
«От потопа до Эвклида» – у Тарковского эта фраза обретает космогонический смысл: от хаоса – к космосу, от мирового беспорядка – к устроенному миру, возникшему в результате титанических усилий богов и культурных героев, в число которых вошёл и великий древнегреческий геометр, научивший людей правильно измерять Землю.
Показательно, что в названии его последней авторской книги использована та же грамматическая модель – «От юности до старости». Сакральный подтекст этого названия эксплицируют стихи из 70-го псалма Давида, чьё имя является центральным в ономастиконе культурных героев Тарковского: «Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня <…>» (Пс., 70: 17–18).
Исследователи поэзии Тарковского как-то обходили стороной проблему типологизации его культурных героев – «брони и кровной родни» поэта. Исключение составил С.А. Мансков, в диссертации которого была предпринята попытка такой типологизации[4]. Попытка эта не кажется нам удачной, поскольку учёный включил в список культурных героев, по сути, всех мифологических, литературных и исторических персонажей, упоминаемых в стихах поэта. К примеру, владычицу царства мёртвых Кору, жену Орфея нимфу Эвридику, лесного божка Пана и сатира Марсия, жестоко наказанного за дерзость Аполлоном-Мусагетом. В разряд «литературных архетипов» (определение С. Манскова) исследователь включил шекспировского Гамлета и целую плеяду пушкинских героев – Германна, Мариулу, Изору, а также Раскольникова, упомянутого в «программном» стихотворении «Малютка-жизнь». К разряду «исторических культурных героев» отнесены Жанна Д’Арк, ассирийский царь Шамшиадад I, которого поэт «проклинает» вместе со всеми «глинобородыми» ближневосточными деспотами и «богами-народоубийцами» (I, 91); балерина Матильда Кшесинская, снискавшая особую известность своими романами с великими князьями из дома Романовых (да простится нам этот невольный каламбур!); татарский хан Мамай и Нестор-летописец. На наш взгляд, исследователь неоправданно расширяет понятие «культурный герой», в результате чего размываются логико-семантические границы термина. Следует отделить культурного героя как творца, демиурга, мастера или культурного медиатора от знакового образа культуры, ставшего образом-символом в ходе мирового культурно-исторического процесса, как это случилось с Гамлетом и некоторыми другими литературными героями. Что касается исторических персонажей, здесь тоже требуется дифференциация в рамках определения научного понятия. Статусу культурного героя, безусловно, соответствует Нестор-летописец или библейский царь Давид, принадлежащий, по справедливому замечанию С. Манскова, сразу к нескольким типологическим группам: «историческим» и «библейским» культурным героям, «мифологизированным творцам-художникам» и даже к «литературным архетипам»[5]. Но имена Мамая, Кшесинской и Шамшиадада оказались в этом списке по какому-то странному недоразумению. То же относится к братоубийце Каину, его жертве Авелю и воскрешённому Христом Лазарю, включённым С. Мансковым в группу «библейских культурных героев».
На наш взгляд, в типологию культурных героев Тарковского следует включить только те имена, которые связаны с выдающимися достижениями в истории человеческой культуры, с установлением конституирующих культурный космос первоначал и принципов, дополнив критерий терминологической точности парадигмой «жертвенная судьба пророка или первооткрывателя великих идей», что соответствует авторской концепции поэзии как жизнетворческого «горения». Чтобы избежать путаницы в определении тематических разделов словаря имён, мы предлагаем регионально-хронологический принцип, соотнесённый с общепринятой периодизацией мировой истории. Тогда типология культурных героев поэзии Тарковского примет следующий вид.
2
Тарковский А.А. Собр. соч.: В 3 т. T. 2. М.: Художественная литература, 1991. С. 241. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках тома и страницы римской и арабской цифрами. Курсив в цитатах мой – Н.Р.
3
Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2 т. T. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 169–171. В дальнейшем все цитаты из произведений Мандельштама приводятся по этому изданию с указанием в скобках тома и страницы арабскими цифрами.
4
См.: Мансков С.А. Поэтический мир А.А. Тарковского (Лирический субъект. Категориальность. Диалог сознаний). Дис… канд. филол. наук. Барнаул, 1999. С. 120–123.
5
Там же. С. 122.